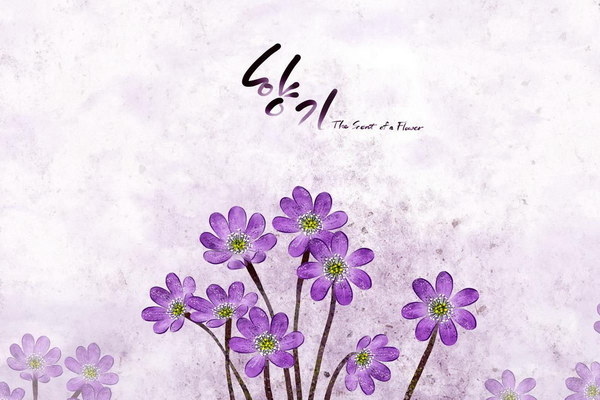Им и ими
Да, путь страданий, похоти и безумства –
идущая рука к руке, моя избранница.
В угаре и красноречии гении соревнуются,
но их попытки не стоят и обрубка пальца.
Когда пишу, то вспоминаю тебя: боль
от сорокачасового перелета в маленький город,
рейс пропущен, следующий – зимой,
в сорокаградусный мороз за такой же водкой.
И слова бесцельно мертвы, как мертв язык.
А рифмы не сыщешь в день ясный с факелом,
и я, как обреченный на скитания иезуит,
смеюсь, стоя перед судом. На плаху
отправляются странные люди, а их мысль
выходит багряным из шеи, уха и рта.
Господь был когда-то, нужные ему спаслись,
а остальным он оставил порно и лимонад.
И мы, как на качелях, изо дня в день,
на искупление преступлений не хватит мелочи –
святые люди! Ты, я, и твоя тень –
каждую ночь я просыпаюсь от запаха человечины.
Так смешно оттого, что в душе весна,
а на деле – тело, падающая с обрыва вниз слеза.
Это как кричать идущему по рельсам "Стоять!",
когда ты – водитель идущего поезда.
Нет, это правда смешно: как можно знать
о том, что глаза – это суть души,
и при этом их так тщательно скрывать,
что на другое смотреть нет сил?
Но вот мой вагон пришел, мой смех,
восьмидесятилетней крепости, как чилийские вина.
За окнами твоих потухших век
инкогнито автора висит картина.
Я не приду больше покупать вино
или курить, жеманно говоря, лавируя среди дверей –
пусть твой измызганный анатомией тьютор
шастает, как зверь или прохиндей.
А на станции Автово стряслась жалость –
там, в сумрачных абстракциях, повесилась поэтесса.
Ей искренне, почти честно, казалось,
что она – созерцатель идущего вдаль прогресса.
Но не будем о грустном: смотри вперед –
там, где-то на юге, ходит счастливая леди.
От нее у меня язык отпадает и сердце жжет,
как в детстве на огромной качели.
И хоть вижу ее во снах, как двоякий образ,
мне легкости хотя бы на мгновение не хватало.
Теперь пишу, мне вторит ее же голос,
как солнце следует за измотанным караваном.
Как ни странно, я все же в предвкушении весны,
где под черным стволом просыпающейся рябины
буду писать о ней, как о панацее от суеты
или о тонком цветке жизни.
А сейчас - ужасающая жизнь вокруг,
гротеск и безумие – мне все смешно.
Я человеком был и не перестану вдруг,
ведь я не Жан Поль и не Сирано.
Что ж, меня это не тревожит.
идущая рука к руке, моя избранница.
В угаре и красноречии гении соревнуются,
но их попытки не стоят и обрубка пальца.
Когда пишу, то вспоминаю тебя: боль
от сорокачасового перелета в маленький город,
рейс пропущен, следующий – зимой,
в сорокаградусный мороз за такой же водкой.
И слова бесцельно мертвы, как мертв язык.
А рифмы не сыщешь в день ясный с факелом,
и я, как обреченный на скитания иезуит,
смеюсь, стоя перед судом. На плаху
отправляются странные люди, а их мысль
выходит багряным из шеи, уха и рта.
Господь был когда-то, нужные ему спаслись,
а остальным он оставил порно и лимонад.
И мы, как на качелях, изо дня в день,
на искупление преступлений не хватит мелочи –
святые люди! Ты, я, и твоя тень –
каждую ночь я просыпаюсь от запаха человечины.
Так смешно оттого, что в душе весна,
а на деле – тело, падающая с обрыва вниз слеза.
Это как кричать идущему по рельсам "Стоять!",
когда ты – водитель идущего поезда.
Нет, это правда смешно: как можно знать
о том, что глаза – это суть души,
и при этом их так тщательно скрывать,
что на другое смотреть нет сил?
Но вот мой вагон пришел, мой смех,
восьмидесятилетней крепости, как чилийские вина.
За окнами твоих потухших век
инкогнито автора висит картина.
Я не приду больше покупать вино
или курить, жеманно говоря, лавируя среди дверей –
пусть твой измызганный анатомией тьютор
шастает, как зверь или прохиндей.
А на станции Автово стряслась жалость –
там, в сумрачных абстракциях, повесилась поэтесса.
Ей искренне, почти честно, казалось,
что она – созерцатель идущего вдаль прогресса.
Но не будем о грустном: смотри вперед –
там, где-то на юге, ходит счастливая леди.
От нее у меня язык отпадает и сердце жжет,
как в детстве на огромной качели.
И хоть вижу ее во снах, как двоякий образ,
мне легкости хотя бы на мгновение не хватало.
Теперь пишу, мне вторит ее же голос,
как солнце следует за измотанным караваном.
Как ни странно, я все же в предвкушении весны,
где под черным стволом просыпающейся рябины
буду писать о ней, как о панацее от суеты
или о тонком цветке жизни.
А сейчас - ужасающая жизнь вокруг,
гротеск и безумие – мне все смешно.
Я человеком был и не перестану вдруг,
ведь я не Жан Поль и не Сирано.
Что ж, меня это не тревожит.
Метки: