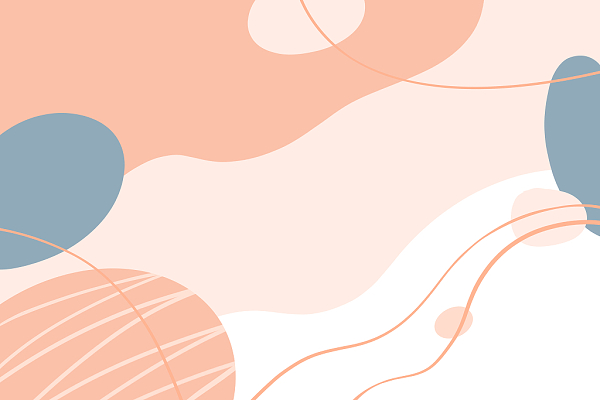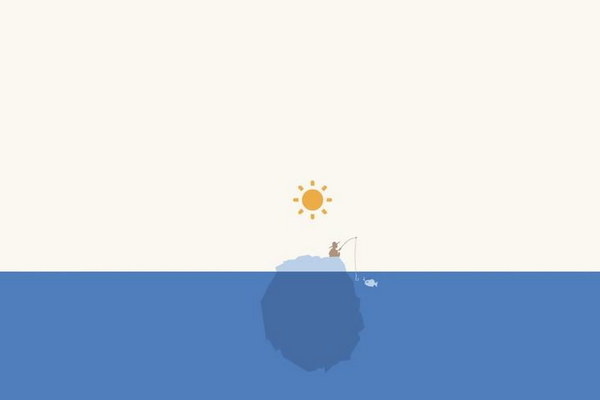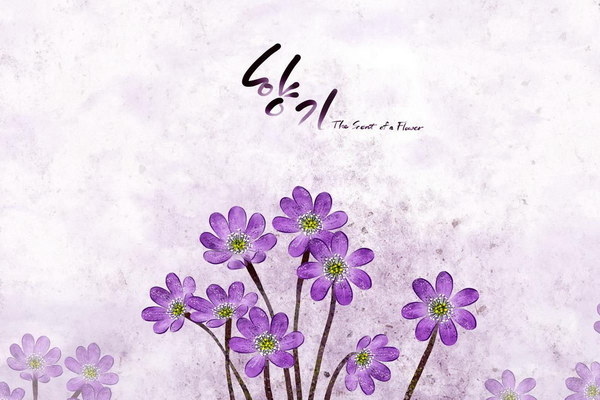Дневник ее соглядатая
В четыре утра надевает красное и садится у батареи,
Курит виржинию, вдруг сорвется и ты ее позовешь.
Девушка пела в церковном хоре о том, что сломались реи
И теперь свобода манёвра держать в косметичке нож.
Это какая-то лента, нет, не нуар, скорее Антониони.
Я отколю еще подосиновик из морозилки в скотч.
С уровнем подоконника смешаны люди-кони,
И последний читатель в ?Додо? забирает Пелевина прочь.
Ты выводишь автографы им ровным почерком, явно улучшенным с института,
Ты читаешь стихи размеренно, на безударных перемыкая тон.
Она надевает красное, думает – всё решает одна минута
И лучше, чтоб Цезарь в Риме был громко в тебя влюблен.
Вы пройдетесь с ним под руку, Быков напишет вам три колонки,
А потом получите премию, как завещал Андрей.
Но тут она понимает, что ногти ужасно ломки,
И красное платье мигает с опушки рей.
***
?Можно я буду тебя баюкать? - думала-думала и уснула,
Ну а во сне можно видеть Умку – как он к виску приставляет дуло.
Это хлопушка, ты слышишь, Умка, только не вздумай перечить,
Я просыпаюсь и верю снуло, что выпадает какой-то нечет.
Можно я буду тебе не сниться – просто вязать тебе из мохера.
Все виноградники мира выжать, травушку выкосить на корню.
Можно я буду (москиты в церкви) воск проливать, и такая вера
Нам не дает утром бить посуду, перекрывает любовь мою.
Нет, я конечно осталась первой, кто дотянуться не смог до света.
Если б смогла, с обожженным пальцем, все разлетелись бы кто куда.
Я заблудилась за горизонтом – пусть приезжает за мной карета,
Бледные кони пасутся в поле – это недетская ерунда.
Можно я буду тебя баюкать – просто спою тебе три куплета,
Даже наверное без припева, чтобы пространство не загружать.
Можно я буду тебя баюкать – скоро наступит другое лето,
Я придушила в себе поэта, так, до поры, время рожь не жать.
***
Я здесь читаю поэта Кольцова –
Он не писал о таких циферблатах,
Время в которых струится и точит
Наши пространные письма без прозы.
Он не писал о таких авторучках,
Что заедают на каждой десятой
Цельной строфе, а тебе ведь неймется
Выбить у всех целину из-под пальцев.
Я здесь читаю поэта Кольцова –
В нашей необщей, но влажной отчизне
Уровень слёз, производных осадков
Не приближается к заданной норме,
Можешь мне верить. Но ты не проснешься,
Не сфокусируешь взгляд на обложке
И не кивнешь – дескать, знаю такого,
Кровная почва, сгорел от чахотки
В столько-то лет. Ты конечно же старше,
Но ненамного. А я здесь читаю,
Мы бы могли оказаться на суше,
Там, где не ходят корветы другие.
***
Наверно у нас было общее детство – кефир в треугольных пакетах,
пионеры, авоськи и зоосад.
Потом тамагочи, паленые джинсы, ксероксы и приставки.
Сейчас нам об этом пишут всё время, а иногда молчат,
И я достаю свой самый пустой наряд, из простыней удавки,
Если верить мемуаристике, можно связать, но жить,
Даже в таком разреженном состоянии (пишешь напропалую,
Втайне надеясь, что тень бессмертия нам обеспечит прыть).
В себе ничего не скрыть – читаешь меня живую.
Наверно у нас была общая юность – конечно не литинститут,
Но на одной шестой земли этих аудиторий много.
Наверно ты думал, что все остальные и так умрут
И всё устаканится тут – ни к чему беспокоить Бога.
Иногда мы ходим по общему тротуару, не отрывая глаз
От этой линии Маннергейма, о которой я не написала,
А потом прочла у тебя, и помилуй закройщик нас,
Поднимающий ножницы над головой устало.
Наверно у нас были общие книги – какой-нибудь Томас Манн,
Какой-нибудь Фолкнер и виды Йокнапатофы.
Мы их закрывали вместе. А кто не умрет от ран,
Напишет какие-нибудь неплохие строфы.
Нет, даже бессмертное что-нибудь, даже и про любовь,
Про то, как она налипает на стенки его сосуда.
А ты приготовь щипцы и тряпочку приготовь –
Когда это вновь, пригодится еще посуда.
Курит виржинию, вдруг сорвется и ты ее позовешь.
Девушка пела в церковном хоре о том, что сломались реи
И теперь свобода манёвра держать в косметичке нож.
Это какая-то лента, нет, не нуар, скорее Антониони.
Я отколю еще подосиновик из морозилки в скотч.
С уровнем подоконника смешаны люди-кони,
И последний читатель в ?Додо? забирает Пелевина прочь.
Ты выводишь автографы им ровным почерком, явно улучшенным с института,
Ты читаешь стихи размеренно, на безударных перемыкая тон.
Она надевает красное, думает – всё решает одна минута
И лучше, чтоб Цезарь в Риме был громко в тебя влюблен.
Вы пройдетесь с ним под руку, Быков напишет вам три колонки,
А потом получите премию, как завещал Андрей.
Но тут она понимает, что ногти ужасно ломки,
И красное платье мигает с опушки рей.
***
?Можно я буду тебя баюкать? - думала-думала и уснула,
Ну а во сне можно видеть Умку – как он к виску приставляет дуло.
Это хлопушка, ты слышишь, Умка, только не вздумай перечить,
Я просыпаюсь и верю снуло, что выпадает какой-то нечет.
Можно я буду тебе не сниться – просто вязать тебе из мохера.
Все виноградники мира выжать, травушку выкосить на корню.
Можно я буду (москиты в церкви) воск проливать, и такая вера
Нам не дает утром бить посуду, перекрывает любовь мою.
Нет, я конечно осталась первой, кто дотянуться не смог до света.
Если б смогла, с обожженным пальцем, все разлетелись бы кто куда.
Я заблудилась за горизонтом – пусть приезжает за мной карета,
Бледные кони пасутся в поле – это недетская ерунда.
Можно я буду тебя баюкать – просто спою тебе три куплета,
Даже наверное без припева, чтобы пространство не загружать.
Можно я буду тебя баюкать – скоро наступит другое лето,
Я придушила в себе поэта, так, до поры, время рожь не жать.
***
Я здесь читаю поэта Кольцова –
Он не писал о таких циферблатах,
Время в которых струится и точит
Наши пространные письма без прозы.
Он не писал о таких авторучках,
Что заедают на каждой десятой
Цельной строфе, а тебе ведь неймется
Выбить у всех целину из-под пальцев.
Я здесь читаю поэта Кольцова –
В нашей необщей, но влажной отчизне
Уровень слёз, производных осадков
Не приближается к заданной норме,
Можешь мне верить. Но ты не проснешься,
Не сфокусируешь взгляд на обложке
И не кивнешь – дескать, знаю такого,
Кровная почва, сгорел от чахотки
В столько-то лет. Ты конечно же старше,
Но ненамного. А я здесь читаю,
Мы бы могли оказаться на суше,
Там, где не ходят корветы другие.
***
Наверно у нас было общее детство – кефир в треугольных пакетах,
пионеры, авоськи и зоосад.
Потом тамагочи, паленые джинсы, ксероксы и приставки.
Сейчас нам об этом пишут всё время, а иногда молчат,
И я достаю свой самый пустой наряд, из простыней удавки,
Если верить мемуаристике, можно связать, но жить,
Даже в таком разреженном состоянии (пишешь напропалую,
Втайне надеясь, что тень бессмертия нам обеспечит прыть).
В себе ничего не скрыть – читаешь меня живую.
Наверно у нас была общая юность – конечно не литинститут,
Но на одной шестой земли этих аудиторий много.
Наверно ты думал, что все остальные и так умрут
И всё устаканится тут – ни к чему беспокоить Бога.
Иногда мы ходим по общему тротуару, не отрывая глаз
От этой линии Маннергейма, о которой я не написала,
А потом прочла у тебя, и помилуй закройщик нас,
Поднимающий ножницы над головой устало.
Наверно у нас были общие книги – какой-нибудь Томас Манн,
Какой-нибудь Фолкнер и виды Йокнапатофы.
Мы их закрывали вместе. А кто не умрет от ран,
Напишет какие-нибудь неплохие строфы.
Нет, даже бессмертное что-нибудь, даже и про любовь,
Про то, как она налипает на стенки его сосуда.
А ты приготовь щипцы и тряпочку приготовь –
Когда это вновь, пригодится еще посуда.
Метки: