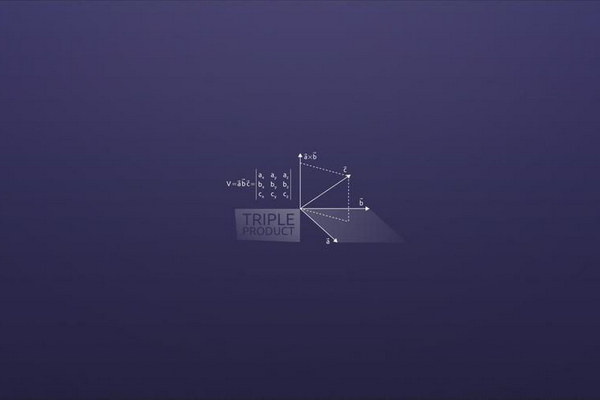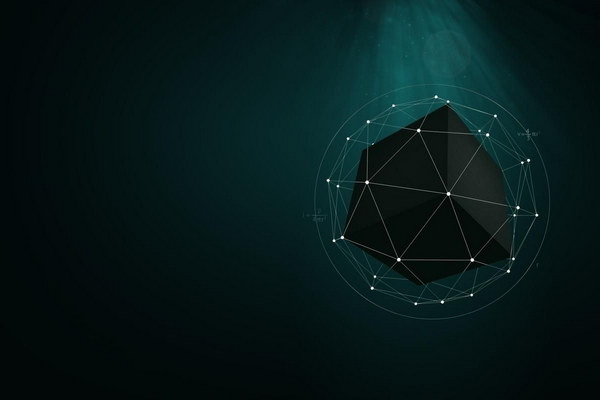Клеопатра, Клеопатра...
Она встала безо всякого смущения и со всевозможною простотою опустила в урну аристократическую ручку и вынула сверток.
—Извольте развернуть и прочитать, — сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух:
—Cleopatra e i suoi amanti...
1.
Уходят годы, и стареют друзья,
и забываются лица...
Ты неторопливо, словно в пролив ладья,
в закат вплываешь,
египетская царица.
Как будто в танце движетесь — ты, луна,
колонны и — тенью — тоска извечная, волчья.
И тихо,
и столь заразительна тишина,
что даже упавший кувшин
умирает молча.
Крест предначертанья и предназначенья зов
отвергнуты —
право, нам-то какое дело:
страдает бессонницей истолкователь снов,
телохранитель не замечает тела, —
и столько сомненья в тонком лунном серпе,
и в настенных узорах слились бесстыдство и робость,
и нет доказательств, что ты не снишься себе,
и что за этой дверью пол,
а не пропасть.
2. Мудрец
Безумцы, физики: нет женской красоты!
Глаза и волосы,
потоки и мосты,
и узнаванья век,
и расставанья миг —
все только в нас самих.
Луч увлечения, коснувшийся души,
из камня и песка
рождает миражи,
но наши призраки,
нам снящиеся сны,
смешны со стороны.
Нет этих влажных губ,
нет полных плеч лепных —
сквозь сломанный прибор
мы наблюдаем их,
к прохладным родникам
устами не припасть —
в них только наша страсть.
Безумцы, химики: нет женской красоты!..
Над вихрем атомов,
носящим имя ?ты?,
стою и чувствую,
как ты легка, светла...
Но лучше пусть игла!
Ты входишь, ты стоишь у темного окна.
О, скрипка гибкая,
кленовые тона!..
Смотрю в глухую мглу, в бездонные дымы
с надменностью Фомы.
О, дело гиблое -
проникнуть в суть вещей,
когда твой взгляд скользит, потерянный, ничей.
Как между ?эм? и ?цэ?
вместить улыбку, взгляд
в свое ?эм цэ квадрат??
Колышется листва у самого лица...
Но тающий мираж не тронет мудреца.
Не поднимая глаз, он обратится к ней:
— Пусть ты прекрасней сна —
яд аспида —
честней.
3.
Мир — это мрамор,
сырой матерьял,
ты в нем проступаешь неотвратимо.
Ты — все, что нашел я
и что потерял,
все сны,
все ступени мира и Рима.
Как будто ощупью, ты идешь, —
единственная,
и нет повторенья.
Мир — это мрамор,
в нем блажь и ложь,
а ты
пробилась травой творенья.
Еще, должно быть, мальчишка-Бог
в плену недомолвок и неумений.
Ты — первая проба.
И ты — залог
надежды:
камня коснулся гений.
Ни звука,
словно хранят секрет
деревья.
Смеркается, как ни сетуй.
И капли на лобовом стекле
колеблются, и шелестит газетой
безумный старик,
и над головой
плывут облака спокойно и немо,
и дышится
свежестью дождевой...
Но мир — бумага,
а ты — поэма.
Пусть нас величью учит ханжа,
мол, плотский пламень
низок и темен, —
но эта внешность и есть — душа
живая средь мраморных каменоломен.
Падает город
в ливневый мрак.
И все ли понять и принять сумеем,
а ты идешь и смеешься так,
будто бы ровня мы — Птолемеям.
И на воде
дождевые круги
дробятся
в неверном фонарном свете...
И мужчины, любящие других,
замирают
в предчувствии
смысла смерти.
4. Торг
А ночь любви длинней житья-бытья…
За ночь любви ты просишь жизнь мою —
цена невелика.
Наутро палачу мгновенья отдаю,
а я обрел — века.
Мой город — лабиринт,
дедалова стряпня,
где Минотавра ждем.
И стоит недоспать до наступленья дня
и выспаться потом.
Судьба моя — болезнь,
то жарко, то знобит,
и рядом — ни души...
И стоит недожить до завтрашних обид,
но этой ночью — жить.
Колени целовать твои, тебе шептать
нездешние слова,
с тобой перелистать запретную тетрадь
родства и естества,
в космических садах всю ночь бродить вдвоем
вдоль тартаровых стен...
Вот только о цене что думают в твоем
Госкомитете цен?
Что скажут книжники, мудрейшие в стране?
Неравный торг для них —
ночь Клеопатры и —
отметка в глубине
нотариальных книг.
Итак, смеркается, крадется к облакам
пронзительная тишь...
Ну, что ж, заметано, ударим по рукам.
Но ты продешевишь.
5. Песенка
Безмолвны вековые плиты.
Глаза мои темнее мглы,
и губы ждут, полуоткрыты,
и груди смуглые круглы,
и руки ласковы и слабы,
и легок розовый муслин...
Я морем стать твоим смогла бы.
Но сказки — слаще для мужчин.
И вновь без устали и лени
плету старинное вранье,
и прячу в зябкие колени
лицо горящее свое,
а за стеною ветры дуют,
и ночь туманна и смутна...
Прозреешь ли, когда минуют
одна
и тысяча одна?
Поймешь ли ты, над облаками
паря
в бесплотности ночной,
что только этими руками,
что только — высшею ценой?..
Так: мы во власти сил неравных.
Мудрец предпочитает ложь.
Я женщина.
Я знаю правду.
А ты — обманутым уснешь.
6. Правление
Клеопатра правила в эпоху глубокого
социально-политического и экономического кризиса.
Б. С. Э.
Облачившись в хитон дневной,
Клеопатра правит страной.
Замечательная работа
для слегка хмельной головы!
Повернувшись вполоборота,
говорит советник:
— Увы,
Клеопатра, страна в развале.
Закатилась наша звезда.
Мы состарились и отстали.
Всюду ненависть, пустота.
Нас хранят высокие силы.
Нам мешает один пустяк:
что за горестные дебилы
в этом царстве
на всех постах?
Первый, чем утешу последних?
Чем я жаждущих напою?
Клеопатра: А не стоит ли нам, советник,
отменить Шестую Статью?
Советник: Каковы времена и нравы?
Всё вредители, всё враги,
всё заочные костоправы,
коррумпированные круги....
Хоть бы кто болел за идею!
В бегство кинулись, подлецы.
Эмиграция в Иудею
достигает рекордных цифр.
Скоро нам придется границы
перекрыть — до лучших времен...
Клеопатра: Жаль — не Савская я царица...
Жаль — не дожил царь Соломон...
Советник: В нас скопилось немало хлама.
В наших женщинах — спесь и желчь.
Всюду хамы. Пустеют храмы.
Есть почин — бастовать и жечь.
Академики — сплошь невежды.
Сплошь беззубы светские львы...
Все острей нехватка надежды.
А сильнее всего —
любви
не хватает, сказать по правде.
Клеопатра: Не хватает любви? Тогда
бюст на родине мне поставьте.
Будет зрелище хоть куда.
Советник: Клеопатра, доклад префекта!
Префект: Поселился в столице некто
бородатый и узкоплечий,
именуемый Сын Человечий.
Исцеляя на площадях -
притчи сказывая - к тому же
Клеопатру в речах не щадя...
Схватим — худо.
Промедлим — хуже.
Угощает духовной пищей —
не слыхал страннее науки:
счастлив плачущий, счастлив нищий...
Скотланд-Ярд умывает руки!
Клеопатра: Смысл пророчеств знает царица.
Слышу звуки сквозь сны, сквозь стены.
Он
пока еще только снится
вам, политики, полисмены.
Но однажды — быть может, даже
век спустя—нам выпадет встреча:
?Я есмь истина?,— мне он скажет.
?Я есмь истина?,— так отвечу.
И пойдем от прежнего быта,
соскользнем в незримые бреши.
Я — убитая, он — убитый,
Я — воскресшая, он — воскресший.
И в песочных часах — вторая
эра хлынет лунной лавиной,
имена на песке стирая:
Кле-О-патра ли?..
Маг-ДА-лина?..
7. Горы
На безбедный быт
наш,
вседневный бег,
смотрят горы,
не поднимая век.
Глуше дольних гроз,
громче горних труб
молвят горы, не размыкая губ.
И они говорят:
— Отрешись!
Что за блажь,
что за глупая прихоть —
жизнь?
Что посмеешь,
к смерти готовясь?..
На мгновенье над пропастью остановись.
Только камень способен
на высшую высь,
где бессильны и страсть,
и совесть.
Никого — на тысячи лет вокруг!..
Что глядишь,
разумный, умелый?
Ты не жалуешь камня,
мол, камень глух.
Но текут столетья
и чуток слух:
слышим музыку подземелий.
Ты не жалуешь камня,
мол, камень суров.
Но — бессмертные птицы
гранитных ветров,
молчаливые кони
гранитных кровей —
мы прекрасней,
чем тело любимой твоей.
8. Цезарь — Клеопатре
Пути небесных колесниц
пересеклись, и мы столкнулись.
В дурной сумятице столиц
нас чистые лучи коснулись —
в пустом круговращенье улиц,
в слепом круговороте лиц.
Из глины слеплены одной
и на одном гончарном круге
обожжены... И круг земной
замкнулся, и сомкнулись руки,
и плыл, для музыки и муки
свободен, светлый свод дневной.
И ночь — в холодное стекло,
и ночь— в незапертые двери,
И все, что в нас произошло,
мы осознали в равной мере.
И были буквы на портьере:
?Вы встретились. Вам повезло?.
Но как случилось нам двоим
тогда — неясно и поныне —
встать и умчаться по своим
делам — в наивности? в гордыне? —
в другие — полные полыни —
глаза смотреть — и верить — им?
Как должен относиться Тот
к вам, несложившаяся пара,
к вам, удостоенным щедрот
таких — и вдруг — не взявшим дара?
Какая роковая кара
уже назначена и ждет?
Но пусть — ни слова, ни письма.
Есть счастье — пронестись кометой,
туманом, кадром синема...
Нам чистой воздалось монетой.
Мы испытали в жизни этой
то, что сильней, чем жизнь сама.
Спи, Суламифь, легко дыши!
Спи в одеянье лунном, белом.
Огню не взять твоей души:
развеется с последним пеплом
моим — чтоб ты отныне пела
в полях, не оправдавших лжи.
Страшнее нас осуждены
предавшие предназначенье,
забывшие своей струны
звучанье—чистое теченье
судьбы, сменившие свеченье
звезды на ломкий лед луны.
9.
Когда б мы только знать могли,
как выглядим на самом деле,
как мы нелепы и мокры —
две тени в суете метели.
Когда б мы обрели права
прорваться за пределы роли.
Когда б мы слышали слова
свои — банальные до боли.
Когда б нам видеть чертежи
давно построенного зданья —
своей сложившейся души
исходные предначертанья.
Когда б свершилось, волшебство,
и некий муж из звездной пыли
открыл бы тайну нам — кого
на самом деле мы любили,—
все так же снег бы шел и шел.
Мы постояли бы во мраке,
и не поверили бы — мол,
все это выдумки и враки.
10.
Любимая, как мы с тобой ликовали!
Евг. Гребнев
Как внезапно стемнело...
Сейчас бы шататься вдвоем
по светящимся улицам,
прячась в тени подворотен.
И горят светофоры,
словно свечи во храме Твоем,
именуемом город.
И ветер хмелен, приворотен.
Но прекрасно и так
вдоль кварталов идти одному,
никому в поздний час не звонить,
ни к кому не стучаться.
Ощущенье такое, неведомо почему,
будто этому городу
вправду обещано счастье.
Город, длись к Иртышу
и к созвездьям антенны тяни,
не ослепни от славы нелепой
и в смутные годы не рухни.
Так спокойно текут по бестрепетным стенам огни,
и спешат горожане твои,
и о чем-то толкуют на кухне.
И так просто скользить
среди этих случайных светил,
промелькнуть
очертаньями жизни, бесцельной и краткой,
и легко,
точно кто-то все наши долги оплатил
и любуется нами,
подсматривая украдкой.
11. Версия
Клеопатра не пьет вина.
Родниковыми вечерами
в черном платье своем,
одна
Клеопатра молится в храме.
Клеопатра не терпит мужчин.
Ни один не услышал стона,
вольной полночью
ни один
не касался жаркого лона.
И постель строга и свежа,
в темной спальне ни слез, ни смеха:
равнодушные сторожа
одиночеству не помеха.
Но лишь только с утра туман
сходит, вниз — из Нила напиться, —
и пришельцы из дальних стран
лгут доверчивым летописцам.
Лгут, а старцы строчат, сочась
сладкой слюнкой —
им мало, мало:
как встречала в закатный час,
как в рассветный час
целовала.
Лгут — и пишется вкось и вкривь,
как учила таинствам тела,
как, в густой копне утопив
руки — странные песни пела:
?Кто, смеясь, обнимал меня,
кто лечил меня от печали,
станут после мне изменять.
Но забудут
едва ли.
Удивляясь страсти своей,
полыхавшей в самом начале,
спросят после:
— Что было в ней? —
Но забудут
едва ли.
А потомки затеют суд.
И меня
на свои скрижали
шлюхой, милые, занесут...
Но забудут
едва ли.
Только горстка земли в горсти.
Вот и все. Поминай, как звали.
Бог посмотрит и — не простит.
Но забудет
едва ли?.
Нет, нечистое дело тут!
Этот козырь — крапленой масти.
Лгут — о праведной нашей, —
лгут
о не ведавшей низкой страсти,—
о затворнице,
о святой
лгут, —
внемлите, граждане судьи!..
…И о родинке золотой
затаенной —
под левой грудью.
12. Мода года
Ив Сен-Лоран
открывает женщине грудь:
на белом листе,
при мертвенном освещенье
слепой карандаш
проникает в самую суть
гармонии,
не ведающей смущенья.
Кожу
шальным холодком омоет с утра.
Случайный прохожий
не сможет молитву вспомнить...
Но эти изгибы —
росчерк иного пера.
И мастер Лоран
не нарушить пришел — исполнить.
Так в чем проблема —
в родинках на груди,
в сокровищах,
что расшвыриваешь горстями?
Заботит ли вас,
как сможет она пройти,
не задетая сумками,
зонтиками,
локтями?
— Превыше земных устоев,
легко-легко,
бессмертней снега на ветках
и влаги в чашах,
мольба о пощаде,
прохладное молоко,
прощание с веком,
прощенье
ошибок
наших.
На миг ее увлекает
к чужой черте,
и проносится облаком
лик
стремительный, строгий, —
эй, пивные, бараки, червоточины очередей!..
Превосходный год для рождения мифологий!
13.
Кто нашими дорогами пройдет
осенними хмельными вечерами,
пусть в воздухе темнеющем прочтет
все прошлое,
все то, что было с нами.
Пусть он не побоится ничего,
пусть листья полетят в дрожащей дымке,
как будто с негатива одного
одной рукой оттиснутые снимки.
И пусть он ощутит, что в этот час
сухой листвы ручьи — протоки — реки
из времени вычёркивают нас.
Покажется: пожар в библиотеке.
Он бросится сдержать, спасти, сберечь.
Он взмолится в туман неумолимый:
— О капитан!
В твоем ковчеге — течь,
раз все течет и все проходит мимо.
14.
Сбежав во тьму,
в подвал
от суматохи праздной,
царицу рисовал
художник безобразный.
Весь свет её, весь цвет,
все женское искусство,
все тридцать девять лет
блистанья и беспутства.
Всю юность гневную —
из-под ресниц — лавиной,
и нежность,
древнюю, как мир,
и нос орлиный,
и прелесть легких рук,
и пятна, пятна, пятна...
Но двери — настежь вдруг, и входит Клеопатра.
— Художник, ярок свет, — не заслонясь — рискуешь...
Мне шепчут: много лет
одну меня рисуешь.
Ты обнищал вконец,
и зреют подозренья:
а почему творец
таит свои творенья?
—О, жалок наш предел
и мрак — душа чужая.
Но я тобой владел,
тебя изображая.
Я — малой точкой был,
я не мечтал о славе.
Как я в тебе любил
все, что любить не вправе!
Еще ни в чьих руках
ты до сих пор на свете
не забывалась так,
как забывалась в этих.
Я вел тебя в ночи
сквозь каменную стену...
И я готов внести
положенную цену.
Кричи же палачу,
и — в путь вперед ногами...
Поскольку не хочу
жить с этими долгами.
—К чему, художник мой,
высокопарность слога?
Позволь, художник мой,
побыть еще немного.
Что связывает нас?..
Но, раненая птица,
царица в крайний час
к тебе придет проститься.
Ты сможешь обещать,
что в горькие мгновенья
я буду ощущать
твои прикосновенья?
И будет острой дрожь
и сладостным — незнанье:
не вечности ли дождь,
не кисти ли касанье?
15. Рассвет
В столицу хмурую—стирая
повсюду
мглы и света грань,
сквозит промозглая, сырая,
как будто раненая, рань.
Так рано, что ни слез, ни гнева,
лишь кораблями — облака.
Так рано, что земля и небо
свободно смешаны пока.
И медленно уходит с улиц
ночь — за ступенькою — ступень...
Я не заметил:
ты проснулась,
дверь скрипнула,
мелькнула тень.
Судьба моя, смешное счастье,
глоток живительной росы,
кто научил тебя прощаться
в такие ранние часы?
Девчонка с памятью короткой,
идущая в пьянящий дым,
счастливая своей походкой
и одиночеством своим, —
в рассвет — без ноши на плечах,
чуть щурясь в утренних лучах,
по ранней тишине живой,
на равных — с солнцем и травой.
16.
Золотое на черном...
Появленьем рассечь, расколоть
наши зряшные споры
на сорванной ноте...
Плоть
струится под платьем,
презренная плоть.
Только разве глаза — принадлежность плоти?
Два двукрылых созданья
летят по одной колее.
В темных чашах колышется
яд шального недуга...
Над спокойствием бархата,
над золотым колье,
над деньгами,
долгами —
пространства души и духа.
Что за тайна хранится
в гробницах надбровных дуг?
Темным инеем тушь
на ресницы ложится —
это
тушью пишутся два иероглифа —
в круге — круг,
означающие нераздельность
тени и света.
Каравеллы космические
здесь гостят иногда,
и прозренья сквозят
измерениями иными...
Острова одиночеств.
Суверенные города.
Зря мужчины мечтают о них.
Ты сама не хозяйка над ними.
Ты не нравишься мне.
Что за дело мне — не пойму.
Но в присутствии
этого иконописного зноя,
этих млечных огней, —
неуютно же будет ему,
с плеч послушных сорвавшему
черное и золотое.
17.
Блаженны мы любовники Клеопатры
блаженны широкие сердцем
ибо на всякий грех найдется прощение
блаженны смеющиеся
ибо один раз живем
блаженны жестокие
ибо выживает жестокий
блаженны сытые
ибо желание есть рабство
блаженны не знающие правды
ибо правда не отличима от лжи
уродство от красоты
боль от наслаждения
берега наших тел
омывали ее объятья
к нашим плечам
приникало ее чело
нас она породнила
теперь мы больше чем братья
мы познали ее
не узнав о ней ничего
18.
Гомеопаты, аллопаты,
к дворцу идущие толпой,
спасете ли от Клеопатры
Египет гибнущий, слепой?
Столица бредит: ?Клеопатра!..?
Над городом,
чуть ночь взойдет,
летает шкура леопарда,
впитавшая пьянящий пот.
О, клиентура скотобоен!
О, адмиралы ржавых луж!
Кто так влюблен,
уже не воин,
кто так влюблен,
уже не муж.
Как убедить моих знакомых
и незнакомцев — бедный род! —
что не сильней земных законов
надменной шеи поворот?
Пусть Рим придет:
огромной тенью
кровавой, —
шанс, царица, нам
избавиться от заблужденья, что нет цены твоим ночам.
Когда, в прозрачный шелк одета,
царица в зал вошла —
взошла,
столь глубока, как будто это
за зеркалами — зеркала.
Когда, в ручьях парчи порочной,
раскинувшись,
лежит она,
распахнута, как небо ночью,
как истина,
обнажена.
19. Последний
— Я тайно пробрался к тебе.
Прости, что тревожу в рассветный час.
Я повсюду расставил свои посты,
и чужой не застанет нас.
А впрочем, Антоний мертв — и теперь,
униженье злое стерпя,
я готов кричать, распахнувши дверь:
?Клеопатра,
люблю тебя!?
Египтянка, смотри же:
Цезаря сын,
на радость своим врагам,
все победы,
всю славу ранних седин
слагает к твоим ногам.
— Я столько лет тебя ждала —
как расскажешь? —
слабы слова...
А сейчас пожелтела — такие дела,
и уже полетела листва...
Я мечтала увидеть одним глазком
того,
кто бы все-таки смог
у колен моих не валяться щенком,
кто бы мимо прошел,
как бог.
Я ему закричала бы: ?Задержись!?
я глотнула бы горький дым. —
И за ночь его — без раздумий — жизнь…
И рабыней — без слез — за ним.
А ты — такой же, как все, смешной...
И отныне, за этой чертой,
будет меньше в мире надеждой одной
моей —
и твоей мечтой.
(И, должно быть, незачем),
раз в воде
не тону, не горю в огне,
(и, должно быть, не надо),
если нигде
не найдется равного мне...
Ну, а ты погоняй, погоняй коня,
(ах, какой сегодня туман!),
долго-долго живи —
и помни меня, триумфатор Октавиан
20. Ламбада
На закате,
на подступах
к аду
Клеопатра танцует ламбаду.
В бездну музыка с неба несется,
дремлет папоротник, —
смотри:
эти бедра на сонном солнце
словно светятся изнутри.
Стан точеный бесстыдно выгнут,
пульс колотится все сильней.
И, мне кажется, камни вспыхнут
от пыланья женских ступней.
(Юным грезится, мертвым снится
танец трепетный твой, царица).
С этой музыкой нету сладу,
льется музыка в руслах жил.
Кто хоть раз танцевал ламбаду,
душу дьяволу заложил.
О, беспутная наша вера —
улыбайся, пьяни, тумань.
Нет свидетелей, кроме ветра.
Сбрось на землю земную ткань.
(Жарок пот, растрепаны патлы
у танцовщицы Клеопатры).
Но какою такою тканью
душу сдержишь?
Умчится ввысь...
Как, хватает еще дыханья?
Клеопатра, не поскользнись!
Жизнь бесцельная,
место пусто,
Клеопатру не проворонь!
Как любовник тысячеустый,
обнимает ее огонь.
—Ламбада,
прощаясь, липну
к прохладной грани стекла.
Свободной легкостью ливня
ты вылилась,
ты прошла
лавиною листопада…
И — сблизив лбы:
спасибо, тебе, ламбада,
за ночь любви!
(Что под сердцем, смуглая муза?
— Ранка черная, след укуса...)
Смолкло море. Солнце ослепло.
Ночь спустилась, свежа, светла...
Только имя, да горстка пепла…
Но какая ламбада была!
21.
Последнее откровенье
напишется на песке.
Последнее прикосновенье
к почти прозрачной щеке.
Пронзительный взгляд актера
со сцены — во тьму кулис...
Должно быть,
поднявшись в горы
такие —
не стоит —
вниз...
Шагнуть и остановиться,
и снова — к руке —рука:
— Мы больше уже не увидимся
наверняка.
***
Так: бесконечная дорога:
ни строк, ни окрика, ни срока.
Так: беспощадная расплата
за сны, что снились нам когда-то.
Не помня букв,
не отсылая,
пиши туда, где боль былая,
где в тусклых тучах —
луч янтарный:
луч краткий, горький, благодарный.
22. Прощение
Одетый в земное, не по уставу,
заткнувший уши клочками ваты,
ходит по свету ангел усталый
и провозглашает:
— Не виноваты!
Не виноваты ни сном, ни слогом
комедианты в земном театре,
которые продали
данную Богом
жизнь —
ослепительной Клеопатре.
Не виновата и ты, царица,
что полной ценою
брала за ласки, —
не виноваты,
ибо не лица,
ибо не лица все вы,
а маски.
Ибо расчетам земным не верьте,—
родник ли
первопричина жажды?
Ибо приговоренные к смерти
не могут быть наказаны дважды.
Еще: не смоешь этого грима.
За грех пастуха не в ответе овен.
Еще: учивший: ?...да не судимы...?,
не может после сказать: виновен...
Они летят в мерцающей бездне,
летят — и жалеть о минувшем — поздно.
Они бы даже воскресли, если б
им было, куда направиться после.
23.
...Но иногда, особенно к утру,
на плитах в сад распахнутого зала,
слуг отпустив и свиту,
на ветру
царица неподвижная стояла.
Ей думалось о будущих веках,
ей долгие воображались сроки,
куда вода в прохладных родниках течет,
и Нил, и звездные потоки.
А вечность — рядом. Только взмах крыла -
и новый век... (Но вряд ли хватит взмаха
до девочки,
которой ты была,
застенчивой дурнушки в поле мака).
Что, крыльев нет? Есть опустевший храм,
разграбленное, мертвое убранство.
Друг в друга, как в часах песочных, там
перетекают время и пространство.
Теперь я знаю: в языках огня,
скользящих по седым гранитным нишам,
ты видишь так отчетливо меня,
как я тебя.
И только слов не слышим.
На сто веков вокруг — такая тишь!..
Но, может быть,
еще не все погибло.
И ты, как в стену темную, стучишь
в прозрачный воздух
Древнего Египта.
—Извольте развернуть и прочитать, — сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух:
—Cleopatra e i suoi amanti...
1.
Уходят годы, и стареют друзья,
и забываются лица...
Ты неторопливо, словно в пролив ладья,
в закат вплываешь,
египетская царица.
Как будто в танце движетесь — ты, луна,
колонны и — тенью — тоска извечная, волчья.
И тихо,
и столь заразительна тишина,
что даже упавший кувшин
умирает молча.
Крест предначертанья и предназначенья зов
отвергнуты —
право, нам-то какое дело:
страдает бессонницей истолкователь снов,
телохранитель не замечает тела, —
и столько сомненья в тонком лунном серпе,
и в настенных узорах слились бесстыдство и робость,
и нет доказательств, что ты не снишься себе,
и что за этой дверью пол,
а не пропасть.
2. Мудрец
Безумцы, физики: нет женской красоты!
Глаза и волосы,
потоки и мосты,
и узнаванья век,
и расставанья миг —
все только в нас самих.
Луч увлечения, коснувшийся души,
из камня и песка
рождает миражи,
но наши призраки,
нам снящиеся сны,
смешны со стороны.
Нет этих влажных губ,
нет полных плеч лепных —
сквозь сломанный прибор
мы наблюдаем их,
к прохладным родникам
устами не припасть —
в них только наша страсть.
Безумцы, химики: нет женской красоты!..
Над вихрем атомов,
носящим имя ?ты?,
стою и чувствую,
как ты легка, светла...
Но лучше пусть игла!
Ты входишь, ты стоишь у темного окна.
О, скрипка гибкая,
кленовые тона!..
Смотрю в глухую мглу, в бездонные дымы
с надменностью Фомы.
О, дело гиблое -
проникнуть в суть вещей,
когда твой взгляд скользит, потерянный, ничей.
Как между ?эм? и ?цэ?
вместить улыбку, взгляд
в свое ?эм цэ квадрат??
Колышется листва у самого лица...
Но тающий мираж не тронет мудреца.
Не поднимая глаз, он обратится к ней:
— Пусть ты прекрасней сна —
яд аспида —
честней.
3.
Мир — это мрамор,
сырой матерьял,
ты в нем проступаешь неотвратимо.
Ты — все, что нашел я
и что потерял,
все сны,
все ступени мира и Рима.
Как будто ощупью, ты идешь, —
единственная,
и нет повторенья.
Мир — это мрамор,
в нем блажь и ложь,
а ты
пробилась травой творенья.
Еще, должно быть, мальчишка-Бог
в плену недомолвок и неумений.
Ты — первая проба.
И ты — залог
надежды:
камня коснулся гений.
Ни звука,
словно хранят секрет
деревья.
Смеркается, как ни сетуй.
И капли на лобовом стекле
колеблются, и шелестит газетой
безумный старик,
и над головой
плывут облака спокойно и немо,
и дышится
свежестью дождевой...
Но мир — бумага,
а ты — поэма.
Пусть нас величью учит ханжа,
мол, плотский пламень
низок и темен, —
но эта внешность и есть — душа
живая средь мраморных каменоломен.
Падает город
в ливневый мрак.
И все ли понять и принять сумеем,
а ты идешь и смеешься так,
будто бы ровня мы — Птолемеям.
И на воде
дождевые круги
дробятся
в неверном фонарном свете...
И мужчины, любящие других,
замирают
в предчувствии
смысла смерти.
4. Торг
А ночь любви длинней житья-бытья…
За ночь любви ты просишь жизнь мою —
цена невелика.
Наутро палачу мгновенья отдаю,
а я обрел — века.
Мой город — лабиринт,
дедалова стряпня,
где Минотавра ждем.
И стоит недоспать до наступленья дня
и выспаться потом.
Судьба моя — болезнь,
то жарко, то знобит,
и рядом — ни души...
И стоит недожить до завтрашних обид,
но этой ночью — жить.
Колени целовать твои, тебе шептать
нездешние слова,
с тобой перелистать запретную тетрадь
родства и естества,
в космических садах всю ночь бродить вдвоем
вдоль тартаровых стен...
Вот только о цене что думают в твоем
Госкомитете цен?
Что скажут книжники, мудрейшие в стране?
Неравный торг для них —
ночь Клеопатры и —
отметка в глубине
нотариальных книг.
Итак, смеркается, крадется к облакам
пронзительная тишь...
Ну, что ж, заметано, ударим по рукам.
Но ты продешевишь.
5. Песенка
Безмолвны вековые плиты.
Глаза мои темнее мглы,
и губы ждут, полуоткрыты,
и груди смуглые круглы,
и руки ласковы и слабы,
и легок розовый муслин...
Я морем стать твоим смогла бы.
Но сказки — слаще для мужчин.
И вновь без устали и лени
плету старинное вранье,
и прячу в зябкие колени
лицо горящее свое,
а за стеною ветры дуют,
и ночь туманна и смутна...
Прозреешь ли, когда минуют
одна
и тысяча одна?
Поймешь ли ты, над облаками
паря
в бесплотности ночной,
что только этими руками,
что только — высшею ценой?..
Так: мы во власти сил неравных.
Мудрец предпочитает ложь.
Я женщина.
Я знаю правду.
А ты — обманутым уснешь.
6. Правление
Клеопатра правила в эпоху глубокого
социально-политического и экономического кризиса.
Б. С. Э.
Облачившись в хитон дневной,
Клеопатра правит страной.
Замечательная работа
для слегка хмельной головы!
Повернувшись вполоборота,
говорит советник:
— Увы,
Клеопатра, страна в развале.
Закатилась наша звезда.
Мы состарились и отстали.
Всюду ненависть, пустота.
Нас хранят высокие силы.
Нам мешает один пустяк:
что за горестные дебилы
в этом царстве
на всех постах?
Первый, чем утешу последних?
Чем я жаждущих напою?
Клеопатра: А не стоит ли нам, советник,
отменить Шестую Статью?
Советник: Каковы времена и нравы?
Всё вредители, всё враги,
всё заочные костоправы,
коррумпированные круги....
Хоть бы кто болел за идею!
В бегство кинулись, подлецы.
Эмиграция в Иудею
достигает рекордных цифр.
Скоро нам придется границы
перекрыть — до лучших времен...
Клеопатра: Жаль — не Савская я царица...
Жаль — не дожил царь Соломон...
Советник: В нас скопилось немало хлама.
В наших женщинах — спесь и желчь.
Всюду хамы. Пустеют храмы.
Есть почин — бастовать и жечь.
Академики — сплошь невежды.
Сплошь беззубы светские львы...
Все острей нехватка надежды.
А сильнее всего —
любви
не хватает, сказать по правде.
Клеопатра: Не хватает любви? Тогда
бюст на родине мне поставьте.
Будет зрелище хоть куда.
Советник: Клеопатра, доклад префекта!
Префект: Поселился в столице некто
бородатый и узкоплечий,
именуемый Сын Человечий.
Исцеляя на площадях -
притчи сказывая - к тому же
Клеопатру в речах не щадя...
Схватим — худо.
Промедлим — хуже.
Угощает духовной пищей —
не слыхал страннее науки:
счастлив плачущий, счастлив нищий...
Скотланд-Ярд умывает руки!
Клеопатра: Смысл пророчеств знает царица.
Слышу звуки сквозь сны, сквозь стены.
Он
пока еще только снится
вам, политики, полисмены.
Но однажды — быть может, даже
век спустя—нам выпадет встреча:
?Я есмь истина?,— мне он скажет.
?Я есмь истина?,— так отвечу.
И пойдем от прежнего быта,
соскользнем в незримые бреши.
Я — убитая, он — убитый,
Я — воскресшая, он — воскресший.
И в песочных часах — вторая
эра хлынет лунной лавиной,
имена на песке стирая:
Кле-О-патра ли?..
Маг-ДА-лина?..
7. Горы
На безбедный быт
наш,
вседневный бег,
смотрят горы,
не поднимая век.
Глуше дольних гроз,
громче горних труб
молвят горы, не размыкая губ.
И они говорят:
— Отрешись!
Что за блажь,
что за глупая прихоть —
жизнь?
Что посмеешь,
к смерти готовясь?..
На мгновенье над пропастью остановись.
Только камень способен
на высшую высь,
где бессильны и страсть,
и совесть.
Никого — на тысячи лет вокруг!..
Что глядишь,
разумный, умелый?
Ты не жалуешь камня,
мол, камень глух.
Но текут столетья
и чуток слух:
слышим музыку подземелий.
Ты не жалуешь камня,
мол, камень суров.
Но — бессмертные птицы
гранитных ветров,
молчаливые кони
гранитных кровей —
мы прекрасней,
чем тело любимой твоей.
8. Цезарь — Клеопатре
Пути небесных колесниц
пересеклись, и мы столкнулись.
В дурной сумятице столиц
нас чистые лучи коснулись —
в пустом круговращенье улиц,
в слепом круговороте лиц.
Из глины слеплены одной
и на одном гончарном круге
обожжены... И круг земной
замкнулся, и сомкнулись руки,
и плыл, для музыки и муки
свободен, светлый свод дневной.
И ночь — в холодное стекло,
и ночь— в незапертые двери,
И все, что в нас произошло,
мы осознали в равной мере.
И были буквы на портьере:
?Вы встретились. Вам повезло?.
Но как случилось нам двоим
тогда — неясно и поныне —
встать и умчаться по своим
делам — в наивности? в гордыне? —
в другие — полные полыни —
глаза смотреть — и верить — им?
Как должен относиться Тот
к вам, несложившаяся пара,
к вам, удостоенным щедрот
таких — и вдруг — не взявшим дара?
Какая роковая кара
уже назначена и ждет?
Но пусть — ни слова, ни письма.
Есть счастье — пронестись кометой,
туманом, кадром синема...
Нам чистой воздалось монетой.
Мы испытали в жизни этой
то, что сильней, чем жизнь сама.
Спи, Суламифь, легко дыши!
Спи в одеянье лунном, белом.
Огню не взять твоей души:
развеется с последним пеплом
моим — чтоб ты отныне пела
в полях, не оправдавших лжи.
Страшнее нас осуждены
предавшие предназначенье,
забывшие своей струны
звучанье—чистое теченье
судьбы, сменившие свеченье
звезды на ломкий лед луны.
9.
Когда б мы только знать могли,
как выглядим на самом деле,
как мы нелепы и мокры —
две тени в суете метели.
Когда б мы обрели права
прорваться за пределы роли.
Когда б мы слышали слова
свои — банальные до боли.
Когда б нам видеть чертежи
давно построенного зданья —
своей сложившейся души
исходные предначертанья.
Когда б свершилось, волшебство,
и некий муж из звездной пыли
открыл бы тайну нам — кого
на самом деле мы любили,—
все так же снег бы шел и шел.
Мы постояли бы во мраке,
и не поверили бы — мол,
все это выдумки и враки.
10.
Любимая, как мы с тобой ликовали!
Евг. Гребнев
Как внезапно стемнело...
Сейчас бы шататься вдвоем
по светящимся улицам,
прячась в тени подворотен.
И горят светофоры,
словно свечи во храме Твоем,
именуемом город.
И ветер хмелен, приворотен.
Но прекрасно и так
вдоль кварталов идти одному,
никому в поздний час не звонить,
ни к кому не стучаться.
Ощущенье такое, неведомо почему,
будто этому городу
вправду обещано счастье.
Город, длись к Иртышу
и к созвездьям антенны тяни,
не ослепни от славы нелепой
и в смутные годы не рухни.
Так спокойно текут по бестрепетным стенам огни,
и спешат горожане твои,
и о чем-то толкуют на кухне.
И так просто скользить
среди этих случайных светил,
промелькнуть
очертаньями жизни, бесцельной и краткой,
и легко,
точно кто-то все наши долги оплатил
и любуется нами,
подсматривая украдкой.
11. Версия
Клеопатра не пьет вина.
Родниковыми вечерами
в черном платье своем,
одна
Клеопатра молится в храме.
Клеопатра не терпит мужчин.
Ни один не услышал стона,
вольной полночью
ни один
не касался жаркого лона.
И постель строга и свежа,
в темной спальне ни слез, ни смеха:
равнодушные сторожа
одиночеству не помеха.
Но лишь только с утра туман
сходит, вниз — из Нила напиться, —
и пришельцы из дальних стран
лгут доверчивым летописцам.
Лгут, а старцы строчат, сочась
сладкой слюнкой —
им мало, мало:
как встречала в закатный час,
как в рассветный час
целовала.
Лгут — и пишется вкось и вкривь,
как учила таинствам тела,
как, в густой копне утопив
руки — странные песни пела:
?Кто, смеясь, обнимал меня,
кто лечил меня от печали,
станут после мне изменять.
Но забудут
едва ли.
Удивляясь страсти своей,
полыхавшей в самом начале,
спросят после:
— Что было в ней? —
Но забудут
едва ли.
А потомки затеют суд.
И меня
на свои скрижали
шлюхой, милые, занесут...
Но забудут
едва ли.
Только горстка земли в горсти.
Вот и все. Поминай, как звали.
Бог посмотрит и — не простит.
Но забудет
едва ли?.
Нет, нечистое дело тут!
Этот козырь — крапленой масти.
Лгут — о праведной нашей, —
лгут
о не ведавшей низкой страсти,—
о затворнице,
о святой
лгут, —
внемлите, граждане судьи!..
…И о родинке золотой
затаенной —
под левой грудью.
12. Мода года
Ив Сен-Лоран
открывает женщине грудь:
на белом листе,
при мертвенном освещенье
слепой карандаш
проникает в самую суть
гармонии,
не ведающей смущенья.
Кожу
шальным холодком омоет с утра.
Случайный прохожий
не сможет молитву вспомнить...
Но эти изгибы —
росчерк иного пера.
И мастер Лоран
не нарушить пришел — исполнить.
Так в чем проблема —
в родинках на груди,
в сокровищах,
что расшвыриваешь горстями?
Заботит ли вас,
как сможет она пройти,
не задетая сумками,
зонтиками,
локтями?
— Превыше земных устоев,
легко-легко,
бессмертней снега на ветках
и влаги в чашах,
мольба о пощаде,
прохладное молоко,
прощание с веком,
прощенье
ошибок
наших.
На миг ее увлекает
к чужой черте,
и проносится облаком
лик
стремительный, строгий, —
эй, пивные, бараки, червоточины очередей!..
Превосходный год для рождения мифологий!
13.
Кто нашими дорогами пройдет
осенними хмельными вечерами,
пусть в воздухе темнеющем прочтет
все прошлое,
все то, что было с нами.
Пусть он не побоится ничего,
пусть листья полетят в дрожащей дымке,
как будто с негатива одного
одной рукой оттиснутые снимки.
И пусть он ощутит, что в этот час
сухой листвы ручьи — протоки — реки
из времени вычёркивают нас.
Покажется: пожар в библиотеке.
Он бросится сдержать, спасти, сберечь.
Он взмолится в туман неумолимый:
— О капитан!
В твоем ковчеге — течь,
раз все течет и все проходит мимо.
14.
Сбежав во тьму,
в подвал
от суматохи праздной,
царицу рисовал
художник безобразный.
Весь свет её, весь цвет,
все женское искусство,
все тридцать девять лет
блистанья и беспутства.
Всю юность гневную —
из-под ресниц — лавиной,
и нежность,
древнюю, как мир,
и нос орлиный,
и прелесть легких рук,
и пятна, пятна, пятна...
Но двери — настежь вдруг, и входит Клеопатра.
— Художник, ярок свет, — не заслонясь — рискуешь...
Мне шепчут: много лет
одну меня рисуешь.
Ты обнищал вконец,
и зреют подозренья:
а почему творец
таит свои творенья?
—О, жалок наш предел
и мрак — душа чужая.
Но я тобой владел,
тебя изображая.
Я — малой точкой был,
я не мечтал о славе.
Как я в тебе любил
все, что любить не вправе!
Еще ни в чьих руках
ты до сих пор на свете
не забывалась так,
как забывалась в этих.
Я вел тебя в ночи
сквозь каменную стену...
И я готов внести
положенную цену.
Кричи же палачу,
и — в путь вперед ногами...
Поскольку не хочу
жить с этими долгами.
—К чему, художник мой,
высокопарность слога?
Позволь, художник мой,
побыть еще немного.
Что связывает нас?..
Но, раненая птица,
царица в крайний час
к тебе придет проститься.
Ты сможешь обещать,
что в горькие мгновенья
я буду ощущать
твои прикосновенья?
И будет острой дрожь
и сладостным — незнанье:
не вечности ли дождь,
не кисти ли касанье?
15. Рассвет
В столицу хмурую—стирая
повсюду
мглы и света грань,
сквозит промозглая, сырая,
как будто раненая, рань.
Так рано, что ни слез, ни гнева,
лишь кораблями — облака.
Так рано, что земля и небо
свободно смешаны пока.
И медленно уходит с улиц
ночь — за ступенькою — ступень...
Я не заметил:
ты проснулась,
дверь скрипнула,
мелькнула тень.
Судьба моя, смешное счастье,
глоток живительной росы,
кто научил тебя прощаться
в такие ранние часы?
Девчонка с памятью короткой,
идущая в пьянящий дым,
счастливая своей походкой
и одиночеством своим, —
в рассвет — без ноши на плечах,
чуть щурясь в утренних лучах,
по ранней тишине живой,
на равных — с солнцем и травой.
16.
Золотое на черном...
Появленьем рассечь, расколоть
наши зряшные споры
на сорванной ноте...
Плоть
струится под платьем,
презренная плоть.
Только разве глаза — принадлежность плоти?
Два двукрылых созданья
летят по одной колее.
В темных чашах колышется
яд шального недуга...
Над спокойствием бархата,
над золотым колье,
над деньгами,
долгами —
пространства души и духа.
Что за тайна хранится
в гробницах надбровных дуг?
Темным инеем тушь
на ресницы ложится —
это
тушью пишутся два иероглифа —
в круге — круг,
означающие нераздельность
тени и света.
Каравеллы космические
здесь гостят иногда,
и прозренья сквозят
измерениями иными...
Острова одиночеств.
Суверенные города.
Зря мужчины мечтают о них.
Ты сама не хозяйка над ними.
Ты не нравишься мне.
Что за дело мне — не пойму.
Но в присутствии
этого иконописного зноя,
этих млечных огней, —
неуютно же будет ему,
с плеч послушных сорвавшему
черное и золотое.
17.
Блаженны мы любовники Клеопатры
блаженны широкие сердцем
ибо на всякий грех найдется прощение
блаженны смеющиеся
ибо один раз живем
блаженны жестокие
ибо выживает жестокий
блаженны сытые
ибо желание есть рабство
блаженны не знающие правды
ибо правда не отличима от лжи
уродство от красоты
боль от наслаждения
берега наших тел
омывали ее объятья
к нашим плечам
приникало ее чело
нас она породнила
теперь мы больше чем братья
мы познали ее
не узнав о ней ничего
18.
Гомеопаты, аллопаты,
к дворцу идущие толпой,
спасете ли от Клеопатры
Египет гибнущий, слепой?
Столица бредит: ?Клеопатра!..?
Над городом,
чуть ночь взойдет,
летает шкура леопарда,
впитавшая пьянящий пот.
О, клиентура скотобоен!
О, адмиралы ржавых луж!
Кто так влюблен,
уже не воин,
кто так влюблен,
уже не муж.
Как убедить моих знакомых
и незнакомцев — бедный род! —
что не сильней земных законов
надменной шеи поворот?
Пусть Рим придет:
огромной тенью
кровавой, —
шанс, царица, нам
избавиться от заблужденья, что нет цены твоим ночам.
Когда, в прозрачный шелк одета,
царица в зал вошла —
взошла,
столь глубока, как будто это
за зеркалами — зеркала.
Когда, в ручьях парчи порочной,
раскинувшись,
лежит она,
распахнута, как небо ночью,
как истина,
обнажена.
19. Последний
— Я тайно пробрался к тебе.
Прости, что тревожу в рассветный час.
Я повсюду расставил свои посты,
и чужой не застанет нас.
А впрочем, Антоний мертв — и теперь,
униженье злое стерпя,
я готов кричать, распахнувши дверь:
?Клеопатра,
люблю тебя!?
Египтянка, смотри же:
Цезаря сын,
на радость своим врагам,
все победы,
всю славу ранних седин
слагает к твоим ногам.
— Я столько лет тебя ждала —
как расскажешь? —
слабы слова...
А сейчас пожелтела — такие дела,
и уже полетела листва...
Я мечтала увидеть одним глазком
того,
кто бы все-таки смог
у колен моих не валяться щенком,
кто бы мимо прошел,
как бог.
Я ему закричала бы: ?Задержись!?
я глотнула бы горький дым. —
И за ночь его — без раздумий — жизнь…
И рабыней — без слез — за ним.
А ты — такой же, как все, смешной...
И отныне, за этой чертой,
будет меньше в мире надеждой одной
моей —
и твоей мечтой.
(И, должно быть, незачем),
раз в воде
не тону, не горю в огне,
(и, должно быть, не надо),
если нигде
не найдется равного мне...
Ну, а ты погоняй, погоняй коня,
(ах, какой сегодня туман!),
долго-долго живи —
и помни меня, триумфатор Октавиан
20. Ламбада
На закате,
на подступах
к аду
Клеопатра танцует ламбаду.
В бездну музыка с неба несется,
дремлет папоротник, —
смотри:
эти бедра на сонном солнце
словно светятся изнутри.
Стан точеный бесстыдно выгнут,
пульс колотится все сильней.
И, мне кажется, камни вспыхнут
от пыланья женских ступней.
(Юным грезится, мертвым снится
танец трепетный твой, царица).
С этой музыкой нету сладу,
льется музыка в руслах жил.
Кто хоть раз танцевал ламбаду,
душу дьяволу заложил.
О, беспутная наша вера —
улыбайся, пьяни, тумань.
Нет свидетелей, кроме ветра.
Сбрось на землю земную ткань.
(Жарок пот, растрепаны патлы
у танцовщицы Клеопатры).
Но какою такою тканью
душу сдержишь?
Умчится ввысь...
Как, хватает еще дыханья?
Клеопатра, не поскользнись!
Жизнь бесцельная,
место пусто,
Клеопатру не проворонь!
Как любовник тысячеустый,
обнимает ее огонь.
—Ламбада,
прощаясь, липну
к прохладной грани стекла.
Свободной легкостью ливня
ты вылилась,
ты прошла
лавиною листопада…
И — сблизив лбы:
спасибо, тебе, ламбада,
за ночь любви!
(Что под сердцем, смуглая муза?
— Ранка черная, след укуса...)
Смолкло море. Солнце ослепло.
Ночь спустилась, свежа, светла...
Только имя, да горстка пепла…
Но какая ламбада была!
21.
Последнее откровенье
напишется на песке.
Последнее прикосновенье
к почти прозрачной щеке.
Пронзительный взгляд актера
со сцены — во тьму кулис...
Должно быть,
поднявшись в горы
такие —
не стоит —
вниз...
Шагнуть и остановиться,
и снова — к руке —рука:
— Мы больше уже не увидимся
наверняка.
***
Так: бесконечная дорога:
ни строк, ни окрика, ни срока.
Так: беспощадная расплата
за сны, что снились нам когда-то.
Не помня букв,
не отсылая,
пиши туда, где боль былая,
где в тусклых тучах —
луч янтарный:
луч краткий, горький, благодарный.
22. Прощение
Одетый в земное, не по уставу,
заткнувший уши клочками ваты,
ходит по свету ангел усталый
и провозглашает:
— Не виноваты!
Не виноваты ни сном, ни слогом
комедианты в земном театре,
которые продали
данную Богом
жизнь —
ослепительной Клеопатре.
Не виновата и ты, царица,
что полной ценою
брала за ласки, —
не виноваты,
ибо не лица,
ибо не лица все вы,
а маски.
Ибо расчетам земным не верьте,—
родник ли
первопричина жажды?
Ибо приговоренные к смерти
не могут быть наказаны дважды.
Еще: не смоешь этого грима.
За грех пастуха не в ответе овен.
Еще: учивший: ?...да не судимы...?,
не может после сказать: виновен...
Они летят в мерцающей бездне,
летят — и жалеть о минувшем — поздно.
Они бы даже воскресли, если б
им было, куда направиться после.
23.
...Но иногда, особенно к утру,
на плитах в сад распахнутого зала,
слуг отпустив и свиту,
на ветру
царица неподвижная стояла.
Ей думалось о будущих веках,
ей долгие воображались сроки,
куда вода в прохладных родниках течет,
и Нил, и звездные потоки.
А вечность — рядом. Только взмах крыла -
и новый век... (Но вряд ли хватит взмаха
до девочки,
которой ты была,
застенчивой дурнушки в поле мака).
Что, крыльев нет? Есть опустевший храм,
разграбленное, мертвое убранство.
Друг в друга, как в часах песочных, там
перетекают время и пространство.
Теперь я знаю: в языках огня,
скользящих по седым гранитным нишам,
ты видишь так отчетливо меня,
как я тебя.
И только слов не слышим.
На сто веков вокруг — такая тишь!..
Но, может быть,
еще не все погибло.
И ты, как в стену темную, стучишь
в прозрачный воздух
Древнего Египта.
Метки: