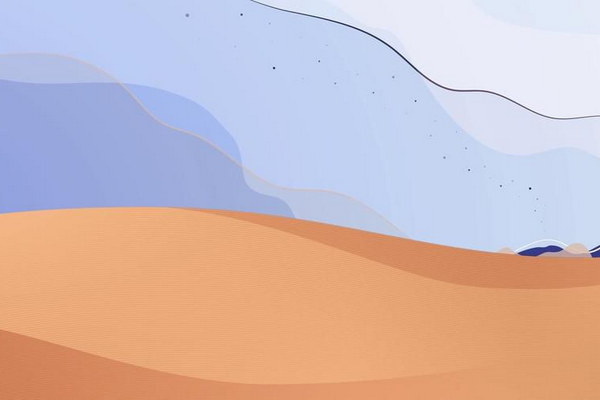Покой
Чтобы заполучить эту карту, я готовлюсь продать хотя бы душу, но покупателей все никак не находится. Хотя я неправильно, глупо начинаю. Любой, кто напишет хотя бы одно слово, стремиться, чтобы его поняли те, кто прочтет. Исключая, конечно, психически нездоровых личностей, но с порочной наглостью я себя к ним не отношу.
Итак, это началось тогда, когда мое нутро до краев, до бульканья во всех горловых трубках наполняло бездействие, меланхоличная созерцательность, сплин, хандра, или еще бог знает что – мучительное, тянущие низ живота ожидание больших и прекрасных перемен, которые никогда (НИКОГДА!) не произойдут. Потому что они вообще высокомерные снобы и привиреды, и наступают так редко, что я и вспомнить-то ни одного случая не могу. После ночи наступает тягомотное утро, я наталкиваюсь на кота и стулья, брожу, шаркая ленивыми, расплавленными сном ногами, что-то пью и ем – думаю, еду: по крайней мере надеюсь, что это была она. Потом одеваюсь, нюхаю по-собачьи, полным носом, носки, чтобы найти самую непахнущую пару, и наматываю шарф потемнее до самых глаз. От меня воняет отупением и сырой леностью непропеченного теста, так что спрятать нос в шарф было почти святой миссией, и выходил на улицу. Она, эта жирная змея, с блестящей от дождя асфальтовой чешуей, с запахами и цветами покоя и влажности – серым, зеленым, буро-желтым, коричневым, - свивала вокруг меня кольцо за кольцом. Я иду в тот час, когда некоторые окна еще светятся, тем более, что идут дожди – и смотрю, смотрю в окна, на люстры, такие типично разные, с боломбошками хрусталиков и без, на ковры на стенах, как в юртах, на подоконниковые судорожные силуэты комнатных рододендронов и прочая, вы понимаете. А улица открывает за своими изгибами что-нибудь новенькое, и моя мещанская любовь к мелким деталям обстановки удерживала меня в реальности. Ларьки на автобусной остановке открывают подмороженные покойничьи глаза-ставни, и выставленный в витрине журнал с очередным светлым ликом, отражает пятна мокрого асфальта, неба, тусклой лампочки, и блестит еще глянцевитей. От ларьков исходит тепло работающих теток, очередей и света, и они кажутся мне осколками уюта и стабильности. А на скамейке спят каждый день разные бомжи, и в их лица я вглядываюсь с особым интересом, знаю, что они скоро исчезнут, умрут уличной смертью, задавленные кольцами змеи и автодорожных развязок, и я запоминаю их, как запоминают интерьер. Мне нравится смотреть на битву битв голубей и воробьев за хлеб – как тяжеловооруженная техника и маленькие вражеские автоматчики на каких-нибудь ?ЗИЛах? или ?АМО?, не знаю, кто там на чем ездил, и ездил ли, но аллегория понятна. Я болею за воробьев, потому что самодовольные морды голубей слишком гладко переходили в шею, в обтекаемое дельфинье тело, а дельфинов я боялся до умопомрачения. Они чудовищно человекообразные, и эта пародия приводит меня в потусторонний катарсис. Короче, в итоге я добираюсь до работы со вкусом ?Доширака?, обедаю там ?Дошираком? со вкусом работы, много улыбаюсь, говорию, объясняю, советую, увещеваю, сетую, напутствовую и громыхаю, отпускаю в пляс проворную личинку языка, и она забирается людям в уши, откладывает в из мозгу яйца слов и счастливо выползает обратно, в мой теплый слизистый рот. Потом день заканчивается, так и не меняя цвета, и я иду домой абсолютно, катастрофически мрачно, поскольку весь запас улыбок исчерпан, а вступать в ипотеку добрых эмоций было негде, и поручителей к тому же у меня нет. Ларьки устало и ласково глядят мне вслед. Иногда я в них что-то покупаю, рассовываю по карманам или тащу в руках, и подъездный ненасытный рот с двумя рядами дверей впускает своего очередного Иова. Кот орет в темноте, блестя зелеными фонарными глазами. Его нужно кормить, убирать за ним, включать телевизор – чтобы ушло паразитичекое отродье, тишина. По выходным я хожу в кафе напротив своего дома, скорее для того, чтобы доказать свою принадлежность к социуму себе и коту, который явно неодобрительно ко мне настроен. Потом, по вечерам, я готовлю и ем, не разбирая горячего вкуса, и, наконец, позволяю себе то, о чем мне мечталось с момента пробуждения – я Ухожу.
Этот сон, бог мой, Этот Сон. Если верить в тебя, Отче, я признаю себя избранником твоим, осененным твоею благодатью. Ради этого сна я разрываю тонкие паучьи липкости между мной и никчемными половыми партнерами, я подвергаюсь кошачьей анафеме, я ищу с грацией крепко пьющего конкистадора чистое белье где-нибудь у себя под кроватью, где оно уже успело выветрится, я не замечаю ужасов Бытия. Если бы стоянием на коленях в ладановом царстве, плачем в церковном застывшем псалмами воздухе, огнем тростника свечей, лижущим светом иконы, я смогу вымолить еще одну ночь, я не буду выходить из храмовых ворот. Если бы у меня было это самое ?если бы?…
А так я просто закрываю глаза и жарко, как тавром к коже, умоляю пустить меня в сон. И меня пускали, день за днем, весь период моего безвременья. Обычно все начиналось на улице, вымощенной покатыми спиночками дышавших друг в друга камней с выщербленными от старости камнями. Между ними, в темных промежутках, кое-где блестели рублеными краями застрявшие монетки, торчали пыльные и до безобразия жизнелюбивые травинки. Я присаживаюсь и выковыриваю медное солнце, каждый раз одно и тоже, прошедшее через руки почти всех местных жителей. Я поглаживаю камни, прежде чем монетка оказывается в моих пальцах. Она не круглая, многоугольная, с камеей на одной стороне и парусником - на другой, потемневшая и гнутая. Я кидаю ее в карман, встаю и иду по узкой поднимающейся вверх улице. Справа от меня домики, белые и песочные, блекло-розовые и желтые, окна открыты в сад, к оливам с густозелеными плотными листьями и еще каким-то ботаническим неопознаваемым изыскам, а солнце светит торжественно и плавно, ровно настолько, чтобы едва прищуривала глаза высунувшаяся из окна медового дома с самым маленьким садом (всего пара магнолий, куст дикой розы у входа и клумба с мелкими белыми цветочками) барышня, и я не могу толком различить ее лица, но твердо знаю, что там, где встречаются удивительно тонкая кожа подглазья с верхним веком, образуется едва заметный намек на морщинки. А слева черт пойми что, какая-то высоченная скала, длинной во всю улицу, которая и завивается кружевным подъемом вокруг нее. И, уткнувшись в спину этой скалы, стоят дома – двух-, трехэтажные, беленые или облупленные до кирпича и камней, шершаво-коричневатые, горячие под ладонью. На первых этажах рисованные вывески – блеклые голубой деревянный щит с молочником, выпиленный крендель, призывно улыбающаяся рыбина, и людей никого. А иные первые этажи открываются коридором во двор (двери такие округлые, как ворота в средневековом замке, старшие братья этих, моих). И вот там, на пороге прохладных коридоров – я вижу, что они облицованы большими плитами серого мрамора и уходят в самое сердце дома (в большой обеденный зал, по-другому и быть не может), так вот на пороге коридоров и солнечного света сидят молчаливые старики на тяжелых деревянных стульях, играют в карты и шахматы, пьют из огромных пузатых стаканов темную, янтарную густую жижу с травами, и даже не смотрят на меня, когда я прохожу мимо. Но один, в дырявой соломенной шляпе, вскидывает руку мне вслед, и в бессильной неге опускает ее на округлое колено, и ветер невозмутимо треплет его штаны, и спящие у ног некоторых стариков собаки – большие и желтые, все как одна, с длинными узкими мордами, поднимают ухо мне вслед, так и не открывая глаз. Я поворачиваю, дорога ведет меня, и пахнет морем, цветами, яркими пряностями от этих кружек стариков. И в углу между повернувшей дорогой и скалой, боками упирающийся в нее, окруженный с трех сторон, какой-то треугольно-простой, темно-серый, брусочный, белозанавесочно-льняной, с открытыми настежь окнами, с дверью темного дуба (и кольцо на ручке, чтобы стучать, которое держит зубами медная морда коня), стоит мой дом. Я подхожу к своей двери, а дорога идет дальше, и заканчивается на плоской вершине, где стоят резные железные лавки, проржавевшие у ножек – три, и там, за краем – бесконечное море, все в рыбаках и белых парусах шлюпок. Я дергаю дверь своего дома, стою на пороге, вдыхая запах чистого накрахмаленного белья, теплой еды, жилого помещения (не с чем не сравнимый, и дело здесь не только в частичках кожи – дело в душе тех, кто живет), и по гладкому каменному полу бегу, бегу со всех ног, давя солнечных зайчиков, по лестнице на второй этаж, где меня кто-то ждет. Я просыпаюсь в тот момент, когда чей-то силуэт уже вырисовывается на фоне французского, в пол, окна. Еще ни разу я не прибегал вовремя. Иногда я не иду домой – я хожу по окрестностям, здороваюсь с бабушкой-зеленщицей в умопомрачительном чепце, часами сидел и кидал крошащийся хлеб с обрыва чайкам, бродил по небольшому рыночку, где на льду лежала только что пойманная рыба, красными вареными пузами застыли крабы, кальмары пучили глаза из больших эмалированных тазов, полных морской воды, хвостато оранжевела морковь на прилавках, пучились крутобокие тыквы, грудами синих продолговатышей валялись сливы, плавал в мутной воде керамических блюд сыр. Люди узнавали меня, поднимали шляпы или махали руками, улыбались, причем чем ближе ко мне в реальности была зима, и чем дольше, день за днем в нескончаемой череде, я нахожусь во сне, тем радостнее. Но выяснить, кто же ждет меня наверху, мне так и не удавалось. Я мыслю, что не узнаю этого никогда, и никогда (НИКОГДА!) скапливалось в моем сердце, разрывало волоконца, по каплям выжимало из меня все соки.
Так я и живу - в тотальном приграничье, пока не наступает одно утро февраля.
Утро мое началось довольно неудачно - я не замечаю смерти. Я сижу вполоборота к окну, смотрю в монитор, немного думаю, немного притворяюсь, что думаю - а она все это время ждет, бедная, на краю жесткого дивана, и не шелохнется. Наконец я замечаю ее.
- Здравствуйте, извините, что побеспокоила, - говорит она, натянуто улыбаясь.
- Здравствуйте. Я очень…кхм…очень… нашей встрече, не переживайте, вы меня вовсе не отвлекаете.
- Правда рады?
- Не совсем, конечно, но мне не хотелось бы вас расстраивать. Хотите кофе?
Она широко распахивает глаза.
- Вам еще никто никогда не предлагал кофе? - догадываюсь я самодовольно.
- Нет, - отвечает она, помолчав и поджав губы, - обычно вино, и, как назло, красное сухое.
- Вы не любите вина? - интересуюсь я, отодвигая плетенный ротанговый стул. Я уже делаю шаг в направлении комнатной двери.
- Терпеть не могу. Оно кислое, все во рту связывает и пахнет гниющим виноградом, - она тоже встает, и мы идем по коридору на кухню.
- Я сделаю вам кофе-фраппе, - говорю я, пока она, застыв на пороге, бегает взглядом от одного кресла к другому, стараясь не выбрать место хозяина, чтобы не обидеть меня.
- А что это? - она садится лицом к окну, спиной к двери, правильно выбрав гостевое место, и руки с длинными и тонкими (предмет моей вечной зависти) кистями кладет ладонями вверх на колени.
- Это взбитый кофе, - говорю я, открывая шкафчик. Я достаю миксер (шнур, как обычно, неаккуратно выпадает прямо на меня), банку кофе - стеклянную, ребристую, с овечками, сахарницу со стола (смерть отводит глаза, когда я подхожу близко; по-моему, немного смущается), и достаю из усталого холодильника коробку молока.
- Самое главное - не потерять время, - говорю я, и тут же краснею. Я ведь не имею ввиду ничего, связанного с ее работой, - Это я о рецептуре. Я возьму сейчас миску (вот эта, зеленая пластиковая, должна подойти), налью туда чуточку молока, столовую ложку сухого кофе положу, две ложки сахара... Так, начинаю взбивать.
Раздается этот ужасный шум, вы знаете, такой же мерзкий, как от работающего пылесоса. Не в том смысле, что звук миксера похож на утробный пылесосный рев. Они просто родствены, тождественны друг другу. Слишком механические. Пока кофе превращается в одну сплошную горку пены, смерть смотрит в окно. По-моему, в наших несколько неуставных отношениях нет ничего дурного, но она недовольна собой, да и мне неловко. Но вот сейчас, когда облако в миске начинает расти и шириться, надо быть начеку, и тоненькой струйкой я подливаю, не останавливаясь, молоко в самый центр урагана. Через пару секунд я выключаю жужжащего монстра, и он тихо захлебывается своим криком в раковине. Потом я достаю самую красивую чашку, и столовой ложкой накладываю кофе. В конце, по самому краю, по стеночке, я медленно лью коньяк - немного.
- А почему вы не взбивали сразу с коньяком?
- Потому что алкоголь - пеногаситель, - вспоминаю я, - Парами спирта даже можно дышать в экстренных ситуациях для купирования отека легких.
- Вот оно что... - смерть пробует чайной ложечкой пену, а потом быстро-быстро, очень аккуратно, нешироко раскрывая рот, съедает полкружки, - Очень вкусно.
- Спасибо. Мне кажется, что-то не так? - набираюсь наглости спросить я.
- к сожалению. видите ли, я очень сильно ошиблась, и вы не должны были умирать сегодня. Из-за этого я сбила весь график. Но отмотать назад уже нельзя. Если я не уйду немедленно, то все испортится окончательно. А если я уйду, то не смогу сопровождать вас по этапу постмортального существования... - пока она говорила, ложка с пеной все взлетала и опускалась.
- А как же кофе? - пробую шутить я.
- Ой, не стоило, конечно, мне его пить, при таком-то опоздании, но вы знаете, так иногда хочется человеческого общения... - запнулась она и окончательно сконфузилась.
- Не переживайте, - говорю я, - сейчас ли, потом ли, какая разница... Вы мне скажите, что делать, так я и пойду по плану.
- Вы бы меня очень выручили. Вам за это даже бонусы предусмотрены! - она сделала лицо опытного сетевого маркетолога.
- Например?
- Один звонок, одна встреча, одно избавление от тяжести, плюс устроите себе сами вскрытие, похороны, поминки, - она расправилась с последними каплями коньяка и промокнула губы бумажной салфеточкой, - Вот как раз-таки последнее - моя работа, но вы же согласились помочь...
- Со звонком и встречей понятно, а что за тяжесть-то? - с интересом спрашиваю я.
- Простите, пожалуйста, это профессиональный сленг. Дело в том, что постмортально каждый получает по заслугам. Большинство людей мечтают о покое, он для них и наступает - ну полный покой, - она смешно таращится и тянет ?о? в слове ?полный?, - А он довольно быстро приедается. А душа требует чего-то другого, мечется и тоскует. И самые тяжелые моменты загробного существования - это кризис осознания того, что никогда ты больше не утешишься. А тяжесть - это одно из многих сокровищ души, которое тянет обратно к живым: любовь там, вера какая-никакая, переживания... Много разного. Вот от одного, самого гнетущего, самого что ни на есть неподъемного, я и разрешу вам освободиться.
- Понятно. То есть каковы мои действия сейчас?
- Подумайте, с кем вы попрощаетесь, избавьтесь от ненужного, похороните себя, как пожелаете, и ждите меня. Я, как выдастся свободная минутка, отправлю вас дальше.
- В покой?
- В покой, - улыбается она и ставит чашку в раковину.
- До свидания, - говорю я в пустоту. Смерть уже исчезла.
Я встаю со стула, обхожу стол, сажусь на корточки перед ее стулом и провожу рукой по сидению. Моя сентиментальность сыграла со мной дурную шутку – я до последнего ожидаю, что подушка будет холодной или пахнуть тленом, или, как один из вариантов, тонким ароматом протуберанций и левкоя (понятия не имею, как они пахнут, но звучит чарующе). Ничего такого, ни тепла, ни холода.
?И так как ты не тепел, ни холоден, я исторгну тебя из уст своих?.
Я сажусь на пол перед стулом смерти (на него я так и не решаюсь сесть) и приваливаюсь спиной к тяжело и надсадно урчащему холодильнику. В моей голове, как ни странно, нет никаких мыслей. Ни единой колесницы не грохочет по моим извилистым извилинам. По хорошему, мне необходимо прокрутить жизнь перед глазами, пережить самые драматические моменты еще раз и всплакнуть над уходящим бытием. А мне совсем не хочется. Потому что на площади пустота, и колесницы давно вычищены и устроены, и сытые кони всхрапывают на конюшне и хрумают овес, и пыль осела на каменные плиты. Там вечереет, у меня в голове. Теплый летний вечер – первый спокойный после тысячедневной войны.
Я встаю и иду к кувшину с французской пасторалью на блестящем боку, в котором хранится заначка. Забираю все деньги, что там есть – они мне еще пригодятся, ведь необходимо организовать свои похороны и вскрытие. Всегда мыслилось, что это делают родственники, а не смерть, как она уверяла. Хотя она может вести их и вкладывать свои мысли в их действия, так что все закономерно. Изворотливый разум найдет ответ на почти любой поставленный вопрос. Естественно, кроме длины Амазонки – это выше человеческих сил.
Первым делом я решаю начать с похорон, похоронная контора располагается в одном здании с моргом, так что все по пути. Но потом я додумываюсь, что летальный исход в столь молодом возрасте без серьезных заболеваний будет рассматриваться судебно-медицинской экспертизой, и я приунываю. Придется мотаться из конца в конец города. К тому же мои знания о технике вскрытия довольно расплывчаты, а хотелось бы лежать в гробу посимпатичнее. Подхожу к компьютеру, вылезаю в интернет – это всего было и есть пространство живых мертвецов. Выбираю наиболее подходящий вариант – такой, который не по горлу разрез, а чуть выше ключиц, что ли, и иду обуваться. А то вскрытое горло, как у курицы, меня угнетает. Вспоминаю об одежде, выбираю что-то черное и парадное, чтобы хоть там быть посерьезнее, аккуратно (и мне это удается!) сворачиваю и кидаю во всеобъемлющую суму переметную. Отрывочно в голове всплывает фраза, что черный оттеняет мраморную белизну мертвой кожи и придает торжественность и отрешенность покойничку, каковым я и начинаю являться. Ухмыляясь от романтизации собственного нетленного образа я выхожу на улицу.
И тут-то и начинают проявляться первые звоночки изменения моего положения и переход его из тягостного общечеловеческого в не менее тягостное покойничье: двор мой открыт всем ветрам, и в начале февраля они буйствуют на этом проклятом единым и многочастным Богом пятачке земли. И я вижу, как ходит ходуном отваливающийся конец проржавевшей водосточной трубы, как истребительски летают бумажки, как болтающаяся на петлях дверь истерически дергается от каждого нового удара ветряного бича, но я ничего не чувствую. Ни в одну их начинающих намечаться в наружных углах глаз морщин не стекает слеза, глаза не щурятся, пар изо рта не валит – я больше не пародышащий дракон, не зимний вариант человека. Черт его знает, кто я сейчас.
А на снегу я не оставляю следов, я прыгаю в сугроб специально, чтобы выяснить это. Как будто я и не трогаю ногами и прочими частями тела этого идиотского сугроба. Вдоволь повозившись со своими новыми физическими свойствами, я иду пешком по направлению к судебно-медицинскому бюро, пока еще в голове теплится, как называются те разрезы на моем теле, которые я хочу заказать.
Я шагаю через заснеженный парк, еще не пришедший в себя после новогоднего буйства, взъерошенный и грязный, с застывшей маской улыбки, как при синдроме Ангельмана – вечно улыбающийся ребенок, потому что он не может не улыбаться. Потому что праздники, а в праздники принято улыбаться. И я иду в этом лицемерии, в привычной лжи – и я бесконечно, бесчеловечно, до боли в лобных пазухах и за грудиной чувствую счастье. Потому что тени от елок синие-синие, как гуашью по ватману, а мандариновые шкурки на снегу оранжевые, как очистки солнца. Потому что в моей жизни все заканчивается, и я остро ощущаю сейчас тяжелую сладость каждого движения. А птицы сидят на проводах у меня над головой – вряд, смешные, пушистые и нахохлившиеся, как гирлянда, и на меня бегут волны людей – настолько разных, что я не понимаю, как Господь создал столько вариаций.
Я вспоминаю диалог с одним человеком, который случайно произвел на меня неизгладимое впечатление. Мы говорили о сокровенности, и он говорил, что сокровенное должно быть сокрыто, и эта тавтология смысла выводила меня из себя. Из чувства отрицания отчасти, отчасти из желания разобраться в себе, поддержать диалог, сказать такую редкую для себя вещь, как правду, мне пришлось сформулировать свою сокровенность:
- Я хочу узнать такого человека, которого можно было бы любить, как бога. Не в смысле фанатизма, а в смысле полной открытости и доверия, которое можно испытать к единственному существу. Это совсем не значит, что нужно упасть и умереть. Это вера в человека. Я хочу любить такого человека, в которого я можно верить.
Каждый раз, когда говоришь что-то тайное вслух, ты становишься сильнее. Место для удара, самое защищаемое, надо открывать – тогда никакой удар и не страшен, кожа дубится соленым ветром и холодом, и ты легок и безмятежен.
И вы знаете – мир улыбается. Он улыбается мне и прощается, и черт с ним, что это неправда, что холодный средней пасмурности день – но это последний, самый яркий день в жизни, как взрыв бомбы, боль в глазах, после которого – тишина. И осколки.
Мне становится так больно за грудиной, что я еле дохожу до лавочки и, не разгребая снега, сажусь. Это больше всего похоже на горячую тяжесть, жжение, невыносимые килограммы чего-то уничтожающего меня. Горячо так сильно, что я рвущими движениями стягиваю шарф с шеи, дергаю пальто (пуговица укатывается к урне и металлическим диском застывает на ребре) и пытаюсь приложить снег к груди. Но руки мои проходят беспрепятственно внутрь, и я удивляюсь так сильно, что не успеваю испугаться. Я завожу правую руку за левый край грудины, до основания пальцев, нащупываю что-то продолговатое и жгуче, вытаскиваю наружу. В моей правой руке небольшой глиняный кувшин, на который я смотрю с тупым остервенением. Потом я подношу его к носу и пытаюсь выяснить, что внутри. Боль полностью стихла. Я легко принюхиваюсь, и понимаю, что это. Это вера – самое тяжелое, что у меня было. Вера в равновесие, любовь, нежность, бога, счастье, удачу, всепобеждающие силы добра, просто та самая чистая эссенция, ради которой индивидуумы с повышенным ее содержанием живут и умирают.
Я достаю из кармана сотовый и набираю номер.
- Привет, ты где? Мне надо кое-что тебе передать, - я улыбаюсь. Последний звонок, последняя встреча и последнее избавление слились воедино. Я уже так близко к смерти, как еще никогда не приходилось.
Когда я добираюсь до места, день уже перевалил за середину.
- Привет, - мне надо говорить быстро, пока весь текст, продуманный при ходьбе (шаг за шагом) не выветрился из моей непутевой тыквы, - Мне надо тебе кое-что всучить.
Я достаю кувшин веры и ставлю на стол. Он его разглядывает, берет в руки. Кувшин что надо - узкое горлышко, длинная тонкая шея, плавный переход в мягкую талию, вогнутое вовнутрь донышко, и остро процарапанный мелкий геометрический узор по всему пространству, кроме дна, внутри и снаружи.
- Это что такое интересное?
- Это кувшин, - отвечаю я, потому что мне совсем не хочется рассказывать про веру и прочие сантименты. Это... интимные переживания, что ли.
- А зачем он такой?
- Помнишь, - говорю, - историю про обезьяну? В любом случае хочу напомнить. Все люди с художественным складом воображения (а не хухры-мухры, как многие могли подумать) склонны находить себе великий светлый образ, который отражал бы их сущность. Так вот я - небольших размеров, но достаточной упитанности, эйтрофичного питания, обезьяна, живущая на чистеньком и бедненьком на события тропическом острове. Остров мой тих и гладок, как будто находится у Бога за пазухой, и штормы обходят его стороной, ладони тайфунов над ним не смыкаются. Но вокруг острова кипят нешуточные страсти, и корабли терпять бедствие один за другим, и обломки, осколки, старые сундуки выносит на песочные пляжики, прибивает к корням мангровых деревьев, выбрасывает на маленькие, но острые скалы. И обезьянка прибегает к этим сокровищам, как только услышит стук чего-то чужеродного о свой остров. И начинает копаться. Так, палки и куски парусины можно сразу выбрасывать, а можно утащить к себе в пещеру и соорудить что-нибудь полезное типа гамака. А самое интересное - это сундуки и бочки. Для начала приходится подумать, как бы их расколошматить или вскрыть иным образом, чтобы добраться но внутренностей. А потом - гуляй, душа! Догадывайся о предназначении всех этих штук, штучек и штуковин, побрякушек и блестелок, утаскивай домой, раскладывай нестройными рядами на солнцепеке и любуйся. Или можно складывать медные и стальные холодные кинжалы, золотые броши, серебряные кольца в теплую стоячую воду озер, у самого берега, и смотреть, как солнце преломляет себя о них, жарит полдень.
Люди для меня, как ты помнишь или нет, это сокровища. Но иной раз обезьяна нет-нет, да задумается, есть ли у нее в душе свои собственные. И зайдет в темноту пещеры, сядет в самый дальний угол и давай морщинистыми лапками перебирать себя самое. И вот в одной из ниш, где-то между перебродившей совестью, которой осталось на самом донышке и либидо (в банке из-под консервированного тунца) я нахожу этот кувшин. Что с ним делать, ума не приложу. Но думаю, что это тебе, - надо же, из тыквы могу вырастать цветы...
Он долго молчит, наверное, несколько миллиардов атомов вокруг успели расщепиться, или как там развлекаются атомы.
- Почему именно мне?
- Ну, не знаю. Отдам в хорошие руки, - пожимаю я плечами, - Пожалуй, потому, что ты его не разобьешь (мне было бы жалко), не проимеешь (это было бы тоже жалко), и не подаришь, просто потому что такое дарить невозможно и некому. Короче, будешь хранителем кувшинчика. Несмотря на ужасающий ореол пафоса вокруг слова "хранитель". Это все, я ухожу.
- Мне нужно что-то сказать напоследок кроме того, что это огромная ответственность? - он говорит слишком напряженно, человеку, который только что лазил внутрь себя рукой и доставал примитивную глиняную посуду, это кажется глупым.
- Не-а. Созвонимся. Как-нибудь, - говорю я и, не дожидаясь прощания, успеваю уйти. Если они и были, то воткнулись в рыхлую древесину двери за моей спиной.
И идти действительно становится намного легче.
С часу до двух во всем цивилизованном мире перерыв. Поэтому я решаюсь переждать это пустое время и выпить последний кофе. Уже не крайний, а именно последний.
Кафе неподалеку было хорошо тем, что, во-первых, было неподалеку, а, во-вторых, пахло кофе и корицей. Начинался снег, летел с неба, смачно шлепался на мокрую мостовую, растекался неглубокими холодными лужами. Темнело стремительно, темнота разбарабанила мое сознание со скоростью газовой гангрены, и я раздуваюсь целым сонмом пузырьков надежды и желания. Колокольчики входной двери тренькнули и потонули в кофейном тепле, перезвоне кружек и блюдечек. Столы были молочными и нежными поросятами, и я выбрал одного из них, попродолговатей, у самого окна. Над столом висела низко-низко лампа с цветным абажуром, склеенным из множества кусочков стекла, длинная, как ваза. Я пью кофе (откушиваю кофий – судя по настроению) и наблюдаю исподволь за двумя господами за соседним коротконогим свиненышем. Они тихо и ожесточенно спорят, то и дело выбрасывая на стол длинные белые кисти рук. Свет не трогает лиц, только полированные миндальные ногти вспыхивают и бликуют мне в лицо. Я слышал их плохо, только отдельные, самые взрывоопасные, накаленные эмоциями слова: ?карты?, ?время?, ?куш?. Потом один из них размягчено отвалился на спинку стула и устало произнес:
- Нам отчетливо не везет, - и схватился белыми пальцами за свой бокал с пивом. Белое и желтое – я не любил этого сочетания цветов.
- Послушайте, молодой человек, а что это вы на нас так пялитесь? – неожиданно и грубо спросил второй, с носом, как у тукана, обращаясь ко мне.
- Вы достаточно активно дискутировали, если что, - тоном между наездом и извинением отвечаю я. В моей душе сидел великий демон равнодушия, и как бы дальше не развивался сюжет - в драку или в мирный договор, мне было все равно.
Пока пенка капуччино неумолимо сдувается, и облако в моей чашке из манны небесной превращается в привычный кофе с молоком, я думаю уже уходить, и мне весело и смешно в последний раз поучаствовать в скандале. Я не могу отказать себе в этом последнем удовольствии почувствовать себя живым среди живых.
Но господа повели себя неожиданно нестандартно: переглянувшись, один из них подхватывает оба бокала с пивом и ставит их на мой столик. Второй приносит блюдечко с арахисом. Я с ленивым увлечением смотрю, как синхронно они отодвигают стулья и подсаживаются ко мне.
- А я, смотрю, вы любите риск, - говорит Тукан, близко наклоняясь ко мне. У него изо рта пахнет орешками.
- Я котиков люблю… и штрудель, - подумав, честно отвечаю я.
Второй, с белыми пальцами, хмыкнул и полез в карман. Он достал запакованную колоду карт и бросил на стол.
- Как насчет партии… в покер? – спросил Тукан.
- Простите, мне неинтересно ваше предложение, - ухмыляюсь я и пытаюсь встать.
Бледный грубо придерживает меня за локоть:
- А как насчет постмортальной жизни в вашем сне? – с издевкой спрашивает он.
Я холодею и плотно сажусь обратно. Во-первых, они знают про мое шаткое положение в реальности. Во-вторых, про сон. В-третьих, нас здесь свела сама судьба.
- А что поставить мне? – спрашиваю я нервно.
- Ваше физическое тело, - отвечает Тукан и облизывает губы длинным тонким и ярким языком.
- Как докажете, что вы сможете обеспечить мне переход в сон? – спрашиваю я. Ставка с моей стороны невысока. Мне почти все равно, что станется с моим телом после смерти.
- Можете не играть… - отрешенно отваливается на стуле бледный.
- Черт с вами, раздавайте. Колода точно закрыта?
Я не знаю, что руководило мной в тот момент. Страсть или чары этих шулеров. Я не знаю, какими приемами они пользовались – значковые, изогнутые, крапленые, липкие и скользящие, меченые, наколотые, срезанные карты или все это вместе, но я выигрываю. Чтобы заполучить эту карту, черного короля, я готовлюсь продать хотя бы душу, но покупателей все никак не находится. И в следующей раздаче он, мой чернобровый, лежит у меня в ладони.
- Стрит-флэш, господа, - и черные чернушки веером ложатся на стол.
- Хорошо, мы люди честные, - неожиданно легко соглашается Тукан и щелкает меня по лбу. Я хочу возмутиться подобному скотству, но внезапно оказываюсь во Сне.
Лестничные ступени заканчиваются так быстро, будто я бегу по эскалатору. Фигура у окна ждет меня, и я – средоточие блаженства. Я хватаю ее за плечи, разворачиваю лицом к окну, и пристально вглядываюсь в острые и некрасивые черты Тукана. Он улыбается так широко, что рот вот-вот порвется.
- Ну а теперь у вас, милый мой, два выбора: либо вы отдаете мне и моему коллеге ваш покой, либо вы навсегда остаетесь в черной пустоте, - говорит он и хлопает руками. Сон исчезает, вокруг меня – поливариантное первородное ничто.
- Этот сон – ваша ловушка для таких, как я? – осеняет меня.
- Да, милый мой, - радуется моей догадливости Тукан.
- А почему вы со мной сразу на вечный покой не играли? – спрашиваю я, зябко ежась.
- Вы стали бы играть на покой?! – изумляется Тукан, - Просто мы еще не видели идиотов, кроме вас, которые соглашались бы на столь высокие ставки.
Мне остается только горестно замолчать.
- А куда я денусь после того, как вы отберете у меня покой?
- На землю, куда еще? Не оставлять же вас здесь болтаться, - смеется Тукан.
- А вы и в этот раз меня не обманите? – спрашиваю я безысходно.
- Не могу же я засорять первородное ничто… мусором, надо и честь знать! А то еще мной займутся… - утверждает Тукан.
- Кто? – глупо спрашиваю я.
- Абсолютно неважно, давайте уже покончим с формальностями, - начинает терять терпение он.
- Да берите вы, что хотите, - обижаюсь я на весь свет, - Но зачем вам покой?
- Это самое ценное, что может быть для моего друга.
- А кто ваш друг?
- Осуждённый на скитание по земле до Второго пришествия и вечное презрение со стороны людей. Как и я. И таких, как мы, тысячи, поэтому мой рэкет нескончаем. Я помогаю им обрести покой, - слова Агасфера в пустоте звучат, как проклятье рода человеческого. Он без лишних драматических моментов дотрагивается до моей руки, и я снова на земле.
Вне жизни и смерти, вне покоя и веры, вне души, пустой и полый, обреченный на вечные скитания.
Итак, это началось тогда, когда мое нутро до краев, до бульканья во всех горловых трубках наполняло бездействие, меланхоличная созерцательность, сплин, хандра, или еще бог знает что – мучительное, тянущие низ живота ожидание больших и прекрасных перемен, которые никогда (НИКОГДА!) не произойдут. Потому что они вообще высокомерные снобы и привиреды, и наступают так редко, что я и вспомнить-то ни одного случая не могу. После ночи наступает тягомотное утро, я наталкиваюсь на кота и стулья, брожу, шаркая ленивыми, расплавленными сном ногами, что-то пью и ем – думаю, еду: по крайней мере надеюсь, что это была она. Потом одеваюсь, нюхаю по-собачьи, полным носом, носки, чтобы найти самую непахнущую пару, и наматываю шарф потемнее до самых глаз. От меня воняет отупением и сырой леностью непропеченного теста, так что спрятать нос в шарф было почти святой миссией, и выходил на улицу. Она, эта жирная змея, с блестящей от дождя асфальтовой чешуей, с запахами и цветами покоя и влажности – серым, зеленым, буро-желтым, коричневым, - свивала вокруг меня кольцо за кольцом. Я иду в тот час, когда некоторые окна еще светятся, тем более, что идут дожди – и смотрю, смотрю в окна, на люстры, такие типично разные, с боломбошками хрусталиков и без, на ковры на стенах, как в юртах, на подоконниковые судорожные силуэты комнатных рододендронов и прочая, вы понимаете. А улица открывает за своими изгибами что-нибудь новенькое, и моя мещанская любовь к мелким деталям обстановки удерживала меня в реальности. Ларьки на автобусной остановке открывают подмороженные покойничьи глаза-ставни, и выставленный в витрине журнал с очередным светлым ликом, отражает пятна мокрого асфальта, неба, тусклой лампочки, и блестит еще глянцевитей. От ларьков исходит тепло работающих теток, очередей и света, и они кажутся мне осколками уюта и стабильности. А на скамейке спят каждый день разные бомжи, и в их лица я вглядываюсь с особым интересом, знаю, что они скоро исчезнут, умрут уличной смертью, задавленные кольцами змеи и автодорожных развязок, и я запоминаю их, как запоминают интерьер. Мне нравится смотреть на битву битв голубей и воробьев за хлеб – как тяжеловооруженная техника и маленькие вражеские автоматчики на каких-нибудь ?ЗИЛах? или ?АМО?, не знаю, кто там на чем ездил, и ездил ли, но аллегория понятна. Я болею за воробьев, потому что самодовольные морды голубей слишком гладко переходили в шею, в обтекаемое дельфинье тело, а дельфинов я боялся до умопомрачения. Они чудовищно человекообразные, и эта пародия приводит меня в потусторонний катарсис. Короче, в итоге я добираюсь до работы со вкусом ?Доширака?, обедаю там ?Дошираком? со вкусом работы, много улыбаюсь, говорию, объясняю, советую, увещеваю, сетую, напутствовую и громыхаю, отпускаю в пляс проворную личинку языка, и она забирается людям в уши, откладывает в из мозгу яйца слов и счастливо выползает обратно, в мой теплый слизистый рот. Потом день заканчивается, так и не меняя цвета, и я иду домой абсолютно, катастрофически мрачно, поскольку весь запас улыбок исчерпан, а вступать в ипотеку добрых эмоций было негде, и поручителей к тому же у меня нет. Ларьки устало и ласково глядят мне вслед. Иногда я в них что-то покупаю, рассовываю по карманам или тащу в руках, и подъездный ненасытный рот с двумя рядами дверей впускает своего очередного Иова. Кот орет в темноте, блестя зелеными фонарными глазами. Его нужно кормить, убирать за ним, включать телевизор – чтобы ушло паразитичекое отродье, тишина. По выходным я хожу в кафе напротив своего дома, скорее для того, чтобы доказать свою принадлежность к социуму себе и коту, который явно неодобрительно ко мне настроен. Потом, по вечерам, я готовлю и ем, не разбирая горячего вкуса, и, наконец, позволяю себе то, о чем мне мечталось с момента пробуждения – я Ухожу.
Этот сон, бог мой, Этот Сон. Если верить в тебя, Отче, я признаю себя избранником твоим, осененным твоею благодатью. Ради этого сна я разрываю тонкие паучьи липкости между мной и никчемными половыми партнерами, я подвергаюсь кошачьей анафеме, я ищу с грацией крепко пьющего конкистадора чистое белье где-нибудь у себя под кроватью, где оно уже успело выветрится, я не замечаю ужасов Бытия. Если бы стоянием на коленях в ладановом царстве, плачем в церковном застывшем псалмами воздухе, огнем тростника свечей, лижущим светом иконы, я смогу вымолить еще одну ночь, я не буду выходить из храмовых ворот. Если бы у меня было это самое ?если бы?…
А так я просто закрываю глаза и жарко, как тавром к коже, умоляю пустить меня в сон. И меня пускали, день за днем, весь период моего безвременья. Обычно все начиналось на улице, вымощенной покатыми спиночками дышавших друг в друга камней с выщербленными от старости камнями. Между ними, в темных промежутках, кое-где блестели рублеными краями застрявшие монетки, торчали пыльные и до безобразия жизнелюбивые травинки. Я присаживаюсь и выковыриваю медное солнце, каждый раз одно и тоже, прошедшее через руки почти всех местных жителей. Я поглаживаю камни, прежде чем монетка оказывается в моих пальцах. Она не круглая, многоугольная, с камеей на одной стороне и парусником - на другой, потемневшая и гнутая. Я кидаю ее в карман, встаю и иду по узкой поднимающейся вверх улице. Справа от меня домики, белые и песочные, блекло-розовые и желтые, окна открыты в сад, к оливам с густозелеными плотными листьями и еще каким-то ботаническим неопознаваемым изыскам, а солнце светит торжественно и плавно, ровно настолько, чтобы едва прищуривала глаза высунувшаяся из окна медового дома с самым маленьким садом (всего пара магнолий, куст дикой розы у входа и клумба с мелкими белыми цветочками) барышня, и я не могу толком различить ее лица, но твердо знаю, что там, где встречаются удивительно тонкая кожа подглазья с верхним веком, образуется едва заметный намек на морщинки. А слева черт пойми что, какая-то высоченная скала, длинной во всю улицу, которая и завивается кружевным подъемом вокруг нее. И, уткнувшись в спину этой скалы, стоят дома – двух-, трехэтажные, беленые или облупленные до кирпича и камней, шершаво-коричневатые, горячие под ладонью. На первых этажах рисованные вывески – блеклые голубой деревянный щит с молочником, выпиленный крендель, призывно улыбающаяся рыбина, и людей никого. А иные первые этажи открываются коридором во двор (двери такие округлые, как ворота в средневековом замке, старшие братья этих, моих). И вот там, на пороге прохладных коридоров – я вижу, что они облицованы большими плитами серого мрамора и уходят в самое сердце дома (в большой обеденный зал, по-другому и быть не может), так вот на пороге коридоров и солнечного света сидят молчаливые старики на тяжелых деревянных стульях, играют в карты и шахматы, пьют из огромных пузатых стаканов темную, янтарную густую жижу с травами, и даже не смотрят на меня, когда я прохожу мимо. Но один, в дырявой соломенной шляпе, вскидывает руку мне вслед, и в бессильной неге опускает ее на округлое колено, и ветер невозмутимо треплет его штаны, и спящие у ног некоторых стариков собаки – большие и желтые, все как одна, с длинными узкими мордами, поднимают ухо мне вслед, так и не открывая глаз. Я поворачиваю, дорога ведет меня, и пахнет морем, цветами, яркими пряностями от этих кружек стариков. И в углу между повернувшей дорогой и скалой, боками упирающийся в нее, окруженный с трех сторон, какой-то треугольно-простой, темно-серый, брусочный, белозанавесочно-льняной, с открытыми настежь окнами, с дверью темного дуба (и кольцо на ручке, чтобы стучать, которое держит зубами медная морда коня), стоит мой дом. Я подхожу к своей двери, а дорога идет дальше, и заканчивается на плоской вершине, где стоят резные железные лавки, проржавевшие у ножек – три, и там, за краем – бесконечное море, все в рыбаках и белых парусах шлюпок. Я дергаю дверь своего дома, стою на пороге, вдыхая запах чистого накрахмаленного белья, теплой еды, жилого помещения (не с чем не сравнимый, и дело здесь не только в частичках кожи – дело в душе тех, кто живет), и по гладкому каменному полу бегу, бегу со всех ног, давя солнечных зайчиков, по лестнице на второй этаж, где меня кто-то ждет. Я просыпаюсь в тот момент, когда чей-то силуэт уже вырисовывается на фоне французского, в пол, окна. Еще ни разу я не прибегал вовремя. Иногда я не иду домой – я хожу по окрестностям, здороваюсь с бабушкой-зеленщицей в умопомрачительном чепце, часами сидел и кидал крошащийся хлеб с обрыва чайкам, бродил по небольшому рыночку, где на льду лежала только что пойманная рыба, красными вареными пузами застыли крабы, кальмары пучили глаза из больших эмалированных тазов, полных морской воды, хвостато оранжевела морковь на прилавках, пучились крутобокие тыквы, грудами синих продолговатышей валялись сливы, плавал в мутной воде керамических блюд сыр. Люди узнавали меня, поднимали шляпы или махали руками, улыбались, причем чем ближе ко мне в реальности была зима, и чем дольше, день за днем в нескончаемой череде, я нахожусь во сне, тем радостнее. Но выяснить, кто же ждет меня наверху, мне так и не удавалось. Я мыслю, что не узнаю этого никогда, и никогда (НИКОГДА!) скапливалось в моем сердце, разрывало волоконца, по каплям выжимало из меня все соки.
Так я и живу - в тотальном приграничье, пока не наступает одно утро февраля.
Утро мое началось довольно неудачно - я не замечаю смерти. Я сижу вполоборота к окну, смотрю в монитор, немного думаю, немного притворяюсь, что думаю - а она все это время ждет, бедная, на краю жесткого дивана, и не шелохнется. Наконец я замечаю ее.
- Здравствуйте, извините, что побеспокоила, - говорит она, натянуто улыбаясь.
- Здравствуйте. Я очень…кхм…очень… нашей встрече, не переживайте, вы меня вовсе не отвлекаете.
- Правда рады?
- Не совсем, конечно, но мне не хотелось бы вас расстраивать. Хотите кофе?
Она широко распахивает глаза.
- Вам еще никто никогда не предлагал кофе? - догадываюсь я самодовольно.
- Нет, - отвечает она, помолчав и поджав губы, - обычно вино, и, как назло, красное сухое.
- Вы не любите вина? - интересуюсь я, отодвигая плетенный ротанговый стул. Я уже делаю шаг в направлении комнатной двери.
- Терпеть не могу. Оно кислое, все во рту связывает и пахнет гниющим виноградом, - она тоже встает, и мы идем по коридору на кухню.
- Я сделаю вам кофе-фраппе, - говорю я, пока она, застыв на пороге, бегает взглядом от одного кресла к другому, стараясь не выбрать место хозяина, чтобы не обидеть меня.
- А что это? - она садится лицом к окну, спиной к двери, правильно выбрав гостевое место, и руки с длинными и тонкими (предмет моей вечной зависти) кистями кладет ладонями вверх на колени.
- Это взбитый кофе, - говорю я, открывая шкафчик. Я достаю миксер (шнур, как обычно, неаккуратно выпадает прямо на меня), банку кофе - стеклянную, ребристую, с овечками, сахарницу со стола (смерть отводит глаза, когда я подхожу близко; по-моему, немного смущается), и достаю из усталого холодильника коробку молока.
- Самое главное - не потерять время, - говорю я, и тут же краснею. Я ведь не имею ввиду ничего, связанного с ее работой, - Это я о рецептуре. Я возьму сейчас миску (вот эта, зеленая пластиковая, должна подойти), налью туда чуточку молока, столовую ложку сухого кофе положу, две ложки сахара... Так, начинаю взбивать.
Раздается этот ужасный шум, вы знаете, такой же мерзкий, как от работающего пылесоса. Не в том смысле, что звук миксера похож на утробный пылесосный рев. Они просто родствены, тождественны друг другу. Слишком механические. Пока кофе превращается в одну сплошную горку пены, смерть смотрит в окно. По-моему, в наших несколько неуставных отношениях нет ничего дурного, но она недовольна собой, да и мне неловко. Но вот сейчас, когда облако в миске начинает расти и шириться, надо быть начеку, и тоненькой струйкой я подливаю, не останавливаясь, молоко в самый центр урагана. Через пару секунд я выключаю жужжащего монстра, и он тихо захлебывается своим криком в раковине. Потом я достаю самую красивую чашку, и столовой ложкой накладываю кофе. В конце, по самому краю, по стеночке, я медленно лью коньяк - немного.
- А почему вы не взбивали сразу с коньяком?
- Потому что алкоголь - пеногаситель, - вспоминаю я, - Парами спирта даже можно дышать в экстренных ситуациях для купирования отека легких.
- Вот оно что... - смерть пробует чайной ложечкой пену, а потом быстро-быстро, очень аккуратно, нешироко раскрывая рот, съедает полкружки, - Очень вкусно.
- Спасибо. Мне кажется, что-то не так? - набираюсь наглости спросить я.
- к сожалению. видите ли, я очень сильно ошиблась, и вы не должны были умирать сегодня. Из-за этого я сбила весь график. Но отмотать назад уже нельзя. Если я не уйду немедленно, то все испортится окончательно. А если я уйду, то не смогу сопровождать вас по этапу постмортального существования... - пока она говорила, ложка с пеной все взлетала и опускалась.
- А как же кофе? - пробую шутить я.
- Ой, не стоило, конечно, мне его пить, при таком-то опоздании, но вы знаете, так иногда хочется человеческого общения... - запнулась она и окончательно сконфузилась.
- Не переживайте, - говорю я, - сейчас ли, потом ли, какая разница... Вы мне скажите, что делать, так я и пойду по плану.
- Вы бы меня очень выручили. Вам за это даже бонусы предусмотрены! - она сделала лицо опытного сетевого маркетолога.
- Например?
- Один звонок, одна встреча, одно избавление от тяжести, плюс устроите себе сами вскрытие, похороны, поминки, - она расправилась с последними каплями коньяка и промокнула губы бумажной салфеточкой, - Вот как раз-таки последнее - моя работа, но вы же согласились помочь...
- Со звонком и встречей понятно, а что за тяжесть-то? - с интересом спрашиваю я.
- Простите, пожалуйста, это профессиональный сленг. Дело в том, что постмортально каждый получает по заслугам. Большинство людей мечтают о покое, он для них и наступает - ну полный покой, - она смешно таращится и тянет ?о? в слове ?полный?, - А он довольно быстро приедается. А душа требует чего-то другого, мечется и тоскует. И самые тяжелые моменты загробного существования - это кризис осознания того, что никогда ты больше не утешишься. А тяжесть - это одно из многих сокровищ души, которое тянет обратно к живым: любовь там, вера какая-никакая, переживания... Много разного. Вот от одного, самого гнетущего, самого что ни на есть неподъемного, я и разрешу вам освободиться.
- Понятно. То есть каковы мои действия сейчас?
- Подумайте, с кем вы попрощаетесь, избавьтесь от ненужного, похороните себя, как пожелаете, и ждите меня. Я, как выдастся свободная минутка, отправлю вас дальше.
- В покой?
- В покой, - улыбается она и ставит чашку в раковину.
- До свидания, - говорю я в пустоту. Смерть уже исчезла.
Я встаю со стула, обхожу стол, сажусь на корточки перед ее стулом и провожу рукой по сидению. Моя сентиментальность сыграла со мной дурную шутку – я до последнего ожидаю, что подушка будет холодной или пахнуть тленом, или, как один из вариантов, тонким ароматом протуберанций и левкоя (понятия не имею, как они пахнут, но звучит чарующе). Ничего такого, ни тепла, ни холода.
?И так как ты не тепел, ни холоден, я исторгну тебя из уст своих?.
Я сажусь на пол перед стулом смерти (на него я так и не решаюсь сесть) и приваливаюсь спиной к тяжело и надсадно урчащему холодильнику. В моей голове, как ни странно, нет никаких мыслей. Ни единой колесницы не грохочет по моим извилистым извилинам. По хорошему, мне необходимо прокрутить жизнь перед глазами, пережить самые драматические моменты еще раз и всплакнуть над уходящим бытием. А мне совсем не хочется. Потому что на площади пустота, и колесницы давно вычищены и устроены, и сытые кони всхрапывают на конюшне и хрумают овес, и пыль осела на каменные плиты. Там вечереет, у меня в голове. Теплый летний вечер – первый спокойный после тысячедневной войны.
Я встаю и иду к кувшину с французской пасторалью на блестящем боку, в котором хранится заначка. Забираю все деньги, что там есть – они мне еще пригодятся, ведь необходимо организовать свои похороны и вскрытие. Всегда мыслилось, что это делают родственники, а не смерть, как она уверяла. Хотя она может вести их и вкладывать свои мысли в их действия, так что все закономерно. Изворотливый разум найдет ответ на почти любой поставленный вопрос. Естественно, кроме длины Амазонки – это выше человеческих сил.
Первым делом я решаю начать с похорон, похоронная контора располагается в одном здании с моргом, так что все по пути. Но потом я додумываюсь, что летальный исход в столь молодом возрасте без серьезных заболеваний будет рассматриваться судебно-медицинской экспертизой, и я приунываю. Придется мотаться из конца в конец города. К тому же мои знания о технике вскрытия довольно расплывчаты, а хотелось бы лежать в гробу посимпатичнее. Подхожу к компьютеру, вылезаю в интернет – это всего было и есть пространство живых мертвецов. Выбираю наиболее подходящий вариант – такой, который не по горлу разрез, а чуть выше ключиц, что ли, и иду обуваться. А то вскрытое горло, как у курицы, меня угнетает. Вспоминаю об одежде, выбираю что-то черное и парадное, чтобы хоть там быть посерьезнее, аккуратно (и мне это удается!) сворачиваю и кидаю во всеобъемлющую суму переметную. Отрывочно в голове всплывает фраза, что черный оттеняет мраморную белизну мертвой кожи и придает торжественность и отрешенность покойничку, каковым я и начинаю являться. Ухмыляясь от романтизации собственного нетленного образа я выхожу на улицу.
И тут-то и начинают проявляться первые звоночки изменения моего положения и переход его из тягостного общечеловеческого в не менее тягостное покойничье: двор мой открыт всем ветрам, и в начале февраля они буйствуют на этом проклятом единым и многочастным Богом пятачке земли. И я вижу, как ходит ходуном отваливающийся конец проржавевшей водосточной трубы, как истребительски летают бумажки, как болтающаяся на петлях дверь истерически дергается от каждого нового удара ветряного бича, но я ничего не чувствую. Ни в одну их начинающих намечаться в наружных углах глаз морщин не стекает слеза, глаза не щурятся, пар изо рта не валит – я больше не пародышащий дракон, не зимний вариант человека. Черт его знает, кто я сейчас.
А на снегу я не оставляю следов, я прыгаю в сугроб специально, чтобы выяснить это. Как будто я и не трогаю ногами и прочими частями тела этого идиотского сугроба. Вдоволь повозившись со своими новыми физическими свойствами, я иду пешком по направлению к судебно-медицинскому бюро, пока еще в голове теплится, как называются те разрезы на моем теле, которые я хочу заказать.
Я шагаю через заснеженный парк, еще не пришедший в себя после новогоднего буйства, взъерошенный и грязный, с застывшей маской улыбки, как при синдроме Ангельмана – вечно улыбающийся ребенок, потому что он не может не улыбаться. Потому что праздники, а в праздники принято улыбаться. И я иду в этом лицемерии, в привычной лжи – и я бесконечно, бесчеловечно, до боли в лобных пазухах и за грудиной чувствую счастье. Потому что тени от елок синие-синие, как гуашью по ватману, а мандариновые шкурки на снегу оранжевые, как очистки солнца. Потому что в моей жизни все заканчивается, и я остро ощущаю сейчас тяжелую сладость каждого движения. А птицы сидят на проводах у меня над головой – вряд, смешные, пушистые и нахохлившиеся, как гирлянда, и на меня бегут волны людей – настолько разных, что я не понимаю, как Господь создал столько вариаций.
Я вспоминаю диалог с одним человеком, который случайно произвел на меня неизгладимое впечатление. Мы говорили о сокровенности, и он говорил, что сокровенное должно быть сокрыто, и эта тавтология смысла выводила меня из себя. Из чувства отрицания отчасти, отчасти из желания разобраться в себе, поддержать диалог, сказать такую редкую для себя вещь, как правду, мне пришлось сформулировать свою сокровенность:
- Я хочу узнать такого человека, которого можно было бы любить, как бога. Не в смысле фанатизма, а в смысле полной открытости и доверия, которое можно испытать к единственному существу. Это совсем не значит, что нужно упасть и умереть. Это вера в человека. Я хочу любить такого человека, в которого я можно верить.
Каждый раз, когда говоришь что-то тайное вслух, ты становишься сильнее. Место для удара, самое защищаемое, надо открывать – тогда никакой удар и не страшен, кожа дубится соленым ветром и холодом, и ты легок и безмятежен.
И вы знаете – мир улыбается. Он улыбается мне и прощается, и черт с ним, что это неправда, что холодный средней пасмурности день – но это последний, самый яркий день в жизни, как взрыв бомбы, боль в глазах, после которого – тишина. И осколки.
Мне становится так больно за грудиной, что я еле дохожу до лавочки и, не разгребая снега, сажусь. Это больше всего похоже на горячую тяжесть, жжение, невыносимые килограммы чего-то уничтожающего меня. Горячо так сильно, что я рвущими движениями стягиваю шарф с шеи, дергаю пальто (пуговица укатывается к урне и металлическим диском застывает на ребре) и пытаюсь приложить снег к груди. Но руки мои проходят беспрепятственно внутрь, и я удивляюсь так сильно, что не успеваю испугаться. Я завожу правую руку за левый край грудины, до основания пальцев, нащупываю что-то продолговатое и жгуче, вытаскиваю наружу. В моей правой руке небольшой глиняный кувшин, на который я смотрю с тупым остервенением. Потом я подношу его к носу и пытаюсь выяснить, что внутри. Боль полностью стихла. Я легко принюхиваюсь, и понимаю, что это. Это вера – самое тяжелое, что у меня было. Вера в равновесие, любовь, нежность, бога, счастье, удачу, всепобеждающие силы добра, просто та самая чистая эссенция, ради которой индивидуумы с повышенным ее содержанием живут и умирают.
Я достаю из кармана сотовый и набираю номер.
- Привет, ты где? Мне надо кое-что тебе передать, - я улыбаюсь. Последний звонок, последняя встреча и последнее избавление слились воедино. Я уже так близко к смерти, как еще никогда не приходилось.
Когда я добираюсь до места, день уже перевалил за середину.
- Привет, - мне надо говорить быстро, пока весь текст, продуманный при ходьбе (шаг за шагом) не выветрился из моей непутевой тыквы, - Мне надо тебе кое-что всучить.
Я достаю кувшин веры и ставлю на стол. Он его разглядывает, берет в руки. Кувшин что надо - узкое горлышко, длинная тонкая шея, плавный переход в мягкую талию, вогнутое вовнутрь донышко, и остро процарапанный мелкий геометрический узор по всему пространству, кроме дна, внутри и снаружи.
- Это что такое интересное?
- Это кувшин, - отвечаю я, потому что мне совсем не хочется рассказывать про веру и прочие сантименты. Это... интимные переживания, что ли.
- А зачем он такой?
- Помнишь, - говорю, - историю про обезьяну? В любом случае хочу напомнить. Все люди с художественным складом воображения (а не хухры-мухры, как многие могли подумать) склонны находить себе великий светлый образ, который отражал бы их сущность. Так вот я - небольших размеров, но достаточной упитанности, эйтрофичного питания, обезьяна, живущая на чистеньком и бедненьком на события тропическом острове. Остров мой тих и гладок, как будто находится у Бога за пазухой, и штормы обходят его стороной, ладони тайфунов над ним не смыкаются. Но вокруг острова кипят нешуточные страсти, и корабли терпять бедствие один за другим, и обломки, осколки, старые сундуки выносит на песочные пляжики, прибивает к корням мангровых деревьев, выбрасывает на маленькие, но острые скалы. И обезьянка прибегает к этим сокровищам, как только услышит стук чего-то чужеродного о свой остров. И начинает копаться. Так, палки и куски парусины можно сразу выбрасывать, а можно утащить к себе в пещеру и соорудить что-нибудь полезное типа гамака. А самое интересное - это сундуки и бочки. Для начала приходится подумать, как бы их расколошматить или вскрыть иным образом, чтобы добраться но внутренностей. А потом - гуляй, душа! Догадывайся о предназначении всех этих штук, штучек и штуковин, побрякушек и блестелок, утаскивай домой, раскладывай нестройными рядами на солнцепеке и любуйся. Или можно складывать медные и стальные холодные кинжалы, золотые броши, серебряные кольца в теплую стоячую воду озер, у самого берега, и смотреть, как солнце преломляет себя о них, жарит полдень.
Люди для меня, как ты помнишь или нет, это сокровища. Но иной раз обезьяна нет-нет, да задумается, есть ли у нее в душе свои собственные. И зайдет в темноту пещеры, сядет в самый дальний угол и давай морщинистыми лапками перебирать себя самое. И вот в одной из ниш, где-то между перебродившей совестью, которой осталось на самом донышке и либидо (в банке из-под консервированного тунца) я нахожу этот кувшин. Что с ним делать, ума не приложу. Но думаю, что это тебе, - надо же, из тыквы могу вырастать цветы...
Он долго молчит, наверное, несколько миллиардов атомов вокруг успели расщепиться, или как там развлекаются атомы.
- Почему именно мне?
- Ну, не знаю. Отдам в хорошие руки, - пожимаю я плечами, - Пожалуй, потому, что ты его не разобьешь (мне было бы жалко), не проимеешь (это было бы тоже жалко), и не подаришь, просто потому что такое дарить невозможно и некому. Короче, будешь хранителем кувшинчика. Несмотря на ужасающий ореол пафоса вокруг слова "хранитель". Это все, я ухожу.
- Мне нужно что-то сказать напоследок кроме того, что это огромная ответственность? - он говорит слишком напряженно, человеку, который только что лазил внутрь себя рукой и доставал примитивную глиняную посуду, это кажется глупым.
- Не-а. Созвонимся. Как-нибудь, - говорю я и, не дожидаясь прощания, успеваю уйти. Если они и были, то воткнулись в рыхлую древесину двери за моей спиной.
И идти действительно становится намного легче.
С часу до двух во всем цивилизованном мире перерыв. Поэтому я решаюсь переждать это пустое время и выпить последний кофе. Уже не крайний, а именно последний.
Кафе неподалеку было хорошо тем, что, во-первых, было неподалеку, а, во-вторых, пахло кофе и корицей. Начинался снег, летел с неба, смачно шлепался на мокрую мостовую, растекался неглубокими холодными лужами. Темнело стремительно, темнота разбарабанила мое сознание со скоростью газовой гангрены, и я раздуваюсь целым сонмом пузырьков надежды и желания. Колокольчики входной двери тренькнули и потонули в кофейном тепле, перезвоне кружек и блюдечек. Столы были молочными и нежными поросятами, и я выбрал одного из них, попродолговатей, у самого окна. Над столом висела низко-низко лампа с цветным абажуром, склеенным из множества кусочков стекла, длинная, как ваза. Я пью кофе (откушиваю кофий – судя по настроению) и наблюдаю исподволь за двумя господами за соседним коротконогим свиненышем. Они тихо и ожесточенно спорят, то и дело выбрасывая на стол длинные белые кисти рук. Свет не трогает лиц, только полированные миндальные ногти вспыхивают и бликуют мне в лицо. Я слышал их плохо, только отдельные, самые взрывоопасные, накаленные эмоциями слова: ?карты?, ?время?, ?куш?. Потом один из них размягчено отвалился на спинку стула и устало произнес:
- Нам отчетливо не везет, - и схватился белыми пальцами за свой бокал с пивом. Белое и желтое – я не любил этого сочетания цветов.
- Послушайте, молодой человек, а что это вы на нас так пялитесь? – неожиданно и грубо спросил второй, с носом, как у тукана, обращаясь ко мне.
- Вы достаточно активно дискутировали, если что, - тоном между наездом и извинением отвечаю я. В моей душе сидел великий демон равнодушия, и как бы дальше не развивался сюжет - в драку или в мирный договор, мне было все равно.
Пока пенка капуччино неумолимо сдувается, и облако в моей чашке из манны небесной превращается в привычный кофе с молоком, я думаю уже уходить, и мне весело и смешно в последний раз поучаствовать в скандале. Я не могу отказать себе в этом последнем удовольствии почувствовать себя живым среди живых.
Но господа повели себя неожиданно нестандартно: переглянувшись, один из них подхватывает оба бокала с пивом и ставит их на мой столик. Второй приносит блюдечко с арахисом. Я с ленивым увлечением смотрю, как синхронно они отодвигают стулья и подсаживаются ко мне.
- А я, смотрю, вы любите риск, - говорит Тукан, близко наклоняясь ко мне. У него изо рта пахнет орешками.
- Я котиков люблю… и штрудель, - подумав, честно отвечаю я.
Второй, с белыми пальцами, хмыкнул и полез в карман. Он достал запакованную колоду карт и бросил на стол.
- Как насчет партии… в покер? – спросил Тукан.
- Простите, мне неинтересно ваше предложение, - ухмыляюсь я и пытаюсь встать.
Бледный грубо придерживает меня за локоть:
- А как насчет постмортальной жизни в вашем сне? – с издевкой спрашивает он.
Я холодею и плотно сажусь обратно. Во-первых, они знают про мое шаткое положение в реальности. Во-вторых, про сон. В-третьих, нас здесь свела сама судьба.
- А что поставить мне? – спрашиваю я нервно.
- Ваше физическое тело, - отвечает Тукан и облизывает губы длинным тонким и ярким языком.
- Как докажете, что вы сможете обеспечить мне переход в сон? – спрашиваю я. Ставка с моей стороны невысока. Мне почти все равно, что станется с моим телом после смерти.
- Можете не играть… - отрешенно отваливается на стуле бледный.
- Черт с вами, раздавайте. Колода точно закрыта?
Я не знаю, что руководило мной в тот момент. Страсть или чары этих шулеров. Я не знаю, какими приемами они пользовались – значковые, изогнутые, крапленые, липкие и скользящие, меченые, наколотые, срезанные карты или все это вместе, но я выигрываю. Чтобы заполучить эту карту, черного короля, я готовлюсь продать хотя бы душу, но покупателей все никак не находится. И в следующей раздаче он, мой чернобровый, лежит у меня в ладони.
- Стрит-флэш, господа, - и черные чернушки веером ложатся на стол.
- Хорошо, мы люди честные, - неожиданно легко соглашается Тукан и щелкает меня по лбу. Я хочу возмутиться подобному скотству, но внезапно оказываюсь во Сне.
Лестничные ступени заканчиваются так быстро, будто я бегу по эскалатору. Фигура у окна ждет меня, и я – средоточие блаженства. Я хватаю ее за плечи, разворачиваю лицом к окну, и пристально вглядываюсь в острые и некрасивые черты Тукана. Он улыбается так широко, что рот вот-вот порвется.
- Ну а теперь у вас, милый мой, два выбора: либо вы отдаете мне и моему коллеге ваш покой, либо вы навсегда остаетесь в черной пустоте, - говорит он и хлопает руками. Сон исчезает, вокруг меня – поливариантное первородное ничто.
- Этот сон – ваша ловушка для таких, как я? – осеняет меня.
- Да, милый мой, - радуется моей догадливости Тукан.
- А почему вы со мной сразу на вечный покой не играли? – спрашиваю я, зябко ежась.
- Вы стали бы играть на покой?! – изумляется Тукан, - Просто мы еще не видели идиотов, кроме вас, которые соглашались бы на столь высокие ставки.
Мне остается только горестно замолчать.
- А куда я денусь после того, как вы отберете у меня покой?
- На землю, куда еще? Не оставлять же вас здесь болтаться, - смеется Тукан.
- А вы и в этот раз меня не обманите? – спрашиваю я безысходно.
- Не могу же я засорять первородное ничто… мусором, надо и честь знать! А то еще мной займутся… - утверждает Тукан.
- Кто? – глупо спрашиваю я.
- Абсолютно неважно, давайте уже покончим с формальностями, - начинает терять терпение он.
- Да берите вы, что хотите, - обижаюсь я на весь свет, - Но зачем вам покой?
- Это самое ценное, что может быть для моего друга.
- А кто ваш друг?
- Осуждённый на скитание по земле до Второго пришествия и вечное презрение со стороны людей. Как и я. И таких, как мы, тысячи, поэтому мой рэкет нескончаем. Я помогаю им обрести покой, - слова Агасфера в пустоте звучат, как проклятье рода человеческого. Он без лишних драматических моментов дотрагивается до моей руки, и я снова на земле.
Вне жизни и смерти, вне покоя и веры, вне души, пустой и полый, обреченный на вечные скитания.
Метки: