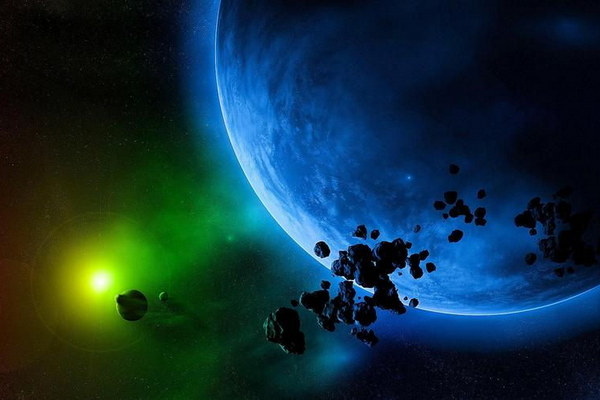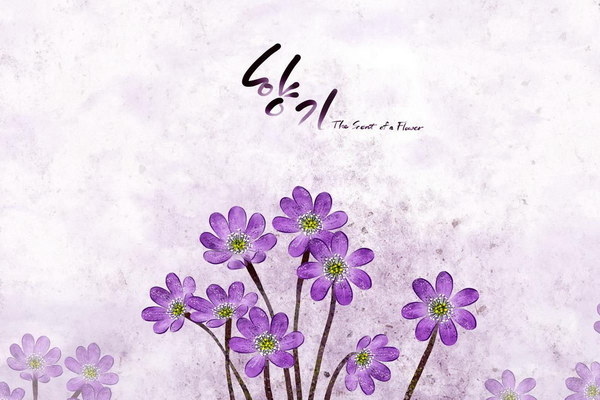Западный ветер
(новелла из моей книги "ЗАКАТ И ВОСХОД" )
На дворе стояла весна 1967 года. Глубокой ночью по крутому спуску над Доном тарахтела подвода. Зарядил обложной дождь, дороги развезло и кобыла с трудом, скользя вместе с подводой и двумя мужиками, поднималась в гору, казалось, что она вот-вот сорвется в разлившийся до самой горы Дон.
Абрашкин, спрыгнув на ходу, вздохнул.
– Ну, вот и приехали, батюшка, слава богу, ночь-то хоть глаза коли, хороший хозяин и кобеля не выгонит, – подал руку священнику. Тот грузно спустился на землю, сбросил с лица капюшон плаща, глухо закашлялся.
Абрашкин стукнул кнутом в окно, в доме тотчас вспыхнул свет. На крыльцо вышла хозяйка , набросив на ночную сорочку пуховый платок, сняла с ворот засов и распахнула их. Затем хозяйка припала к руке священника. Поцеловав её, она присела и приложила губы к ризе. Священник приподнял ее с земли, осенив крестом.
– Ну, полноте, голубушка – тихо сказал он, – продрог я весь, чайку бы вначале, а потом займемся делами, ваш внучек будет третьим за ночь.
Пока Абрашкин распрягал кобылу и заводил ее в стойло, Абрашкина повела священника в горницу, где спал внук Георгий, отроду которому на 6 мая исполнялось три недели. Бросив кобыле охапку пахучего сена, потрепав ее по правому боку, хозяин снял с себя плащ, и, стряхнув капли дождя, вздохнул на полную грудь. Разведривалось утро, один за другим гасли бакены на Дону, а влажный западный ветер, его порывы, как бы обволакивали цветущий молодой абрикос. Деревцо, привезенное ранней весной с
молдавской земли, неожиданно прижилось на удивление хуторских. Абрашкин шагнул к нему, склонил лицо и слизал языком с нежных цветков дождь, на миг почувствовав горьковатый привкус. Из дома донесся плачь Георгия, резкий, пронзительно щемящий душу, а потом... смех, или это ему показалось?.. На крыльцо босиком, в распахнутом халатике вышла простоволосая Анютка, Абрашкин шагнул к дочке, бросил на ступеньки плащ.
– Ну что вся растелешилась, ветром прохватит... – кто мальца кормить будет?Береженого бог бережет.
Анютка присела на плащ, стала заплетать косу, вся светящаяся от переполненной радости. Радость словно вырывалась из ее глаз, высокой полной груди, из ноздрей.
– Ну что вы, папаня, я ж зимой по снегу босая хожу.
– Ну как, к о з а к ? – Абрашкин присел рядом и обнял дочку.
– Представляете, когда отец Никодим поднял его на руки, он как заорет, видимо бороды испугался, но как только посадили его в ванночку, он сразу перестал плакать и заулыбался, засмеялся, заболтал ножками.
– Вот стервец, воду любит, сразу видно, что к о з а к.
– Да какой же он к о з а к, папаня, отец-то кто его, разве вы не знаете, а я... ? – Анютка вздохнула.
– Ну, ну, будя, раз на Дону родился, значит к о з а к, правда, нонешний-то всё норовит на дурняк прожить, к бабкиной сиське присосаться. Весь цвет казачий сгноили по перевалам, по тюрьмам. Та дорога, что в аэропорт ведет, черные бугры, бурьяном поросшие, эх-ма... Я когда проезжаю той дорогой, хотя сам без креста, что-то в душе переворачивается, сколько юнкеров расстреляно там, они ж еще совсем дети были, эх…
– Надо б папаня ставни закрыть, всё видно в окна, узнают, что крестили Георгия, попом будут дразнить, я помню в школе одного мальчика, перекашивая, окликали: попик, попик ,только за то, что он крест носил. Показывали пальцем на него и кричали попик горемычный, я б не хотела, чтоб моего сынулю так дразнили.
Абрашкин обошел дом, прикрывая окна расписными ставнями, вновь остановился у цветущего абрикоса, залюбовался, Анютка уловила движение отца и тоже заулыбалась.
– Словно ветер на сахаре настоян, – тихо сказала она, – так пахнет у нас, такая весна в этом году на дворе, прямо загляденье.
– Так пахнет только абрикос, – мечтательно сказал Абрашкин, – этот запах я ни с каким другим не спутаю.
– Может потому, что он первый, папаня. Я вышла вчера рано утром с малышом подышать воздухом и обмерла. Пять цветочков уже, а последний прямо на моих глазах раскрылся. Нет, ромашки не все сорваны, папаня. А я задумала, если этот абрикос зацветет, значит любит, значит, будет гадать на ромашках.
…Абрашкину же вспомнилось другое. Прошло столько лет, название села
позабыл, а вот цветущий сад забыть нет сил, раскидистый цветущий абрикос, красивое лицо молоденькой женщины.
– Грустно, папаня, что-то вспомнилось?
– Нет, – сказал он, – когда со мной рядом моя дочь, мне, поверь, очень хорошо. Этот абрикос напомнил мне то, что я, казалось бы, забыл. – Абрашкины обнялись.
– У каждого сорта есть свой год цветения. Раз этот малый зацвёл, значит его год пришел, лишь бы мороз не ударил. Тогда в мае 44-го тоже рясно цвел абрикос. От его приторного запаха можно было сойти с ума. Стоит проснуться по первой зорьке, словно в шатре невесты спишь. Сколько на Дону видел цветущих деревьев, но такой роскоши цветения не встречал. Может, тогда мне все казалось особым. Я был молод, влюблен.
– В ту, папаня, что у вас в альбоме, с такой косой, ну чисто краля, поэтому вы меня не ругаете, когда я хожу с распущенными волосами, а маманя мне только вслед, ну что ты как лохудра! – Анютка засмеялась, – Ну и хитрец вы, – крепче прижалась к отцу, – рассказывайте... что же дальше, вы шли на Запад, мне всё ясно, ну а что дальше?..
– Да ничего особенного. Знаешь, как на войне, все вперед и вперед.
Тихон Абрашкин припал спиной к перилам крыльца и стал рассказывать Анюте, может в сотый раз.
?
…Сколько потом память не бередил, так и не вспомнил название села. Искал, искал. После победы сразу прошел через несколько сел вроде бы похожих, у калиток стоял подолгу, абрикос тот искал, ну а значит и ее. Именно в ее дворе госпиталь был, в ее доме нас лечили. Правда, абрикосы уже отцвели, но зацветала сирень. Я спал в разных гостиницах, и, просыпаясь, ловил запах сирени, на столиках сирень, в окна глядела сирень. Но как не прекрасна роза в чужом саду, а своя ромашка у порога всё роднее и я подался домой, к Дону. Раньше у веранды тоже цвела сирень. Дерево было раскидистое, ветви толстые, по весне пол крыши закрывала своим цветением. А в одну ночь дерево рухнуло. Мать моя, она ещё была жива, сказала: “Наверное заполивали, вот и корень подгнил, ты сынок, приведи поскорей в дом женщину, как видно, мой черед пришел”.
– И вы женились, папаня? – спросила Анютка. – Вы женились на мамане?
– Нет, дочка, я снова уехал туда, я снова ее искал, искал тот цветущий абрикос, искал дом, искал село. Искал заветную. Конечно, мой сегодняшний ум тогда бы, я всё сделал по-другому. Но тогда... Я исходил многие села вдоль и поперек, и уже думал, ну всё баста, переночую где-то на автостанции и домой. Прошел я узкой улочкой, деревья уже отцвели, завязывались плоды и на первый взгляд все были как близнецы. Я забрел в один сад, он был в запустении, заросший повителью, репейниками. Вытоптал сапогами тропинку, расправил ветви у старого раскидистого дерева и вздрогнул: там стояла кровать с железной сеткой, сетка была прогнутая, панцирная.
Почувствовал, как забилось мое сердце. Я раздвинул ветви и присел на край заброшенной койки. Неподалеку, словно вросший в землю, стоял домик с синими ставнями, на крыльцо вышла девочка с распущенными нечесаными волосами и бантом у виска – это я запомнил на всю жизнь. Я тотчас встал, рванулся к ней и спросил ее имя. Девочка пожала плечами. “Ты не понимаешь по-русски?” – спросил я. В ответ она показала мне три пальца, присела на половичок. Она была такая худенькая, как мотылек, только сверкали глаза, как бездонные озера. “А где мама твоя?” – я присел перед ней на колени. “Мамика спит” – еле слышно сказала она. Я понял, что ребенок голоден. Я открыл свой чемоданчик, развернул тормозок, собранный матерью в дорогу. Протянул ей. Но она не проявила никакого участия. Только молча смотрела на меня. “Ну давай, бери, здесь оладьи с творогом, сладкие, их жарила моя мать!” Девочка взяла оладушек.
– Так долго нет дождя. Перед тем как уснуть, мама мне сказала: “Анюточка, как пойдет дождь с грозой, ты выйди на улицу и смотри на небо. Жди, когда на небе появится радуга. Ты увидишь на ней лестницу из 7 цветов, по ней ты поднимешься ко мне и найдешь меня у фиолетовой ступеньки, там я буду тебя встречать, нам вместе будет так хорошо, и вместе нам никто не будет страшен”. Сказав это, мама уснула, а я всё дождя жду. Ты не знаешь, когда он будет? Что я мог ответить? Как говорят, любовь, любовь, а вот жалость куда деть? Уехал за женой, а привез дочку. Ну, а потом я все-таки женился. Судьба послала мне славную казачку. – Абрашкин засмеялся, – и стали мы втроем жить, – и обнял дочь.
– Вы думаете, что я похожа на ту женщину, папаня?
– Ты похожа на мою мечту. А теперь ты стала матерью, ты подарила мне внука, если б ты знала, как я счастлив.
– Неужели, я тогда знала три языка?
–Дети из тех мест знали сразу несколько языков, когда я лежал в госпитале, нам пел романсы шестилетний смугляк на французском. Там воздух настоян на цветах… ты как “copil din flori” – дитя цветов, я думаю и тот смугляк, да и ты из той колыбели цветов.
– Поэтому и Михай показался мне таким близким. Ветер родины подул.
На веранду вышел священник, следом Абрашкина. – Спасибо, отец Никодим, теперь мальчик приблизился к богу, – сказала она, целуя руку.
– Храни вас бог, хороший мальчик, берегите его. В его глазах есть то, что я не видел у нашенских.
– Он уснул сразу же, – сказала казачка, – как он любит воду, как смеялся, сорванец! В молодости хотела родить мальчика, но не судьба. Война, голод. Голод не тетка, за стол не посадит, – она положила тяжелую ладонь на голову Анютки, – вот доставила мне радость.
– Вы бы остались у нас переночевать, да я и коня распряг, – сказал Абрашкин отцу Никодиму, – куда же на ночь глядя?
– Хорошие вы люди, но если я буду ночевать на чужих перинах после каждого крещения ребенка, что скажет про меня матушка Анисья? Оседлай мне жеребца, я доеду сам, не впервой ночи бороздить, да и уже брезжит рассвет, мягкий ветер, попутный западный ветер, я люблю ветер, когда он дует с запада.
Абрашкин спустился с порога, подошел к стойлу, вывел молодца во двор, подтянул подпругу. Конь, почувствовав волю, заржал.
– Но вот и молодец радуется, – сказал священник, – потрепав его по гриве, вскочил, как юноша, в седло и вскоре скрылся в ночи.
На веранду, обнаженный по пояс, вышел Михай. Спустившись, он вылил в ложбину воду из деревянного корыта, в котором окрестили его сына. Присел на порожек, приставив корыто к водосточной трубе.
– Я полы вымыл в горнице, всё прибрал, – сказал он тихо Анютке. На обнаженной, усыпанной черным пушком груди, отсвечивался большой серебряный крест.
– Хороший зятек будет, раз пол моет, сразу видно не хуторской. Молодежь-то почти без креста. Редко кто носит, да и того на смех поднимут, – Абрашкин обнял жену. – Ну ладно, мать, не будем молодым мешать, пошли покачаемся. – И Абрашкины ушли в свои покои.
– Хорошо, что есть ты, без тебя я б не решилась крестить Георгия. Ты не уйдешь?
– Я ж вернулся, а когда возвращаются, то уже не уходят, в речку дважды не входят, ты меня на всю жизнь зацепила.
– Помнишь, ту нежную сентябрьскую ночь, когда ты постучался к нам в калитку?
– А ты бросила в меня веник, ну и угораздило меня к вам постучаться! Я так долго шел в гору с переправы и вдруг над горой увидел дом с верандой, прямо над обрывом, я неожиданно почувствовал, что сердце мое забилось, как будто я пришел к себе домой, я фаталист, я верю в судьбу, что-то свыше есть, ты еще не знаешь, что случится с тобой, но уже всё предопределено, – вот так оно и вышло. Этот дом над обрывом, над Доном, где по ночам зажигаются бакены, где мерно плывут катера с баржами, стал моей судьбой.
Анютка засмеялась, обняла Михая.
– Да, ночью всё было странно, какой-то чужой парень издалека, с каким-то вином, которого я еще никогда в жизни не пробовала, но вот утром... Когда по утру я вышла во двор, то увидела, как ты умывался у стойла, наши глаза встретились, я почувствовала дрожь в коленях, словно меня крапивой обожгли. На меня глянули такие нежные голубые глаза, словно в них цвел подснежник, а что ты почувствовал?
– Землетрясение... – засмеялся он, – земля ушла из-под ног, ко мне шла такая желанная, такая свежая, с распущенными волосами, ангел сущий.
Светало, на Дону один за другим гасли бакены, молодые сидели обнявшись и вспоминали, что было нежной сентябрьской ночью год назад...
За высокой калиткой стоял незнакомец. Анютка взяла веник и швырнула в парня, но тот ловко подхватил его на лету.
– Красавица, так что ли гостя встречаешь, метлою ли, я ведь не ворюга, какой, я честный парень, издалека приехал.
– Да, много вас тут таких честных, издалека, – протянула Анюта.
– Дай хоть кружку воды, я в гору шел, ноги так и занемели.
– А ну цыц, – девка грозно замахнулась на разъяренного пса.
Спустилась по порожкам, подошла к калитке.
– Кто ты?! Я что-то не припоминаю тебя. Таких чубатых у нас на хуторе нет.
– Да говорю я тебе, красавица, что издалека ехал, из другой земли, где виноград растет. Меня колхоз послал к вам вином торговать, у меня бумага есть?! – и парень полез в карман за документами.
– Э ... – замахала рукой Анютка, – брешешь ты как пес тот... На шум вышел казак Абрашкин, подтягивая поясок на шароварах. Спустился босиком вниз и оттолкнул Анютку от калитки.
– А ну кобылка, что перед чужаком растелешилась. Всё добро наружу выставила, – открыл калитку и впустил гостя.
Вторично вечеряли казаки Абрашкины втроем, вместе с гостем за компанию. Анютке же Абрашкин повелел не показываться. И та наблюдала за происходящим, приоткрыв занавеску из своей комнаты. Жена Абрашкина, статная моложавая казачка, в широкой цветастой юбке и такой же кофте с длинными пышными руками. накрывала стол расшитой скатертью, расправляла ее кайму, словно хвастаясь перед гостем, ставила графин с брагой, тарелку холодца из свиных ножек, горчицу, огурчики – в общем, всё как у людей. Но сама за стол не села, а расположилась на веранде у большого фикуса.
– Ты Михаил на нас не гляди, мы уже вечеряли, мы рано вечеряем, потому что встаем вместе с петухами, на базу много работы. Абрашкин налил в стаканы холодной браги, первый гостю, потом себе.
– И какое же ты вино привез? – спросил он.
– Розовый портвейн... – ответил Михай.
– Крепляк ,значит, ваше колхозное начальство мудрое, знает, что здешнему казаку по душе. Но и наша бражка неплоха, сам делал, – и налил по второму.
Но Михай отказался, – ты прости, отец, я устал с дороги, завтра надо на станцию ехать, бочки перегонять, хлопот много.
– Я понял, сынок, ты приехал с волшебной земли, где реки полные вина.
Михай вынул из расшитой торбы горсть сушеных абрикос и рассыпал их по столу.
– А что ж девки-то вашей не видать, – забеспокоился гость, – пусть угощается. А мне б помыться на сон грядущий.
– А что ж ты в Дону не искупался, вода еще теплая, – подала голос Анюта.
– Да темно-то было, а плавать не умею.
– Ты не умеешь плавать? – Анютка появилась на веранде, – так я зараз научу тебя, – она спустилась к столу, присела на край лавки – напротив Михая, взяла сушеный абрикос и медленно положила в рот.
– А ... – протянула Анютка, – это то, что слаще конфетки.
Ковш Большой Медведицы расположился прямо над Абрашкиным домом и во дворе было почти как днем.
– Мать! – сказал Абрашкин жене, – принеси-ка гостю чистую рубаху, его вся пропотела, да махровое полотенце китайское, из тех, что нам на праздник подарили. Да перемычку не забудь поставить в душевой...
Михай вылез из-за стола, расстегнул ворот рубахи. Абрашкина вынесла перемычку на веранду, вкрутила лампочку, и при свете электричества во дворе стало так ярко, что Анютка увидела на груди гостя большой крест, он весь так светился.
Анютка приблизилась к Михаю и стала рассматривать его крест.
– Какой большой, отродясь такого не видела, – говорила она, дотрагиваясь до креста пальчиками. – И что на вашей земле все с такими дорогими крестами ходят?
Абрашкин потянул Анютку за косу.
– Ну, дотошная ты, как юла, вертится, вертится!
Михай молча взял полотенце, чистое белье от Абрашкиных и пошел в пристройку. Приняв душ и неожиданно почувствовав себя человеком после изнурительного пути по железной дороге, он мгновению крепко уснул в гостиной на большой софе.
Розовый портвейн шел удачно. Слух о том, что молдаванин привез розовый портвейн разлетелся с быстротой молнии по всей донской округе, и покупателей было в две, а то и в три очереди прямо от базара до дверей местного магазинчика. Рядом с Михаем сидела Анютка в коротком сарафанчике, лузгая семечки. И лишь временами, чтобы утолить жажду, она опускала указательный палец в розовую пену на дне поддона, где стояли литровые кружки, наполненные до верха вином, подносила палец к губам, смачивая их. Ну а под вечер, когда солнце уходило за горизонт, Анютка уводила Михая на Дон смыть хуторскую пыль. Сентябрь стоял на удивление бархатным, раскидистые ивы стелились низким шатром у самого берега, крутого и обрывистого. Анютка хохоча, сбрасывала на бегу сарафанчик, спрыгивая прямо с обрыва в воду, посылая фонтаны брызг на Михая. Вечеряли они все вместе вчетвером на веранде при свете луны и переноски, подвешенной на козырек ставни. Абрашкина жарила на примусе пышные оладьи на меду и прямо с пыла подносила их гостю и мужу. Анютка же увлекалась только сушеным абрикосом.
– Слаще конфетки, – кокетничала девка, – отродясь я такого в жизни не ела. Да и никто у нас на хуторе не ел такого, правда, маманя, папаня...
– Ладно, – говорил Михай, – раз вы такие хорошие люди, может я приеду еще раз, весной, или осенью, как выйдет, я привезу вам настоящий абрикосовый саженец, со своего сада.
– Э...– смеялась Анютка, – ты думаешь деревцо приживется? Да у нас крещенские морозы, не выживет.
– А может и не убьет мороз, – сказал Абрашкин.
– Коль снега много будет, так и приживется, – в тон мужу сказала Абрашкина.
– Вот бы козаюрда завидовала нам, – размечталась Анютка, – а то всё груша, да вишня, да яблоки, а у нас абрикос... Сам бог абрикос!
– А глаза-то у тебя сынок, я еще в то первое утро подметила, как у женщины...синие, с поволокой, – тихо сказала Абрашкина, – и крест носишь, человек с крестом никогда плохого не сделает, наверное потому и муж тебя впустил в дом, он чужака в дом на ночлег не пустит. Женат небось?
– Нет, не успел, с армии только пришел. Думаю в монахи постричься...
– Да бог с тобой! – Абрашкина перекрестилась, – красавец-то какой и в монахи, девкам и так парней не хватает.
Анютка от удивления привстала с лавки.
– Ну это похвально, – сказал Абрашкин, – такой девицу не испортит, а испортит, так под венец поведет.
– Ну что вы такое говорите при госте, папаня...
– Да не про тебя речь, – протянула Абрашкина, – ешь свой абрикос, да помалкивай, отец вообще говорит...
– Казак-то сейчас мелкий пошел, креста на нем нет, побалуется с девкой да бросит, а она глянь уже пузатая.
Абрашкин вывел Михая в сад. Воздух был чист и прохладен, настоян на запахах спелой груши, на Дону вспыхивали бакены. Под раскидистой грушей стояла убранная железная кровать с занавесками на грядушках.
– Какие ночи! – мечтательно сказал Абрашкин, – так бы всю жизнь провел на этой койке, – он качнул койку, – а сетка у нее панцирная... таких уже сейчас не делают, кровать эта с голубыми рюшами досталась нам с матерью по наследству. Мы здесь, когда помоложе были, качались. – Абрашкин похлопал Михая по плечу, пожелав спокойной ночи, ушел. Михай прилег на спину, заложив руки за голову, вдыхая аромат груши. Послышалось шуршание листьев, он вздрогнул, приподнял голову, вгляделся в ночь и вдруг засмеялся. Перед ним выросла Анютка со свертком в руках.
– Ну и напугала ты меня, – сказал Михай, – привстал с кровати.
Анютка присела на её край.
– Маманя с папаней тебе простыни чистые послали, а ну-ка слезь, я постелю.
– Зачем, я не гордый, я и так высплюсь, – но встал с кровати. Анютка молча распрямила накрахмаленные простыни, расправила каждую
складочку, взбила перину и подушки по-хозяйски. Михай, отойдя в сторону, любовался исподтишка ее движениями, ее косой, скользящей по спине. Потом сделал шаг вперед.
– Чем ты так пахнешь, Анютка?
Михай почувствовал ее жаркое дыхание. Анютка дотронулась пальчиками его большого креста.
– Ты и впрямь хочешь быть монахом?
– Тебе так важно знать, кем я хочу стать?
Анютка пожала плечами, обняла его слегка за плечи, Анютка была девкой рослою, но всё равно оказалась на голову ниже Михая. Привстав на цыпочки, она коснулась его горячих губ.
– Смелая ты, – он и не отвел ее рук, и не сделал лишнего движения – стоял как завороженный.
– А казачки все такие, если ей парень по душе, она цветами выстелит ему тропу.
Михай присел на кровать, на накрахмаленные простыни.
– Чтобы ты хотела, Анюточка? – спросил Михай, лаская ее волосы.
– Желтую лилию ... – тихо сказала Анютка.
– Что? – Михай расхохотался, – да где же я возьму ее сейчас?
Анютка пожала плечами, – ты ж спросил, а я ответила. Я же Абрашкина, это знаменитая фамилия, про казаков Абрашкиных много легенд на хуторе сложено, и есть одна про желтую лилию.
– Ах вон оно что, а я не знал, сколько ты классов кончила?
– Семь классов и один коридор, – усмехнулась Анютка. – У нас на хуторе только семилетка, а дальше если учится, то надо на лошадях ездить. Осенью я могла бы и сама на лошади ездить, а вот зимой как? Все пути запорошит метелица, даже волк не пройдет, не то что лошадь.
– Да и зачем тебе голову учебой забивать, ты вся из себя видная, в девках не засидишься, небось от казаков нет отбоя?
Порыв ветра качнул крону старой раскидистой груши, что-то упало прямо на простынь, обдав брызгами молодых. Анютка с испуга подскочила.
– Да это же груша упала, Анютка,– сказал Михай, – только чистую простынь испачкала, и он смахнул на землю грушу.
– У нас такие груши называют “дристухой”, они такие пахучие, когда переспеют.
Михай приподнялся, пригнул ветку и слегка тряхнул. Груши посыпались на кровать. Михай взял одну, протер и протянул Анютке.
– Вот тебе и лилия... Из осенних фруктов я больше всех люблю груши.
Анюта взяла грушу и надкусила ее.
– А мужики только грушу и любят, вот мой папаня только и бредит по груше, особенно зимой, вот если б абрикос, – она помедлила, заглянула ему в глаза,– ты и впрямь привезешь нам саженец абрикоса?
– Попробую, далековато вы живете только.
– А ты в мокрую тряпочку корни заверни, вдруг и приживется, у нас будут абрикосы, ни у кого, только у нас. А как цветет абрикос? Красиво?
– Да почти как вишня, только чуть нежнее и солнца больше в лепестках, у нас по селу даже на улицах цветут абрикосы, идешь мимо калитки, а тебе под ноги абрикос падает.
– И что? – удивилась Анютка, - неужели падает абрикос?
– Да ничего, это так обыденно для нас.
– Ну что ты, по-моему это как в раю. Раньше мне казалось, что в раю цветут только одни вишни и груши, но теперь я думаю, что там цветет только один абрикос.
Анютка присела на охапку листьев, еще хранивших тепло осени.
– Ты поспи, а я посижу чуток, ночь-то какая волшебная, Михайчик!
– У нас во дворе дома растет орех, такой могучий и раскидистый, его ветви так тесно между собой переплетены, такие прочные. В детстве я стелил на них старое одеяло и засыпал.
– Спал на орехе? Счастливый, а я и орех никогда не видела.
– Ну, орех я думаю, не приживется, а вот абрикос, возможно, я сам его посажу, у меня рука легкая.
Анютка приподнялась с земли, поцеловала Михаю руку. Михай растрепал Анюткины волосы.
– Шла бы ты отдыхать, а то что про меня твои маманя с папаней подумают?
– Я б никуда от тебя не ушла, – Анютка беспечно рассмеялась.
– Глупая ты еще телка! Это я должен целовать твою нежную ручку!
Анютка неожиданно для себя обняла Михая и так прильнула к нему, что парня бросило в жар. Михай не смог совладать с собой и отдался ей.
Продав все колхозное вино, он уехал домой, не подозревая о том, что через несколько месяцев выпадет ему дальняя дорога к дому Абрашкиных. Михай приехал в донской хутор весною. То ли осени бархатной не смог дождаться, то ли тоска запала в его душу по далекой казачке с нежной как абрикос кожей. От станции Серебряково, куда через Харьков и Волгоград доехал он поездом, в заветный хуторок довез его автобус. На песчаной косе, омываемой пенистой волной Дона, Михай долго смотрел вдаль, на противоположный берег реки, где над обрывом высился дом казаков Абрашкиных. Шел стор, глыбы льда, наплывая друг на друга, трескались с шумом, пропадая под снеговую воду и вновь выплывая на поверхность. Михай был растерян, он даже чего-то испугался – вот так негаданно..., но обратной дороги у него не было.
На противоположном берегу Дона, разлившемся почти под самую подошву известковой горы, на обрывистом склоне, из знакомого дома с расписной верандой кто-то вышел. Пенистая холодная волна омывала его ботинки, но он так и стоял, как завороженный смотря в даль, сердце забилось, кажется, это Анютка. За его спиной был рюкзак, а в руке он держал обмотанный плотной бумагой и перевязанный шпагатом абрикосовый саженец
из его собственного сада. Паром, раздвигая льды, причалил к временно сбитой пристани. Михай, перепрыгнув через бревна, обвязанные цепью, взошел на паром, поудобней усевшись на сруб, положив на колени большой сверток. На пароме он плыл один, и это ощущение одиночества среди льдов неожиданно обрадовало и успокоило его. В душе он был романтик. Паром, еще не успев приблизиться вплотную к деревянному помосту, как Михай, подхватив сверток, и прижав его к груди, прыгнул на берег, круто зашагал по тропе в гору. На середине пути он неожиданно придержал широкий шаг. Расстегнул овчинный полушубок, вынул из внутреннего кармана складной ножик. Чуть поодаль, под кромками талого льда, он приметил полоску подснежников, присел на корточки и осторожно их срезал. Вынул платок, завернул цветки, положив в карман полушубка. Хотя он знал, что в доме казаков Абрашкиных его не ждут, но все равно спешил. Спешил с той памятной осени, когда распрощался с Анюткой. Спешил в мечтах, шел во сне к этому дому по белой горе. Калитка не была заперта, Михай толкнул ее, и первое на чем поймал себя, что не слышит неугомонного собачьего лая. Почувствовав, как гулко забилось сердце, он распахнул полушубок, снял с плеча рюкзак, оставил его у порога, положив сверху бумажный сверток, из которого выглядывали ветви деревца. Голос его неожиданно сел, он с хрипотой произнес:
– Есть кто дома?
Но никто не отозвался. Михай поднялся в дом, сбросив полушубок и кушму на лавку. Весело потрескивали дубовые дрова в печи, обложенной голубым узорчатым кафелем, у охапки дров примостился большой рыжий кот. Он приоткрыл левый глаз, посмотрел им на вошедшего.
– Ну, здравствуй, Василий, где ж хозяев подрастерял?
Кот вскочил, выгнул спину и распушил хвост.
– Признаешь? – засмеялся Михай, присел на корточки, помешал дрова в печи.
– Кто здесь? – из гостиной вышла Абрашкина и всплеснула руками, – Соколик, да уж-то прилетел снова к нам?! Не забыл нас, как славно, как славно... – затараторила она, обнимая Михая.
Абрашкина подлила теплой воды в рукомойник, распечатала новое мыло, принесла из комнаты махровое китайское полотенце.
– Пока умойся-ка с дороги, а я тесто для вареников замесила, какое-то чувство было, что кто-то спешит.
– А Анютка где? И во дворе что-то тихо у вас –..хрипло спросил Михай.
– Да, – Абрашкина смахнула набежавшую слезу, – дочка работать пошла, она на дежурстве в скорой помощи, а вот Трезора нашего нет в живых. На живодерню попал, – вздохнула Абрашкина.
– Да как же так? Такой пес ...
– А... – махнула рукой Абрашкина, – Анютка взяла да и отвязала его, спустила с цепи на ночь, дала ему волю, а тут как назло была облава на
бродячих и наш пес попался, мы когда узнали, то было поздно...
Михай умылся по пояс, набросил на плечи рубаху, сел за стол.
– Что-то покрепче? – спросила Абрашкина
– Да нет, только чай. А что Анютка еще не вышла замуж?
– Да нет, – сказала Абрашкина, – она такая скрытная, от нее ничего не добьешься, и она так изменилась.
– Изменилась?
Абрашкина поставила на стол большую чашку взвара из шиповника.
– Пей, – сказала она, – пей сокол, всю усталость, как рукой снимет. А ты уж загорел, поди там на вашей земле лето!
– Лето не лето, но жарко, весна рано пришла, а всё дома по хозяйству, мать-то у меня старенькая, одна меня вырастила.
– Ты принес нам настоящую весну– сказала Абрашкина. – После того как ты уехал, Анюточка наша так переменилась, словно бес какой-то ее попутал. Я поехала в станицу, поставила свечку в церкви.
Абрашкина присела на край скамьи и внимательно вгляделась в лицо неожиданного гостя.
– Какие у тебя глаза, сынок – да я уже тебе говорила раньше, как у женщины.
В голубых глазах Михая застыла улыбка. Дверь бесшумно распахнулась и на пороге появилась Анютка
– А я на крыльце увидела деревцо и сразу вдруг всё поняла.., – девка засмеялась и кинулась обнимать Михая.
– Анюточка... – выдохнул он.
Часто по ночам Михай держал в объятьях загадочную казачку, но вот когда это случилось, когда он почувствовал ее жаркое дыхание, он вдруг оробел.
– Ну, будя тебе, Анютка, – сказала Абрашкина, – в конец за смущала гостя, и она дернула дочь за косу.
– Ну что вы, – тихо сказал Михай, – я так рад вам всем. Я совсем забыл, – он отвел Анюткины руки, шагнул в чулан, где висел его полушубок и достал из кармана горстку помятых подснежников.
– Это тебе, я по дороге к вам собирал, – протянул он Анютке первые весенние цветки.
– Как славно! – вскрикнула она, и стала целовать каждый цветок от умиления и радости неожиданной. – А мы вчера с маманей снег расчищали у погреба, а котофей сидел на пороге и умывался, так долго, так сладко умывался, урчал, словно мышь держал в лапах. Но я даже в мыслях не могла подумать, что он замывает Михайчика!
Михай развел руками. – А я и сам не ожидал, что приеду. В один миг решил. Выкопал в саду абрикос, завернул его потеплее и был таков.
– А матери-то что сказал? – тихо спросила Абрашкина.
– Да ничего, – смущенно ответил Михай, – она привычная, я часто уезжаю
на заработки, бывает и месяц, и два, поцеловал ее молча и поехал на попутной в город, потом от города автобусом в столицу и уже к вам поездом, потом автобусами. И только когда сел на паром, ощутил всю вашу красоту Дона, хутора, обрывистого берега, дух захватило, тогда и осознал, что я рядом с вами…
– Ну вот и оставайся у нас сынок, коль нравится, – тихо сказала Абрашкина.
– Э... – протянул Михай, рад бы в рай да грехи не пускают.
В аккурат подоспел и сам хозяин-казак Абрашкин, расцеловались, сели вечерять. Пили чай с вишневым вареньем в горнице, посчитав Михая самым почетным гостем. Анютка выплевывала косточки в блюдечко, не отрывая ласкового взгляда от парня. “Сокол-то прилетел вовремя” – шепнула на ухо Анютке мать. Прислонив спину к изразцовой печи, словно отогреваясь за дальнюю дорогу, Михай не спеша распаковывал нехитрый багаж. Развернул большой целлофановый пакет, плотные листы бумаги, потом мокрые тряпицы. И в миг вся горница пропиталась ароматом весны. Анютка всплеснула руками.
– Так вот он какой саженец?
Анютка присела на корточки и стала целовать липкие, слегка распустившие изумрудные листочки саженца.
– Это хорошо, что ты с большим комом земли привез, – степенно сказал Абрашкин, – Я сначала посажу его в кадушку, пусть он на веранде чуток постоит. Земля обогреется, и я высажу во дворе.
– И не думайте, отец, что я привез вам какой-нибудь жерделю, а чистый абрикос–банановый, золотистый, с пушком, как грудь женщины, – и он от восторга стукнул ладонью по столу, – к тому же саженец готовится к первому цветению...
Михай в этом веселье вдруг поймал себя на мысли, что назвал казака Абрашкина отцом. Но это, пожалуй, осталось незамеченным. Абрашкин думал о том, где, в каком месте сада посадить саженец. Мысленно он перебирал каждый уголок. Ему казалось, что в той стороне, что от Дона, часто дуют ветры, возле сарая место не столь привлекательное, не броское, а казак Абрашкин хотел еще, чтобы его первый на хуторе абрикос был виден всем прохожим с улицы и когда он цвел, и когда он плодоносил. Размечтался Абрашкин...
– Пошли, мать, на веранду, пока светло, пусть молодые по воркуют, – Абрашкин поднялся со стола, взял в руки деревцо вместе с целлофаном и бумагами. Вышел, следом за ним Абрашкина. За горизонтом над Доном разгорался закат. С высокой горы было такое ощущение, что солнце купалось в половодье вешних вод. Абрашкин накопал земли у самого обрыва под старой вербой, выкатил из сарая кадушку, принес ее на веранду, и вместе с привезенной землей опустил на дно кадки деревцо. Он расправлял каждый нежный корешок, присыпая черной землей донской, а Абрашкина поливала землю талой водой, которую она собирала для цветов из водосточных желобов.
– Я думаю так, – говорил Абрашкин, – до середины апреля абрикос
поживет на веранде в кадушке, привыкнет к нашему воздуху, а потом, когда ночи потеплеют, я высажу его во двор, в сад. И знаешь, мать, – задумчиво протянул Абрашкин, – где я его посажу? Я посажу его неподалеку от старой груши дристухи, – где летняя моя кровать. Груша сильная, ветвистая, прикроет саженец от ветров с Дона и даст ему прохладу в жару, – обнимая жену, размечтался Абрашкин.
На веранду вышла босиком Анютка, в белом пуховом платке, наброшенном на шелковую сорочку до пят.
– Надо ж, при госте, в сорочке, – сурово сказал Абрашкин, – никаких у меня вольностей с заезжим парнем, своих пруд пруди.
– Ну что вы, папаня, – какие там вольности, – глухо сказала Анютка, – Да и гость уже видит седьмой сон, – и она распахнула дверь в горницу.
На диване, прикрытый розовым атласным одеялом, раскинувшись на спине, посапывал Михай.
– Вот видишь, спит чисто, как господарь, – и Анютка прикрыла дверь.
– Ну ладно, – Абрашкин пристально посмотрел в глаза дочери, потом перевел взгляд на жену, – пойду еще землицы накопаю. Взял лопату и спустился во двор к сараю. Анютка заплакала.
– Ну будя, – умоляла ее мать, – ну будя... Ты своему открылась, что тяжелая..?
– Нет, маманя, да как я ему могу сказать, если он этого не понимает. Поставьте вы себя на мое место? Вырастим и сами, раз бог дал такое испытание.
– Ступай в дом, вышла на босу ногу, еще дитя застудишь, ты знаешь, как он страдает сейчас, – Абрашкина положила руку на живот дочери, прикрытый пуховым платком. – Ты плачешь и он следом за тобой, – Абрашкина вытерла шершавой рукой Анюткины слезы. Они прошли через горницу в комнату Анютки.
– Надо собрать ему на дорогу. Михай уедет с утра, чтобы попасть на самолет.
– И почему так с утра? – удивилась Абрашкина.
Анютка пожала плечами.
– Он словно боится чего-то, прикоснулся лишь к губам, как котенок лизнул, вот и вся любовь наша.
Анютка припала на колено перед образом Богородицы и, крестясь, зашептала слова молитвы. Абрашкина села на кровать. Ей нравилось то, что Анютка в отличие от многих ее ровесниц, напоминает ее мать, набожную казачку, оставившую после себя лишь иконы, которыми была украшена и Анюткина комната. Сам Абрашкин к богу относился спокойно.
– Я тебе вот что скажу, – продолжила Абрашкина, – силой его оставаться при тебе не заставляй. Через год-два, три он все равно сбежит, если силком сейчас удержишь. Он не конь, вожжей не удержишь. А вот если сам до всего дойдет, сам останется по своей воле, тогда пенять и корить будет только себя. Он же чужак.
Анютка, поджав ноги, сидела на ковре, бросая взгляды в окно. Над Доном разлилась полная луна, она словно улыбалась Анютке, подбадривая ее. Вспыхнули бакены, при их отражении в комнате у молодой было достаточно видно и без света.
– Он чужак, я все понимаю, как белый вороненок, отбившийся от стаи. Если бы вы знали, маманя, как он мне люб, я как увидела его, так вся сомлела, – Анютка повернулась спиной к окну – Ладно, пусть уезжает, может оно и к лучшему. Ступай к себе, я спать буду, ступай к папане, – сказала она твердо.
– Да у него сейчас одна радость, одна невеста, абрикосовый саженец, – и они разом вместе засмеялись.
Михай проснулся с первым отблеском зари, но Абрашкина уже хлопотала на веранде, жарила на примусе пирожки с рисом и яйцами. Михай умылся теплой водой.
– Вы что для меня специально воду подогрели? – улыбнулся Михай, – да я не барский сынок, я ко всему привык.
– Как спалось? Что снилось на новом месте? – спросила Абрашкина
– Спал как убитый, только прикоснулся к подушке и забылся, как будто хмель выпил, – засмеялся он. – Две ночи поди не спал, к вам ехал.
– Да пожил бы пару деньков у нас, поросенка бы зарезали на дорогу, а так только пирожков, да сальца кусок.
– Должен ехать я... – Михай коснулся липких листочков абрикоса. –Это хорошо, что вы в кадушку саженец посадили, я бы не додумался, возможно, я не напрасно вез его за тридевять земель. Ваша любовь его спасет.
Провожали Михая всей семьей к парому. Анютка одела белый полушубок, набросив поверх его пуховый платок, натянула сапожки на каблучке. Уложила косу вокруг головы венцом. Вышла первая за калитку, следом Михай, держа сумку левой, правой рукой обнял слегка Анютку за плечи. Чуть поодаль от молодых провожали Михая и Абрашкины. Спускались с горы молча. Над Доном вставало малиновое солнце, оно выплывало медленно из-за горизонта, а холодная, талая, еще тяжелая, волна словно поддерживала его.
– Как красиво, смотри какое солнце? – тихо сказала Анютка. – Прямо как на воде сидит.
– Красивое вы себе место выбрали для жизни. Я, правда, всегда мечтал жить у моря, – тихо, словно только ей одной говорил Михай, – но и здесь неплохо. Полное слияние с самой природой. Ты и она, и более ничего в этой жизни.
Утро огласил гудок парома, степенно затарахтел мотор катера, Анютка всплеснула руками.
– Ой, Мишенька, беги, паром сейчас тронется, потом не догонишь. Абрашкин обнял Михая, поцеловал его.
– Бог даст еще свидимся, сынок, спасибо за абрикос, когда зацветет, отобьем тебе телеграммку. Полюбил я тебя как сына! – и он растрогался, смахнул скупую слезу.
Слегка пригнув голову, держа в руке кушму, Михай прижался губами к Анюткиным рукам.Сложив руки на белом платке поверх живота, она теребила кайму.
Михай вздрогнул, словно кто-то обжег его, – выпрямился, пристально глянул в мягкие, карие глаза, они то ли смеялись, то ли... что-то хотели ему сказать.
– Ну, будя, будя, обниматься, ступай, паром разводится, – и Анютка отвернулась.
Паром давал третий последний свисток, паромщик сорвал цепь с крючка и тот стал медленно отчаливать, разбивая, расталкивая глыбы потемневшего льда. Но Михай с разгона, перепрыгнув расстояние между пристанью и паромом, вскочил на бревна, присел, помахивая рукой. Жгучий ветер вместе с водой хлестнул ему в лицо, он лишь сильнее запахнул полушубок, подняв ворот его до подбородка. Катер, обогнув белый бакен, вырвался на середину Дона и быстро пошел вперед. Михай смотрел вдаль до тех пор, пока Анютка с родителями не поднялись на гору. Странное чувство овладело им, такое он испытал впервые. Михай видел перед собой только глаза Анютки, мягкие, карие...
– Бог мой! – сказал вслух, подошел близко к краю деревянного настила, расстегнул полушубок, под рубахой нащупал крест, зашептал про себя молитву.
Анютка долго не могла заснуть в ту ночь. Уже погас свет, на хуторе электричество гасили после часа; тогда она встала, набросила халат, зажгла подсвечник, поставила его на окно, подкатила кресло и, усевшись, раскрыла книгу, но и не читалось. За окном послышался какой-то шум, словно кто-то перепрыгнул через калитку, потом стук в ставню. Анютка вздрогнула, почувствовав дрожь во всем теле. Хотела крикнуть “Маманя” – но не смогла, голос сорвался. Так босая вышла в сени, открыла дверь. У крыльца стоял Михай
– Михайчик? – она плотнее натянула на себя пуховый платок, – что случилось?
Ковш Большой Медведицы висел прямо над домом Абрашкиных. Была видна каждая звезда. Михай потянулся к Анюте, поднял ее на руки и внес в горницу. Усадил на тахту, снял с Анютки платок. Прижался лицом к ее животу и заплакал. Анютке стало не по себе, она впервые видела, как плачут мужчины в ее присутствии.
– Ну будя, будя тебе, – шептала она. – Разбудишь маманю с папаней. Папаня ведь не знает еще. Но ты-то как догадался?
– Какая ты глупая, Анюточка моя ненаглядная, – он сбросил на пол полушубок, встал перед ней на колени.
– А как же ты догадался? Маманя говорила, что первая беременность у молодой девушки может быть не видна почти до самых родов. Так оно и вышло, папаня не заметил.
– Я читал у классика, что беременную девушку можно по глазам узнать. Я когда прощался с тобой... так всю дорогу ехал с твоим взглядом...
Анютка, оборвав его, засмеялась. – Ты увидел в моих глазах силуэт своего сына, да? Ну и хитрец же ты. А как же папаня тогда не заметил?
– А разве папаня смотрит тебе в глаза?
На шум вышла в горницу Абрашкина и тотчас вспленула руками.
– Мишенька, сокол наш, вернулся?
Абрашкина обняла Михая за голову. – А я на картах прикинула, – что поворот тебе на дороге, только вот мы не знали с Анюткой, где этот поворот.
– Эх, маманя, – да вы меня таким глупым сделали. Я уже сел в автобус, в Волгоград приехал, подошел к кассе аэрофлота, билет заказал, так и пропал он. Перед самым вылетом передумал, махнул рукой и поехал на автобусную станцию, успел на последний рейс. Подарил кушму лодочнику, вот он и привез меня, не ночевать же мне на льдине, – и он глубоко вздохнул.
– Может баньку растопить? – сказала Абрашкина.
– Да какую там, маманя, баньку, идите почивать лучше, чтоб папаня не проснулся. Хлопот с ним не оберешься...
Михай и Анютка обнялись, так молча они просидели почти весь остаток ночи, проговорили. Но какая это ночь была, – самая лучшая в их жизни.
Посреди апреля Михай вынул из кадушки абрикос и прямо с комом родной земли пересадил саженец во двор вблизи старой раскидистой груши, под которой стояла железная кровать с панцирной сеткой, с пуховыми перинами и подушками. Так в душе у него царствовали две нежные, пронзительные ночи. Первая, когда он, вскрикнув, тут же провалился в бездну любви, ощутив запах чистоты девичьего тела, и та, когда он вернулся назад. В ночь на 6 мая Михай увидел своего Георгия христианином.
После крещения сына Михай снял с себя свой фамильный серебряный крест, поцеловав его, положил рядом с малышом в колыбельке.
– Ну а как же ты без креста? – спросила Анютка Михая.
– Главное, чтобы крест был в душе, а не снаружи красовался, – сказал он.
– Ты в чем-то коришь себя? –тихо спросила Анютка, – ты волен поступать, как сердце подсказывает, наша семья прокормит мальчика.
Михай обнял Анютку, – а разве в этом дело? У нас все могло быть по- другому. А в то утро, особенно, если б ты знала, как я сгорал от стыда, не мог смотреть в глаза твоей матери. Твои же родители приютили меня как родного, а я... там где спал, там и наследил. Я ношу этот камень до сих пор.
Анютка расхохоталась:
– Какой ты смешной, какой праведный, бог дал тебе и рост, и красоту, и душу, но все равно ты глупый как теленок! Тебе не понравилась наша первая ночь? У тебя была лучше?
– Ну что ты, – Михай прижал к себе Анютку, – это была самая нежная ночь в моей жизни, вот же говорят иногда люди, что они заново рождаются, так и я...но суть не в том, я готовил себя для другой жизни, более насыщенной, чем обычная мирская жизнь, но... я переоценил себя, я же жалкий жирный червяк. Пакостник!
– Ну что ты, Михайчик, ты такой чистый, бесхитростный, недаром маманя с папаней тебя полюбили как родного. Они такие строгие, а тут сдались, без росписи тебя оставили в доме, да и папаня переступил через себя, угодил тебе. Если кто-то из козаюрды прослышит, что мальчика окрестили, папаню с работы могут выгнать.
Анютка крепко прижала к себе Михая: – Я никому тебя не уступлю, – и Михай снова поддался ласкам Анютки, первой и единственной женщины в его мирской жизни.
Через месяц, в день крещения сына, в аккурат к завтраку колхозный почтальон привез на телеге срочную телеграмму – она была адресована Михаю Мордаре.
Анютка побледнела, слезы заволокли ее глаза. Телеграмму прислали соседи: старая Мария, мать Михая, пилила доски возле сарая, да вдруг упала, прямо на них, сердце остановилось – так и умерла.
Собирали Михая наспех, молча. Лишь плакал Георгий, потому что в тот миг все забыли о нем. И только, когда отец взял его на руки, он успокоился. Анютка, прикрывая личико отворотом голубого атласного одеяльца, шла рядом.
Дон казался иссиня-черным, почти как море. Волны пенясь, бились о борт парома, ожидавшего у пристани пассажиров. Михай, отвернув одеяльце, поцеловал в глаза мальчика, прижал к себе Анютку, шепча ей в лицо: “Я все равно вернусь к тебе, моя голубка, если поезд не пойдет, я пешком приду, если самолет не полетит, я прилечу на крыльях”. А на горе у дома стояли Абрашкины и махали им вслед.
– Далеко твое село? – спросила Анютка.
– Э... – он усмехнулся, – как почувствуешь, что дует тебе в лицо западный ветер, знай, это я прислал тебе весточку, писем я не умею писать, я буду посылать тот ветер, который я люблю. А этот ветер рождается в моем селе, когда почувствуешь его, вспомни обо мне.
Они обнялись, Михай передал сына в руки наречённой, вскочил на паром. Повернулся лицом к Анютке с сыном, так и стоял весь путь, пока паром не причалил к другому берегу.
С Дона дул порывистый западный ветер. Анютке вспомнилась та жизнь, из которой привез ее казак Абрашкин. Смутное ощущение знакомого ветра, который то-бил ей в лицо, то подгонял в спину, когда она ходила из села в село. И все смотрела на небо, на горизонт, пытаясь увидеть радугу.Много раз юная казачка выходила к спуску над крутым обрывом и всё вглядывалась...не плывет ли паром с её суженым?
1979-й год
На дворе стояла весна 1967 года. Глубокой ночью по крутому спуску над Доном тарахтела подвода. Зарядил обложной дождь, дороги развезло и кобыла с трудом, скользя вместе с подводой и двумя мужиками, поднималась в гору, казалось, что она вот-вот сорвется в разлившийся до самой горы Дон.
Абрашкин, спрыгнув на ходу, вздохнул.
– Ну, вот и приехали, батюшка, слава богу, ночь-то хоть глаза коли, хороший хозяин и кобеля не выгонит, – подал руку священнику. Тот грузно спустился на землю, сбросил с лица капюшон плаща, глухо закашлялся.
Абрашкин стукнул кнутом в окно, в доме тотчас вспыхнул свет. На крыльцо вышла хозяйка , набросив на ночную сорочку пуховый платок, сняла с ворот засов и распахнула их. Затем хозяйка припала к руке священника. Поцеловав её, она присела и приложила губы к ризе. Священник приподнял ее с земли, осенив крестом.
– Ну, полноте, голубушка – тихо сказал он, – продрог я весь, чайку бы вначале, а потом займемся делами, ваш внучек будет третьим за ночь.
Пока Абрашкин распрягал кобылу и заводил ее в стойло, Абрашкина повела священника в горницу, где спал внук Георгий, отроду которому на 6 мая исполнялось три недели. Бросив кобыле охапку пахучего сена, потрепав ее по правому боку, хозяин снял с себя плащ, и, стряхнув капли дождя, вздохнул на полную грудь. Разведривалось утро, один за другим гасли бакены на Дону, а влажный западный ветер, его порывы, как бы обволакивали цветущий молодой абрикос. Деревцо, привезенное ранней весной с
молдавской земли, неожиданно прижилось на удивление хуторских. Абрашкин шагнул к нему, склонил лицо и слизал языком с нежных цветков дождь, на миг почувствовав горьковатый привкус. Из дома донесся плачь Георгия, резкий, пронзительно щемящий душу, а потом... смех, или это ему показалось?.. На крыльцо босиком, в распахнутом халатике вышла простоволосая Анютка, Абрашкин шагнул к дочке, бросил на ступеньки плащ.
– Ну что вся растелешилась, ветром прохватит... – кто мальца кормить будет?Береженого бог бережет.
Анютка присела на плащ, стала заплетать косу, вся светящаяся от переполненной радости. Радость словно вырывалась из ее глаз, высокой полной груди, из ноздрей.
– Ну что вы, папаня, я ж зимой по снегу босая хожу.
– Ну как, к о з а к ? – Абрашкин присел рядом и обнял дочку.
– Представляете, когда отец Никодим поднял его на руки, он как заорет, видимо бороды испугался, но как только посадили его в ванночку, он сразу перестал плакать и заулыбался, засмеялся, заболтал ножками.
– Вот стервец, воду любит, сразу видно, что к о з а к.
– Да какой же он к о з а к, папаня, отец-то кто его, разве вы не знаете, а я... ? – Анютка вздохнула.
– Ну, ну, будя, раз на Дону родился, значит к о з а к, правда, нонешний-то всё норовит на дурняк прожить, к бабкиной сиське присосаться. Весь цвет казачий сгноили по перевалам, по тюрьмам. Та дорога, что в аэропорт ведет, черные бугры, бурьяном поросшие, эх-ма... Я когда проезжаю той дорогой, хотя сам без креста, что-то в душе переворачивается, сколько юнкеров расстреляно там, они ж еще совсем дети были, эх…
– Надо б папаня ставни закрыть, всё видно в окна, узнают, что крестили Георгия, попом будут дразнить, я помню в школе одного мальчика, перекашивая, окликали: попик, попик ,только за то, что он крест носил. Показывали пальцем на него и кричали попик горемычный, я б не хотела, чтоб моего сынулю так дразнили.
Абрашкин обошел дом, прикрывая окна расписными ставнями, вновь остановился у цветущего абрикоса, залюбовался, Анютка уловила движение отца и тоже заулыбалась.
– Словно ветер на сахаре настоян, – тихо сказала она, – так пахнет у нас, такая весна в этом году на дворе, прямо загляденье.
– Так пахнет только абрикос, – мечтательно сказал Абрашкин, – этот запах я ни с каким другим не спутаю.
– Может потому, что он первый, папаня. Я вышла вчера рано утром с малышом подышать воздухом и обмерла. Пять цветочков уже, а последний прямо на моих глазах раскрылся. Нет, ромашки не все сорваны, папаня. А я задумала, если этот абрикос зацветет, значит любит, значит, будет гадать на ромашках.
…Абрашкину же вспомнилось другое. Прошло столько лет, название села
позабыл, а вот цветущий сад забыть нет сил, раскидистый цветущий абрикос, красивое лицо молоденькой женщины.
– Грустно, папаня, что-то вспомнилось?
– Нет, – сказал он, – когда со мной рядом моя дочь, мне, поверь, очень хорошо. Этот абрикос напомнил мне то, что я, казалось бы, забыл. – Абрашкины обнялись.
– У каждого сорта есть свой год цветения. Раз этот малый зацвёл, значит его год пришел, лишь бы мороз не ударил. Тогда в мае 44-го тоже рясно цвел абрикос. От его приторного запаха можно было сойти с ума. Стоит проснуться по первой зорьке, словно в шатре невесты спишь. Сколько на Дону видел цветущих деревьев, но такой роскоши цветения не встречал. Может, тогда мне все казалось особым. Я был молод, влюблен.
– В ту, папаня, что у вас в альбоме, с такой косой, ну чисто краля, поэтому вы меня не ругаете, когда я хожу с распущенными волосами, а маманя мне только вслед, ну что ты как лохудра! – Анютка засмеялась, – Ну и хитрец вы, – крепче прижалась к отцу, – рассказывайте... что же дальше, вы шли на Запад, мне всё ясно, ну а что дальше?..
– Да ничего особенного. Знаешь, как на войне, все вперед и вперед.
Тихон Абрашкин припал спиной к перилам крыльца и стал рассказывать Анюте, может в сотый раз.
?
…Сколько потом память не бередил, так и не вспомнил название села. Искал, искал. После победы сразу прошел через несколько сел вроде бы похожих, у калиток стоял подолгу, абрикос тот искал, ну а значит и ее. Именно в ее дворе госпиталь был, в ее доме нас лечили. Правда, абрикосы уже отцвели, но зацветала сирень. Я спал в разных гостиницах, и, просыпаясь, ловил запах сирени, на столиках сирень, в окна глядела сирень. Но как не прекрасна роза в чужом саду, а своя ромашка у порога всё роднее и я подался домой, к Дону. Раньше у веранды тоже цвела сирень. Дерево было раскидистое, ветви толстые, по весне пол крыши закрывала своим цветением. А в одну ночь дерево рухнуло. Мать моя, она ещё была жива, сказала: “Наверное заполивали, вот и корень подгнил, ты сынок, приведи поскорей в дом женщину, как видно, мой черед пришел”.
– И вы женились, папаня? – спросила Анютка. – Вы женились на мамане?
– Нет, дочка, я снова уехал туда, я снова ее искал, искал тот цветущий абрикос, искал дом, искал село. Искал заветную. Конечно, мой сегодняшний ум тогда бы, я всё сделал по-другому. Но тогда... Я исходил многие села вдоль и поперек, и уже думал, ну всё баста, переночую где-то на автостанции и домой. Прошел я узкой улочкой, деревья уже отцвели, завязывались плоды и на первый взгляд все были как близнецы. Я забрел в один сад, он был в запустении, заросший повителью, репейниками. Вытоптал сапогами тропинку, расправил ветви у старого раскидистого дерева и вздрогнул: там стояла кровать с железной сеткой, сетка была прогнутая, панцирная.
Почувствовал, как забилось мое сердце. Я раздвинул ветви и присел на край заброшенной койки. Неподалеку, словно вросший в землю, стоял домик с синими ставнями, на крыльцо вышла девочка с распущенными нечесаными волосами и бантом у виска – это я запомнил на всю жизнь. Я тотчас встал, рванулся к ней и спросил ее имя. Девочка пожала плечами. “Ты не понимаешь по-русски?” – спросил я. В ответ она показала мне три пальца, присела на половичок. Она была такая худенькая, как мотылек, только сверкали глаза, как бездонные озера. “А где мама твоя?” – я присел перед ней на колени. “Мамика спит” – еле слышно сказала она. Я понял, что ребенок голоден. Я открыл свой чемоданчик, развернул тормозок, собранный матерью в дорогу. Протянул ей. Но она не проявила никакого участия. Только молча смотрела на меня. “Ну давай, бери, здесь оладьи с творогом, сладкие, их жарила моя мать!” Девочка взяла оладушек.
– Так долго нет дождя. Перед тем как уснуть, мама мне сказала: “Анюточка, как пойдет дождь с грозой, ты выйди на улицу и смотри на небо. Жди, когда на небе появится радуга. Ты увидишь на ней лестницу из 7 цветов, по ней ты поднимешься ко мне и найдешь меня у фиолетовой ступеньки, там я буду тебя встречать, нам вместе будет так хорошо, и вместе нам никто не будет страшен”. Сказав это, мама уснула, а я всё дождя жду. Ты не знаешь, когда он будет? Что я мог ответить? Как говорят, любовь, любовь, а вот жалость куда деть? Уехал за женой, а привез дочку. Ну, а потом я все-таки женился. Судьба послала мне славную казачку. – Абрашкин засмеялся, – и стали мы втроем жить, – и обнял дочь.
– Вы думаете, что я похожа на ту женщину, папаня?
– Ты похожа на мою мечту. А теперь ты стала матерью, ты подарила мне внука, если б ты знала, как я счастлив.
– Неужели, я тогда знала три языка?
–Дети из тех мест знали сразу несколько языков, когда я лежал в госпитале, нам пел романсы шестилетний смугляк на французском. Там воздух настоян на цветах… ты как “copil din flori” – дитя цветов, я думаю и тот смугляк, да и ты из той колыбели цветов.
– Поэтому и Михай показался мне таким близким. Ветер родины подул.
На веранду вышел священник, следом Абрашкина. – Спасибо, отец Никодим, теперь мальчик приблизился к богу, – сказала она, целуя руку.
– Храни вас бог, хороший мальчик, берегите его. В его глазах есть то, что я не видел у нашенских.
– Он уснул сразу же, – сказала казачка, – как он любит воду, как смеялся, сорванец! В молодости хотела родить мальчика, но не судьба. Война, голод. Голод не тетка, за стол не посадит, – она положила тяжелую ладонь на голову Анютки, – вот доставила мне радость.
– Вы бы остались у нас переночевать, да я и коня распряг, – сказал Абрашкин отцу Никодиму, – куда же на ночь глядя?
– Хорошие вы люди, но если я буду ночевать на чужих перинах после каждого крещения ребенка, что скажет про меня матушка Анисья? Оседлай мне жеребца, я доеду сам, не впервой ночи бороздить, да и уже брезжит рассвет, мягкий ветер, попутный западный ветер, я люблю ветер, когда он дует с запада.
Абрашкин спустился с порога, подошел к стойлу, вывел молодца во двор, подтянул подпругу. Конь, почувствовав волю, заржал.
– Но вот и молодец радуется, – сказал священник, – потрепав его по гриве, вскочил, как юноша, в седло и вскоре скрылся в ночи.
На веранду, обнаженный по пояс, вышел Михай. Спустившись, он вылил в ложбину воду из деревянного корыта, в котором окрестили его сына. Присел на порожек, приставив корыто к водосточной трубе.
– Я полы вымыл в горнице, всё прибрал, – сказал он тихо Анютке. На обнаженной, усыпанной черным пушком груди, отсвечивался большой серебряный крест.
– Хороший зятек будет, раз пол моет, сразу видно не хуторской. Молодежь-то почти без креста. Редко кто носит, да и того на смех поднимут, – Абрашкин обнял жену. – Ну ладно, мать, не будем молодым мешать, пошли покачаемся. – И Абрашкины ушли в свои покои.
– Хорошо, что есть ты, без тебя я б не решилась крестить Георгия. Ты не уйдешь?
– Я ж вернулся, а когда возвращаются, то уже не уходят, в речку дважды не входят, ты меня на всю жизнь зацепила.
– Помнишь, ту нежную сентябрьскую ночь, когда ты постучался к нам в калитку?
– А ты бросила в меня веник, ну и угораздило меня к вам постучаться! Я так долго шел в гору с переправы и вдруг над горой увидел дом с верандой, прямо над обрывом, я неожиданно почувствовал, что сердце мое забилось, как будто я пришел к себе домой, я фаталист, я верю в судьбу, что-то свыше есть, ты еще не знаешь, что случится с тобой, но уже всё предопределено, – вот так оно и вышло. Этот дом над обрывом, над Доном, где по ночам зажигаются бакены, где мерно плывут катера с баржами, стал моей судьбой.
Анютка засмеялась, обняла Михая.
– Да, ночью всё было странно, какой-то чужой парень издалека, с каким-то вином, которого я еще никогда в жизни не пробовала, но вот утром... Когда по утру я вышла во двор, то увидела, как ты умывался у стойла, наши глаза встретились, я почувствовала дрожь в коленях, словно меня крапивой обожгли. На меня глянули такие нежные голубые глаза, словно в них цвел подснежник, а что ты почувствовал?
– Землетрясение... – засмеялся он, – земля ушла из-под ног, ко мне шла такая желанная, такая свежая, с распущенными волосами, ангел сущий.
Светало, на Дону один за другим гасли бакены, молодые сидели обнявшись и вспоминали, что было нежной сентябрьской ночью год назад...
За высокой калиткой стоял незнакомец. Анютка взяла веник и швырнула в парня, но тот ловко подхватил его на лету.
– Красавица, так что ли гостя встречаешь, метлою ли, я ведь не ворюга, какой, я честный парень, издалека приехал.
– Да, много вас тут таких честных, издалека, – протянула Анюта.
– Дай хоть кружку воды, я в гору шел, ноги так и занемели.
– А ну цыц, – девка грозно замахнулась на разъяренного пса.
Спустилась по порожкам, подошла к калитке.
– Кто ты?! Я что-то не припоминаю тебя. Таких чубатых у нас на хуторе нет.
– Да говорю я тебе, красавица, что издалека ехал, из другой земли, где виноград растет. Меня колхоз послал к вам вином торговать, у меня бумага есть?! – и парень полез в карман за документами.
– Э ... – замахала рукой Анютка, – брешешь ты как пес тот... На шум вышел казак Абрашкин, подтягивая поясок на шароварах. Спустился босиком вниз и оттолкнул Анютку от калитки.
– А ну кобылка, что перед чужаком растелешилась. Всё добро наружу выставила, – открыл калитку и впустил гостя.
Вторично вечеряли казаки Абрашкины втроем, вместе с гостем за компанию. Анютке же Абрашкин повелел не показываться. И та наблюдала за происходящим, приоткрыв занавеску из своей комнаты. Жена Абрашкина, статная моложавая казачка, в широкой цветастой юбке и такой же кофте с длинными пышными руками. накрывала стол расшитой скатертью, расправляла ее кайму, словно хвастаясь перед гостем, ставила графин с брагой, тарелку холодца из свиных ножек, горчицу, огурчики – в общем, всё как у людей. Но сама за стол не села, а расположилась на веранде у большого фикуса.
– Ты Михаил на нас не гляди, мы уже вечеряли, мы рано вечеряем, потому что встаем вместе с петухами, на базу много работы. Абрашкин налил в стаканы холодной браги, первый гостю, потом себе.
– И какое же ты вино привез? – спросил он.
– Розовый портвейн... – ответил Михай.
– Крепляк ,значит, ваше колхозное начальство мудрое, знает, что здешнему казаку по душе. Но и наша бражка неплоха, сам делал, – и налил по второму.
Но Михай отказался, – ты прости, отец, я устал с дороги, завтра надо на станцию ехать, бочки перегонять, хлопот много.
– Я понял, сынок, ты приехал с волшебной земли, где реки полные вина.
Михай вынул из расшитой торбы горсть сушеных абрикос и рассыпал их по столу.
– А что ж девки-то вашей не видать, – забеспокоился гость, – пусть угощается. А мне б помыться на сон грядущий.
– А что ж ты в Дону не искупался, вода еще теплая, – подала голос Анюта.
– Да темно-то было, а плавать не умею.
– Ты не умеешь плавать? – Анютка появилась на веранде, – так я зараз научу тебя, – она спустилась к столу, присела на край лавки – напротив Михая, взяла сушеный абрикос и медленно положила в рот.
– А ... – протянула Анютка, – это то, что слаще конфетки.
Ковш Большой Медведицы расположился прямо над Абрашкиным домом и во дворе было почти как днем.
– Мать! – сказал Абрашкин жене, – принеси-ка гостю чистую рубаху, его вся пропотела, да махровое полотенце китайское, из тех, что нам на праздник подарили. Да перемычку не забудь поставить в душевой...
Михай вылез из-за стола, расстегнул ворот рубахи. Абрашкина вынесла перемычку на веранду, вкрутила лампочку, и при свете электричества во дворе стало так ярко, что Анютка увидела на груди гостя большой крест, он весь так светился.
Анютка приблизилась к Михаю и стала рассматривать его крест.
– Какой большой, отродясь такого не видела, – говорила она, дотрагиваясь до креста пальчиками. – И что на вашей земле все с такими дорогими крестами ходят?
Абрашкин потянул Анютку за косу.
– Ну, дотошная ты, как юла, вертится, вертится!
Михай молча взял полотенце, чистое белье от Абрашкиных и пошел в пристройку. Приняв душ и неожиданно почувствовав себя человеком после изнурительного пути по железной дороге, он мгновению крепко уснул в гостиной на большой софе.
Розовый портвейн шел удачно. Слух о том, что молдаванин привез розовый портвейн разлетелся с быстротой молнии по всей донской округе, и покупателей было в две, а то и в три очереди прямо от базара до дверей местного магазинчика. Рядом с Михаем сидела Анютка в коротком сарафанчике, лузгая семечки. И лишь временами, чтобы утолить жажду, она опускала указательный палец в розовую пену на дне поддона, где стояли литровые кружки, наполненные до верха вином, подносила палец к губам, смачивая их. Ну а под вечер, когда солнце уходило за горизонт, Анютка уводила Михая на Дон смыть хуторскую пыль. Сентябрь стоял на удивление бархатным, раскидистые ивы стелились низким шатром у самого берега, крутого и обрывистого. Анютка хохоча, сбрасывала на бегу сарафанчик, спрыгивая прямо с обрыва в воду, посылая фонтаны брызг на Михая. Вечеряли они все вместе вчетвером на веранде при свете луны и переноски, подвешенной на козырек ставни. Абрашкина жарила на примусе пышные оладьи на меду и прямо с пыла подносила их гостю и мужу. Анютка же увлекалась только сушеным абрикосом.
– Слаще конфетки, – кокетничала девка, – отродясь я такого в жизни не ела. Да и никто у нас на хуторе не ел такого, правда, маманя, папаня...
– Ладно, – говорил Михай, – раз вы такие хорошие люди, может я приеду еще раз, весной, или осенью, как выйдет, я привезу вам настоящий абрикосовый саженец, со своего сада.
– Э...– смеялась Анютка, – ты думаешь деревцо приживется? Да у нас крещенские морозы, не выживет.
– А может и не убьет мороз, – сказал Абрашкин.
– Коль снега много будет, так и приживется, – в тон мужу сказала Абрашкина.
– Вот бы козаюрда завидовала нам, – размечталась Анютка, – а то всё груша, да вишня, да яблоки, а у нас абрикос... Сам бог абрикос!
– А глаза-то у тебя сынок, я еще в то первое утро подметила, как у женщины...синие, с поволокой, – тихо сказала Абрашкина, – и крест носишь, человек с крестом никогда плохого не сделает, наверное потому и муж тебя впустил в дом, он чужака в дом на ночлег не пустит. Женат небось?
– Нет, не успел, с армии только пришел. Думаю в монахи постричься...
– Да бог с тобой! – Абрашкина перекрестилась, – красавец-то какой и в монахи, девкам и так парней не хватает.
Анютка от удивления привстала с лавки.
– Ну это похвально, – сказал Абрашкин, – такой девицу не испортит, а испортит, так под венец поведет.
– Ну что вы такое говорите при госте, папаня...
– Да не про тебя речь, – протянула Абрашкина, – ешь свой абрикос, да помалкивай, отец вообще говорит...
– Казак-то сейчас мелкий пошел, креста на нем нет, побалуется с девкой да бросит, а она глянь уже пузатая.
Абрашкин вывел Михая в сад. Воздух был чист и прохладен, настоян на запахах спелой груши, на Дону вспыхивали бакены. Под раскидистой грушей стояла убранная железная кровать с занавесками на грядушках.
– Какие ночи! – мечтательно сказал Абрашкин, – так бы всю жизнь провел на этой койке, – он качнул койку, – а сетка у нее панцирная... таких уже сейчас не делают, кровать эта с голубыми рюшами досталась нам с матерью по наследству. Мы здесь, когда помоложе были, качались. – Абрашкин похлопал Михая по плечу, пожелав спокойной ночи, ушел. Михай прилег на спину, заложив руки за голову, вдыхая аромат груши. Послышалось шуршание листьев, он вздрогнул, приподнял голову, вгляделся в ночь и вдруг засмеялся. Перед ним выросла Анютка со свертком в руках.
– Ну и напугала ты меня, – сказал Михай, – привстал с кровати.
Анютка присела на её край.
– Маманя с папаней тебе простыни чистые послали, а ну-ка слезь, я постелю.
– Зачем, я не гордый, я и так высплюсь, – но встал с кровати. Анютка молча распрямила накрахмаленные простыни, расправила каждую
складочку, взбила перину и подушки по-хозяйски. Михай, отойдя в сторону, любовался исподтишка ее движениями, ее косой, скользящей по спине. Потом сделал шаг вперед.
– Чем ты так пахнешь, Анютка?
Михай почувствовал ее жаркое дыхание. Анютка дотронулась пальчиками его большого креста.
– Ты и впрямь хочешь быть монахом?
– Тебе так важно знать, кем я хочу стать?
Анютка пожала плечами, обняла его слегка за плечи, Анютка была девкой рослою, но всё равно оказалась на голову ниже Михая. Привстав на цыпочки, она коснулась его горячих губ.
– Смелая ты, – он и не отвел ее рук, и не сделал лишнего движения – стоял как завороженный.
– А казачки все такие, если ей парень по душе, она цветами выстелит ему тропу.
Михай присел на кровать, на накрахмаленные простыни.
– Чтобы ты хотела, Анюточка? – спросил Михай, лаская ее волосы.
– Желтую лилию ... – тихо сказала Анютка.
– Что? – Михай расхохотался, – да где же я возьму ее сейчас?
Анютка пожала плечами, – ты ж спросил, а я ответила. Я же Абрашкина, это знаменитая фамилия, про казаков Абрашкиных много легенд на хуторе сложено, и есть одна про желтую лилию.
– Ах вон оно что, а я не знал, сколько ты классов кончила?
– Семь классов и один коридор, – усмехнулась Анютка. – У нас на хуторе только семилетка, а дальше если учится, то надо на лошадях ездить. Осенью я могла бы и сама на лошади ездить, а вот зимой как? Все пути запорошит метелица, даже волк не пройдет, не то что лошадь.
– Да и зачем тебе голову учебой забивать, ты вся из себя видная, в девках не засидишься, небось от казаков нет отбоя?
Порыв ветра качнул крону старой раскидистой груши, что-то упало прямо на простынь, обдав брызгами молодых. Анютка с испуга подскочила.
– Да это же груша упала, Анютка,– сказал Михай, – только чистую простынь испачкала, и он смахнул на землю грушу.
– У нас такие груши называют “дристухой”, они такие пахучие, когда переспеют.
Михай приподнялся, пригнул ветку и слегка тряхнул. Груши посыпались на кровать. Михай взял одну, протер и протянул Анютке.
– Вот тебе и лилия... Из осенних фруктов я больше всех люблю груши.
Анюта взяла грушу и надкусила ее.
– А мужики только грушу и любят, вот мой папаня только и бредит по груше, особенно зимой, вот если б абрикос, – она помедлила, заглянула ему в глаза,– ты и впрямь привезешь нам саженец абрикоса?
– Попробую, далековато вы живете только.
– А ты в мокрую тряпочку корни заверни, вдруг и приживется, у нас будут абрикосы, ни у кого, только у нас. А как цветет абрикос? Красиво?
– Да почти как вишня, только чуть нежнее и солнца больше в лепестках, у нас по селу даже на улицах цветут абрикосы, идешь мимо калитки, а тебе под ноги абрикос падает.
– И что? – удивилась Анютка, - неужели падает абрикос?
– Да ничего, это так обыденно для нас.
– Ну что ты, по-моему это как в раю. Раньше мне казалось, что в раю цветут только одни вишни и груши, но теперь я думаю, что там цветет только один абрикос.
Анютка присела на охапку листьев, еще хранивших тепло осени.
– Ты поспи, а я посижу чуток, ночь-то какая волшебная, Михайчик!
– У нас во дворе дома растет орех, такой могучий и раскидистый, его ветви так тесно между собой переплетены, такие прочные. В детстве я стелил на них старое одеяло и засыпал.
– Спал на орехе? Счастливый, а я и орех никогда не видела.
– Ну, орех я думаю, не приживется, а вот абрикос, возможно, я сам его посажу, у меня рука легкая.
Анютка приподнялась с земли, поцеловала Михаю руку. Михай растрепал Анюткины волосы.
– Шла бы ты отдыхать, а то что про меня твои маманя с папаней подумают?
– Я б никуда от тебя не ушла, – Анютка беспечно рассмеялась.
– Глупая ты еще телка! Это я должен целовать твою нежную ручку!
Анютка неожиданно для себя обняла Михая и так прильнула к нему, что парня бросило в жар. Михай не смог совладать с собой и отдался ей.
Продав все колхозное вино, он уехал домой, не подозревая о том, что через несколько месяцев выпадет ему дальняя дорога к дому Абрашкиных. Михай приехал в донской хутор весною. То ли осени бархатной не смог дождаться, то ли тоска запала в его душу по далекой казачке с нежной как абрикос кожей. От станции Серебряково, куда через Харьков и Волгоград доехал он поездом, в заветный хуторок довез его автобус. На песчаной косе, омываемой пенистой волной Дона, Михай долго смотрел вдаль, на противоположный берег реки, где над обрывом высился дом казаков Абрашкиных. Шел стор, глыбы льда, наплывая друг на друга, трескались с шумом, пропадая под снеговую воду и вновь выплывая на поверхность. Михай был растерян, он даже чего-то испугался – вот так негаданно..., но обратной дороги у него не было.
На противоположном берегу Дона, разлившемся почти под самую подошву известковой горы, на обрывистом склоне, из знакомого дома с расписной верандой кто-то вышел. Пенистая холодная волна омывала его ботинки, но он так и стоял, как завороженный смотря в даль, сердце забилось, кажется, это Анютка. За его спиной был рюкзак, а в руке он держал обмотанный плотной бумагой и перевязанный шпагатом абрикосовый саженец
из его собственного сада. Паром, раздвигая льды, причалил к временно сбитой пристани. Михай, перепрыгнув через бревна, обвязанные цепью, взошел на паром, поудобней усевшись на сруб, положив на колени большой сверток. На пароме он плыл один, и это ощущение одиночества среди льдов неожиданно обрадовало и успокоило его. В душе он был романтик. Паром, еще не успев приблизиться вплотную к деревянному помосту, как Михай, подхватив сверток, и прижав его к груди, прыгнул на берег, круто зашагал по тропе в гору. На середине пути он неожиданно придержал широкий шаг. Расстегнул овчинный полушубок, вынул из внутреннего кармана складной ножик. Чуть поодаль, под кромками талого льда, он приметил полоску подснежников, присел на корточки и осторожно их срезал. Вынул платок, завернул цветки, положив в карман полушубка. Хотя он знал, что в доме казаков Абрашкиных его не ждут, но все равно спешил. Спешил с той памятной осени, когда распрощался с Анюткой. Спешил в мечтах, шел во сне к этому дому по белой горе. Калитка не была заперта, Михай толкнул ее, и первое на чем поймал себя, что не слышит неугомонного собачьего лая. Почувствовав, как гулко забилось сердце, он распахнул полушубок, снял с плеча рюкзак, оставил его у порога, положив сверху бумажный сверток, из которого выглядывали ветви деревца. Голос его неожиданно сел, он с хрипотой произнес:
– Есть кто дома?
Но никто не отозвался. Михай поднялся в дом, сбросив полушубок и кушму на лавку. Весело потрескивали дубовые дрова в печи, обложенной голубым узорчатым кафелем, у охапки дров примостился большой рыжий кот. Он приоткрыл левый глаз, посмотрел им на вошедшего.
– Ну, здравствуй, Василий, где ж хозяев подрастерял?
Кот вскочил, выгнул спину и распушил хвост.
– Признаешь? – засмеялся Михай, присел на корточки, помешал дрова в печи.
– Кто здесь? – из гостиной вышла Абрашкина и всплеснула руками, – Соколик, да уж-то прилетел снова к нам?! Не забыл нас, как славно, как славно... – затараторила она, обнимая Михая.
Абрашкина подлила теплой воды в рукомойник, распечатала новое мыло, принесла из комнаты махровое китайское полотенце.
– Пока умойся-ка с дороги, а я тесто для вареников замесила, какое-то чувство было, что кто-то спешит.
– А Анютка где? И во дворе что-то тихо у вас –..хрипло спросил Михай.
– Да, – Абрашкина смахнула набежавшую слезу, – дочка работать пошла, она на дежурстве в скорой помощи, а вот Трезора нашего нет в живых. На живодерню попал, – вздохнула Абрашкина.
– Да как же так? Такой пес ...
– А... – махнула рукой Абрашкина, – Анютка взяла да и отвязала его, спустила с цепи на ночь, дала ему волю, а тут как назло была облава на
бродячих и наш пес попался, мы когда узнали, то было поздно...
Михай умылся по пояс, набросил на плечи рубаху, сел за стол.
– Что-то покрепче? – спросила Абрашкина
– Да нет, только чай. А что Анютка еще не вышла замуж?
– Да нет, – сказала Абрашкина, – она такая скрытная, от нее ничего не добьешься, и она так изменилась.
– Изменилась?
Абрашкина поставила на стол большую чашку взвара из шиповника.
– Пей, – сказала она, – пей сокол, всю усталость, как рукой снимет. А ты уж загорел, поди там на вашей земле лето!
– Лето не лето, но жарко, весна рано пришла, а всё дома по хозяйству, мать-то у меня старенькая, одна меня вырастила.
– Ты принес нам настоящую весну– сказала Абрашкина. – После того как ты уехал, Анюточка наша так переменилась, словно бес какой-то ее попутал. Я поехала в станицу, поставила свечку в церкви.
Абрашкина присела на край скамьи и внимательно вгляделась в лицо неожиданного гостя.
– Какие у тебя глаза, сынок – да я уже тебе говорила раньше, как у женщины.
В голубых глазах Михая застыла улыбка. Дверь бесшумно распахнулась и на пороге появилась Анютка
– А я на крыльце увидела деревцо и сразу вдруг всё поняла.., – девка засмеялась и кинулась обнимать Михая.
– Анюточка... – выдохнул он.
Часто по ночам Михай держал в объятьях загадочную казачку, но вот когда это случилось, когда он почувствовал ее жаркое дыхание, он вдруг оробел.
– Ну, будя тебе, Анютка, – сказала Абрашкина, – в конец за смущала гостя, и она дернула дочь за косу.
– Ну что вы, – тихо сказал Михай, – я так рад вам всем. Я совсем забыл, – он отвел Анюткины руки, шагнул в чулан, где висел его полушубок и достал из кармана горстку помятых подснежников.
– Это тебе, я по дороге к вам собирал, – протянул он Анютке первые весенние цветки.
– Как славно! – вскрикнула она, и стала целовать каждый цветок от умиления и радости неожиданной. – А мы вчера с маманей снег расчищали у погреба, а котофей сидел на пороге и умывался, так долго, так сладко умывался, урчал, словно мышь держал в лапах. Но я даже в мыслях не могла подумать, что он замывает Михайчика!
Михай развел руками. – А я и сам не ожидал, что приеду. В один миг решил. Выкопал в саду абрикос, завернул его потеплее и был таков.
– А матери-то что сказал? – тихо спросила Абрашкина.
– Да ничего, – смущенно ответил Михай, – она привычная, я часто уезжаю
на заработки, бывает и месяц, и два, поцеловал ее молча и поехал на попутной в город, потом от города автобусом в столицу и уже к вам поездом, потом автобусами. И только когда сел на паром, ощутил всю вашу красоту Дона, хутора, обрывистого берега, дух захватило, тогда и осознал, что я рядом с вами…
– Ну вот и оставайся у нас сынок, коль нравится, – тихо сказала Абрашкина.
– Э... – протянул Михай, рад бы в рай да грехи не пускают.
В аккурат подоспел и сам хозяин-казак Абрашкин, расцеловались, сели вечерять. Пили чай с вишневым вареньем в горнице, посчитав Михая самым почетным гостем. Анютка выплевывала косточки в блюдечко, не отрывая ласкового взгляда от парня. “Сокол-то прилетел вовремя” – шепнула на ухо Анютке мать. Прислонив спину к изразцовой печи, словно отогреваясь за дальнюю дорогу, Михай не спеша распаковывал нехитрый багаж. Развернул большой целлофановый пакет, плотные листы бумаги, потом мокрые тряпицы. И в миг вся горница пропиталась ароматом весны. Анютка всплеснула руками.
– Так вот он какой саженец?
Анютка присела на корточки и стала целовать липкие, слегка распустившие изумрудные листочки саженца.
– Это хорошо, что ты с большим комом земли привез, – степенно сказал Абрашкин, – Я сначала посажу его в кадушку, пусть он на веранде чуток постоит. Земля обогреется, и я высажу во дворе.
– И не думайте, отец, что я привез вам какой-нибудь жерделю, а чистый абрикос–банановый, золотистый, с пушком, как грудь женщины, – и он от восторга стукнул ладонью по столу, – к тому же саженец готовится к первому цветению...
Михай в этом веселье вдруг поймал себя на мысли, что назвал казака Абрашкина отцом. Но это, пожалуй, осталось незамеченным. Абрашкин думал о том, где, в каком месте сада посадить саженец. Мысленно он перебирал каждый уголок. Ему казалось, что в той стороне, что от Дона, часто дуют ветры, возле сарая место не столь привлекательное, не броское, а казак Абрашкин хотел еще, чтобы его первый на хуторе абрикос был виден всем прохожим с улицы и когда он цвел, и когда он плодоносил. Размечтался Абрашкин...
– Пошли, мать, на веранду, пока светло, пусть молодые по воркуют, – Абрашкин поднялся со стола, взял в руки деревцо вместе с целлофаном и бумагами. Вышел, следом за ним Абрашкина. За горизонтом над Доном разгорался закат. С высокой горы было такое ощущение, что солнце купалось в половодье вешних вод. Абрашкин накопал земли у самого обрыва под старой вербой, выкатил из сарая кадушку, принес ее на веранду, и вместе с привезенной землей опустил на дно кадки деревцо. Он расправлял каждый нежный корешок, присыпая черной землей донской, а Абрашкина поливала землю талой водой, которую она собирала для цветов из водосточных желобов.
– Я думаю так, – говорил Абрашкин, – до середины апреля абрикос
поживет на веранде в кадушке, привыкнет к нашему воздуху, а потом, когда ночи потеплеют, я высажу его во двор, в сад. И знаешь, мать, – задумчиво протянул Абрашкин, – где я его посажу? Я посажу его неподалеку от старой груши дристухи, – где летняя моя кровать. Груша сильная, ветвистая, прикроет саженец от ветров с Дона и даст ему прохладу в жару, – обнимая жену, размечтался Абрашкин.
На веранду вышла босиком Анютка, в белом пуховом платке, наброшенном на шелковую сорочку до пят.
– Надо ж, при госте, в сорочке, – сурово сказал Абрашкин, – никаких у меня вольностей с заезжим парнем, своих пруд пруди.
– Ну что вы, папаня, – какие там вольности, – глухо сказала Анютка, – Да и гость уже видит седьмой сон, – и она распахнула дверь в горницу.
На диване, прикрытый розовым атласным одеялом, раскинувшись на спине, посапывал Михай.
– Вот видишь, спит чисто, как господарь, – и Анютка прикрыла дверь.
– Ну ладно, – Абрашкин пристально посмотрел в глаза дочери, потом перевел взгляд на жену, – пойду еще землицы накопаю. Взял лопату и спустился во двор к сараю. Анютка заплакала.
– Ну будя, – умоляла ее мать, – ну будя... Ты своему открылась, что тяжелая..?
– Нет, маманя, да как я ему могу сказать, если он этого не понимает. Поставьте вы себя на мое место? Вырастим и сами, раз бог дал такое испытание.
– Ступай в дом, вышла на босу ногу, еще дитя застудишь, ты знаешь, как он страдает сейчас, – Абрашкина положила руку на живот дочери, прикрытый пуховым платком. – Ты плачешь и он следом за тобой, – Абрашкина вытерла шершавой рукой Анюткины слезы. Они прошли через горницу в комнату Анютки.
– Надо собрать ему на дорогу. Михай уедет с утра, чтобы попасть на самолет.
– И почему так с утра? – удивилась Абрашкина.
Анютка пожала плечами.
– Он словно боится чего-то, прикоснулся лишь к губам, как котенок лизнул, вот и вся любовь наша.
Анютка припала на колено перед образом Богородицы и, крестясь, зашептала слова молитвы. Абрашкина села на кровать. Ей нравилось то, что Анютка в отличие от многих ее ровесниц, напоминает ее мать, набожную казачку, оставившую после себя лишь иконы, которыми была украшена и Анюткина комната. Сам Абрашкин к богу относился спокойно.
– Я тебе вот что скажу, – продолжила Абрашкина, – силой его оставаться при тебе не заставляй. Через год-два, три он все равно сбежит, если силком сейчас удержишь. Он не конь, вожжей не удержишь. А вот если сам до всего дойдет, сам останется по своей воле, тогда пенять и корить будет только себя. Он же чужак.
Анютка, поджав ноги, сидела на ковре, бросая взгляды в окно. Над Доном разлилась полная луна, она словно улыбалась Анютке, подбадривая ее. Вспыхнули бакены, при их отражении в комнате у молодой было достаточно видно и без света.
– Он чужак, я все понимаю, как белый вороненок, отбившийся от стаи. Если бы вы знали, маманя, как он мне люб, я как увидела его, так вся сомлела, – Анютка повернулась спиной к окну – Ладно, пусть уезжает, может оно и к лучшему. Ступай к себе, я спать буду, ступай к папане, – сказала она твердо.
– Да у него сейчас одна радость, одна невеста, абрикосовый саженец, – и они разом вместе засмеялись.
Михай проснулся с первым отблеском зари, но Абрашкина уже хлопотала на веранде, жарила на примусе пирожки с рисом и яйцами. Михай умылся теплой водой.
– Вы что для меня специально воду подогрели? – улыбнулся Михай, – да я не барский сынок, я ко всему привык.
– Как спалось? Что снилось на новом месте? – спросила Абрашкина
– Спал как убитый, только прикоснулся к подушке и забылся, как будто хмель выпил, – засмеялся он. – Две ночи поди не спал, к вам ехал.
– Да пожил бы пару деньков у нас, поросенка бы зарезали на дорогу, а так только пирожков, да сальца кусок.
– Должен ехать я... – Михай коснулся липких листочков абрикоса. –Это хорошо, что вы в кадушку саженец посадили, я бы не додумался, возможно, я не напрасно вез его за тридевять земель. Ваша любовь его спасет.
Провожали Михая всей семьей к парому. Анютка одела белый полушубок, набросив поверх его пуховый платок, натянула сапожки на каблучке. Уложила косу вокруг головы венцом. Вышла первая за калитку, следом Михай, держа сумку левой, правой рукой обнял слегка Анютку за плечи. Чуть поодаль от молодых провожали Михая и Абрашкины. Спускались с горы молча. Над Доном вставало малиновое солнце, оно выплывало медленно из-за горизонта, а холодная, талая, еще тяжелая, волна словно поддерживала его.
– Как красиво, смотри какое солнце? – тихо сказала Анютка. – Прямо как на воде сидит.
– Красивое вы себе место выбрали для жизни. Я, правда, всегда мечтал жить у моря, – тихо, словно только ей одной говорил Михай, – но и здесь неплохо. Полное слияние с самой природой. Ты и она, и более ничего в этой жизни.
Утро огласил гудок парома, степенно затарахтел мотор катера, Анютка всплеснула руками.
– Ой, Мишенька, беги, паром сейчас тронется, потом не догонишь. Абрашкин обнял Михая, поцеловал его.
– Бог даст еще свидимся, сынок, спасибо за абрикос, когда зацветет, отобьем тебе телеграммку. Полюбил я тебя как сына! – и он растрогался, смахнул скупую слезу.
Слегка пригнув голову, держа в руке кушму, Михай прижался губами к Анюткиным рукам.Сложив руки на белом платке поверх живота, она теребила кайму.
Михай вздрогнул, словно кто-то обжег его, – выпрямился, пристально глянул в мягкие, карие глаза, они то ли смеялись, то ли... что-то хотели ему сказать.
– Ну, будя, будя, обниматься, ступай, паром разводится, – и Анютка отвернулась.
Паром давал третий последний свисток, паромщик сорвал цепь с крючка и тот стал медленно отчаливать, разбивая, расталкивая глыбы потемневшего льда. Но Михай с разгона, перепрыгнув расстояние между пристанью и паромом, вскочил на бревна, присел, помахивая рукой. Жгучий ветер вместе с водой хлестнул ему в лицо, он лишь сильнее запахнул полушубок, подняв ворот его до подбородка. Катер, обогнув белый бакен, вырвался на середину Дона и быстро пошел вперед. Михай смотрел вдаль до тех пор, пока Анютка с родителями не поднялись на гору. Странное чувство овладело им, такое он испытал впервые. Михай видел перед собой только глаза Анютки, мягкие, карие...
– Бог мой! – сказал вслух, подошел близко к краю деревянного настила, расстегнул полушубок, под рубахой нащупал крест, зашептал про себя молитву.
Анютка долго не могла заснуть в ту ночь. Уже погас свет, на хуторе электричество гасили после часа; тогда она встала, набросила халат, зажгла подсвечник, поставила его на окно, подкатила кресло и, усевшись, раскрыла книгу, но и не читалось. За окном послышался какой-то шум, словно кто-то перепрыгнул через калитку, потом стук в ставню. Анютка вздрогнула, почувствовав дрожь во всем теле. Хотела крикнуть “Маманя” – но не смогла, голос сорвался. Так босая вышла в сени, открыла дверь. У крыльца стоял Михай
– Михайчик? – она плотнее натянула на себя пуховый платок, – что случилось?
Ковш Большой Медведицы висел прямо над домом Абрашкиных. Была видна каждая звезда. Михай потянулся к Анюте, поднял ее на руки и внес в горницу. Усадил на тахту, снял с Анютки платок. Прижался лицом к ее животу и заплакал. Анютке стало не по себе, она впервые видела, как плачут мужчины в ее присутствии.
– Ну будя, будя тебе, – шептала она. – Разбудишь маманю с папаней. Папаня ведь не знает еще. Но ты-то как догадался?
– Какая ты глупая, Анюточка моя ненаглядная, – он сбросил на пол полушубок, встал перед ней на колени.
– А как же ты догадался? Маманя говорила, что первая беременность у молодой девушки может быть не видна почти до самых родов. Так оно и вышло, папаня не заметил.
– Я читал у классика, что беременную девушку можно по глазам узнать. Я когда прощался с тобой... так всю дорогу ехал с твоим взглядом...
Анютка, оборвав его, засмеялась. – Ты увидел в моих глазах силуэт своего сына, да? Ну и хитрец же ты. А как же папаня тогда не заметил?
– А разве папаня смотрит тебе в глаза?
На шум вышла в горницу Абрашкина и тотчас вспленула руками.
– Мишенька, сокол наш, вернулся?
Абрашкина обняла Михая за голову. – А я на картах прикинула, – что поворот тебе на дороге, только вот мы не знали с Анюткой, где этот поворот.
– Эх, маманя, – да вы меня таким глупым сделали. Я уже сел в автобус, в Волгоград приехал, подошел к кассе аэрофлота, билет заказал, так и пропал он. Перед самым вылетом передумал, махнул рукой и поехал на автобусную станцию, успел на последний рейс. Подарил кушму лодочнику, вот он и привез меня, не ночевать же мне на льдине, – и он глубоко вздохнул.
– Может баньку растопить? – сказала Абрашкина.
– Да какую там, маманя, баньку, идите почивать лучше, чтоб папаня не проснулся. Хлопот с ним не оберешься...
Михай и Анютка обнялись, так молча они просидели почти весь остаток ночи, проговорили. Но какая это ночь была, – самая лучшая в их жизни.
Посреди апреля Михай вынул из кадушки абрикос и прямо с комом родной земли пересадил саженец во двор вблизи старой раскидистой груши, под которой стояла железная кровать с панцирной сеткой, с пуховыми перинами и подушками. Так в душе у него царствовали две нежные, пронзительные ночи. Первая, когда он, вскрикнув, тут же провалился в бездну любви, ощутив запах чистоты девичьего тела, и та, когда он вернулся назад. В ночь на 6 мая Михай увидел своего Георгия христианином.
После крещения сына Михай снял с себя свой фамильный серебряный крест, поцеловав его, положил рядом с малышом в колыбельке.
– Ну а как же ты без креста? – спросила Анютка Михая.
– Главное, чтобы крест был в душе, а не снаружи красовался, – сказал он.
– Ты в чем-то коришь себя? –тихо спросила Анютка, – ты волен поступать, как сердце подсказывает, наша семья прокормит мальчика.
Михай обнял Анютку, – а разве в этом дело? У нас все могло быть по- другому. А в то утро, особенно, если б ты знала, как я сгорал от стыда, не мог смотреть в глаза твоей матери. Твои же родители приютили меня как родного, а я... там где спал, там и наследил. Я ношу этот камень до сих пор.
Анютка расхохоталась:
– Какой ты смешной, какой праведный, бог дал тебе и рост, и красоту, и душу, но все равно ты глупый как теленок! Тебе не понравилась наша первая ночь? У тебя была лучше?
– Ну что ты, – Михай прижал к себе Анютку, – это была самая нежная ночь в моей жизни, вот же говорят иногда люди, что они заново рождаются, так и я...но суть не в том, я готовил себя для другой жизни, более насыщенной, чем обычная мирская жизнь, но... я переоценил себя, я же жалкий жирный червяк. Пакостник!
– Ну что ты, Михайчик, ты такой чистый, бесхитростный, недаром маманя с папаней тебя полюбили как родного. Они такие строгие, а тут сдались, без росписи тебя оставили в доме, да и папаня переступил через себя, угодил тебе. Если кто-то из козаюрды прослышит, что мальчика окрестили, папаню с работы могут выгнать.
Анютка крепко прижала к себе Михая: – Я никому тебя не уступлю, – и Михай снова поддался ласкам Анютки, первой и единственной женщины в его мирской жизни.
Через месяц, в день крещения сына, в аккурат к завтраку колхозный почтальон привез на телеге срочную телеграмму – она была адресована Михаю Мордаре.
Анютка побледнела, слезы заволокли ее глаза. Телеграмму прислали соседи: старая Мария, мать Михая, пилила доски возле сарая, да вдруг упала, прямо на них, сердце остановилось – так и умерла.
Собирали Михая наспех, молча. Лишь плакал Георгий, потому что в тот миг все забыли о нем. И только, когда отец взял его на руки, он успокоился. Анютка, прикрывая личико отворотом голубого атласного одеяльца, шла рядом.
Дон казался иссиня-черным, почти как море. Волны пенясь, бились о борт парома, ожидавшего у пристани пассажиров. Михай, отвернув одеяльце, поцеловал в глаза мальчика, прижал к себе Анютку, шепча ей в лицо: “Я все равно вернусь к тебе, моя голубка, если поезд не пойдет, я пешком приду, если самолет не полетит, я прилечу на крыльях”. А на горе у дома стояли Абрашкины и махали им вслед.
– Далеко твое село? – спросила Анютка.
– Э... – он усмехнулся, – как почувствуешь, что дует тебе в лицо западный ветер, знай, это я прислал тебе весточку, писем я не умею писать, я буду посылать тот ветер, который я люблю. А этот ветер рождается в моем селе, когда почувствуешь его, вспомни обо мне.
Они обнялись, Михай передал сына в руки наречённой, вскочил на паром. Повернулся лицом к Анютке с сыном, так и стоял весь путь, пока паром не причалил к другому берегу.
С Дона дул порывистый западный ветер. Анютке вспомнилась та жизнь, из которой привез ее казак Абрашкин. Смутное ощущение знакомого ветра, который то-бил ей в лицо, то подгонял в спину, когда она ходила из села в село. И все смотрела на небо, на горизонт, пытаясь увидеть радугу.Много раз юная казачка выходила к спуску над крутым обрывом и всё вглядывалась...не плывет ли паром с её суженым?
1979-й год
Метки: