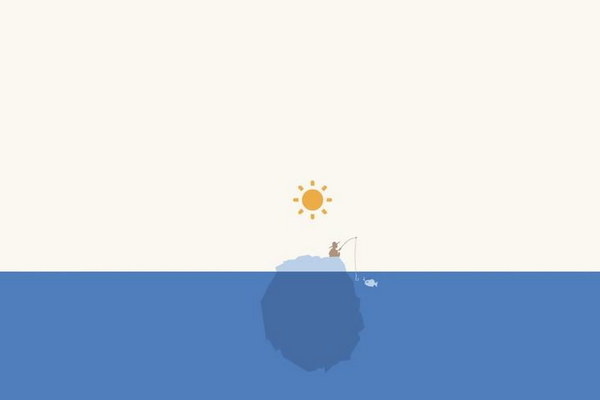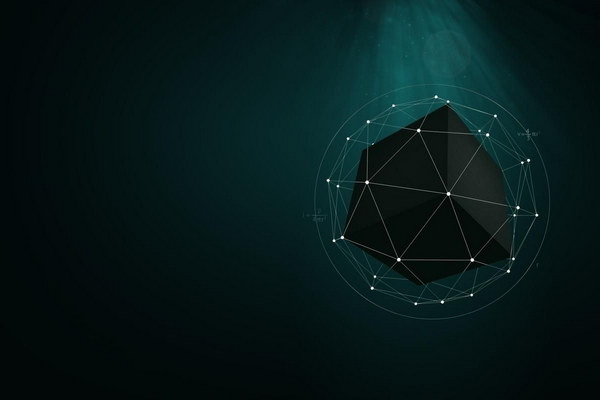Клуша
Я люблю её... Как я люблю эту старую клушу в длинном сером пальто, в платке, в садовых ботах, несущую две тяжеленные сумки из магазина. Я бегу рядом. Я могу только скулить, как я люблю её. Она ругает, на чём свет стоит, проезжающие мимо машины. Я бегу по дороге, чтобы сначала задавили меня, так я люблю её. Она переваливается, как утка, у неё больные ноги, перемотанные бинтами. Она снимает их на ночь, синие вены вздуваются и живут своей больной, венной жизнью, она их мажет чем-то едким и коричневым, и плачет... Лечь и умереть у этих синих вен, как я люблю ее...
Она несёт в своих сумках молоко для нелепого, безглазого кота и мясные кости для меня. Она никогда не забывает, как я их люблю. Сейчас, сейчас она сядет устало и первое, что сделает - достанет пакет с мясными костями и скажет привычное: " Ну, где ты там, нахлебник? Иди уже... На, псина, жри... Радуйся..." Я всегда думал, что меня зовут "Радуйся". Дурацкая кличка для такого огромного пса. Но другой у меня нет...
...Когда она откопала меня в сугробе, с отмороженными лапами, первое что она сказала было: " Радуйся, чтоб ты провалился... Махонький какой...", и сунула себе за пазуху, на огромную, тёплую грудь и так несла меня домой и грела дыханием, кормила молоком, пропитав марлечку. А я, придурок, смоктал эту марлечку и думал, что она моя мать, пограничная кавказская овчарка.
Такая странная овчарка...
Я вылизываю стекла окон в её доме, чтобы ей было светло. Я лижу её глаза, когда у неё текут слёзы. Это из-за её больных ног. Я отдам ей мясную кость, как бы я не мечтал о ней. Я отдам клуше свои лапы, лишь бы ей не было больно, как мне тогда. В снегу.
Она несёт в своих сумках молоко для нелепого, безглазого кота и мясные кости для меня. Она никогда не забывает, как я их люблю. Сейчас, сейчас она сядет устало и первое, что сделает - достанет пакет с мясными костями и скажет привычное: " Ну, где ты там, нахлебник? Иди уже... На, псина, жри... Радуйся..." Я всегда думал, что меня зовут "Радуйся". Дурацкая кличка для такого огромного пса. Но другой у меня нет...
...Когда она откопала меня в сугробе, с отмороженными лапами, первое что она сказала было: " Радуйся, чтоб ты провалился... Махонький какой...", и сунула себе за пазуху, на огромную, тёплую грудь и так несла меня домой и грела дыханием, кормила молоком, пропитав марлечку. А я, придурок, смоктал эту марлечку и думал, что она моя мать, пограничная кавказская овчарка.
Такая странная овчарка...
Я вылизываю стекла окон в её доме, чтобы ей было светло. Я лижу её глаза, когда у неё текут слёзы. Это из-за её больных ног. Я отдам ей мясную кость, как бы я не мечтал о ней. Я отдам клуше свои лапы, лишь бы ей не было больно, как мне тогда. В снегу.
Метки: