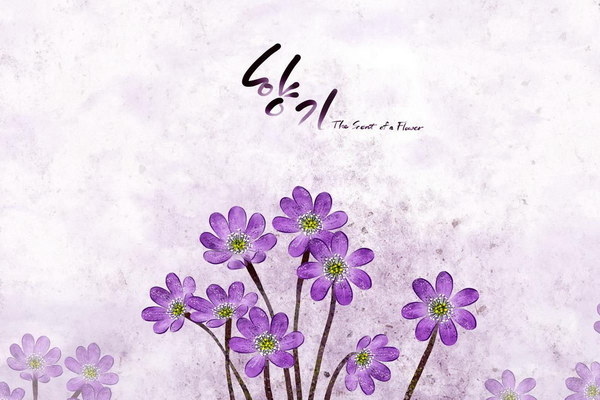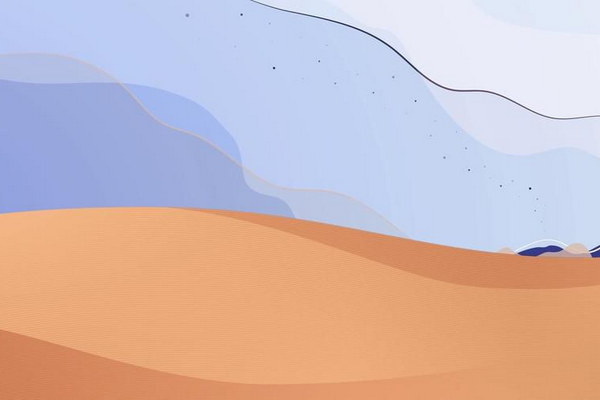Вся правда по-канадски
Дядя Зорик любил мою маму до безумия - об этом свидетельствовали его громкие стоны по ночам. Он приезжал раз в неделю, по средам, всегда возбужденный, и привозил нам с братом какую-нибудь безделушку. Мы благодарили, стесняясь, а он трепал нас негнущимися пальцами по волосам и повторял, "только учитесь хорошо, мальчишки!" Его руки пахли скумбрией вперемежку с одеколоном, и, судя по тому как он говорил "шесь-сем-восем", сам он своим рекомендациям не следовал.
Они засиживались с мамой допоздна на кухне, за бутылкой бабушкиной наливки, и беседы их протекали всегда одинаково. Он без умолку что-то рассказывал, возмущался, а мама только приговаривала "да ты что!.." и "серьезно?" Иногда Дядя Зорик делал паузу, вероятно для того чтобы махнуть рюмочку наливки, и после паузы добавлял: "Н-да, ум-маразум какой-то, да и только!" Мы всегда знали чем это неизменно кончится.
Напротив нас, в двухкомнатной, жил Витя Кондаков по прозвищу Канада. Он как никто здорово управлялся с шайбой на льду. Приземистая и всегда недовольная тетя Галя, Витюхина мать, работала фрезеровщицей, а батя, как она нам однажды поведала, просто "груши околачивал". Она была сдержанной женщиной, и не уточнила, чем и как. Им троим досталась большая комната, а в маленькой жила соседка, Кланька. Ей было лет двадцать пять, она накручивала волосы на бигуди и расхаживала по квартире в халате и c сигаретой. Смех у нее был громкий, заливистый, и, смеясь, она потешно морщила веснушчатое лицо и казалась очень симпатичной. Тетю Галю это явно злило.
Однажды, после обильного снегопада, мы выстроили во дворе снежную крепость - огромную, со стенами и башнями. Строили все, двором - от мала до велика, - катали комья, как для снеговика, нарезали из них блоки и устанавливали в ряд. Потом снова делали комья, закатывали их на первый ряд уже выстроенных блоков и нарезали второй ряд. Крепость получилась - загляденье! В первый вечер - а сумерки опускались уже в начале пятого, - кто-то из ребят постарше принес керосиновую лампу и установил в окошке главной башни. И мгновенно вся крепость засветилась слабым, таинственным светом невыразимого.
Сначала всем хотелось поберечь крепость, сохранить до весны, но уже на третий день пацаны, разделившись на штурмующих и осажденных, рубились самодельными деревянными мечами на белых стенах и забрасывали обледенелыми снежками гордые башни.
Незадолго до наступления сумерек, Канада нашел нас с братом на развалинах крепости. Башен больше не было, обесформленные снежные блоки были раскиданы здесь и там, и мы, сдвинув их поближе, соорудили неплохое убежище. Внутри хватало места всем троим, и в прорезанные в снегу узкие окошки можно было наблюдать за всем что происходило во дворе.
Мы принялись рассказывать анекдоты, и Витюха, норовя отличиться, поливал матом, но постепенно мы стихли и переключились на проходивших по двору людей. "Эту знаешь?" - спрашивал Канадa. По двору шла женщина в коричневом пальто с каракулевым воротником, в обеих руках по сумке. "Она из третьего подъезда. У нее сын в армии, Толик," - продолжал Витюха. Он знал всех. "Карасёвы, из двенадцатиэтажки," - сообщил он про моложавого мужчину без шапки, с мальчиком на пару лет младше нас. - "У них такой аквариум - зашибись!"
К нашему подъезду, приятно шурша по снегу колесами подкатила украшенная по бокам шашечками "Волга". После минутной заминки из нее чинно вылез довольно грузный мужчина с букетом гвоздик. Он водрузил на голову косматую шапку, оправил серое ратиновое пальто и решительно шагнул к входной двери. "Хахаль ваш," - пояснил Канадa когда дядя Зорик скрылся в подъезде. - "Слышь, а он мамку вашу харит?" Витькин вопрос тяжко повис в воздухе нашего тесного убежища, и мне захотелось наружу. Никто никогда не объяснял нам с братом что означало слово "харить", но я точно знал что именно хотел выяснить Канадa. Я уставился в узкий проем окна, боясь обернуться на брата, и в густой как сироп тишине услышал: "Да харит, конечно! Батя мой вон и мамку харит, и Кланьку. Мать его выгонит на недельку, он у стариков своих, в Вербилках, погужуется, и назад. А ваш-то богатый, на такси ездит, с цветами... Как пить дать, харит он мамку вашу во все дыры..." Я смотрел без отрыва на двери подъезда, на наши окна на третьем этаже, на старую высоченную грушу прямо перед нашим балконом, а за спиной слышалось, громкое, прерывистое сопение, срывавшееся на хрип. Мой брат ни с того ни с сего кинулся на простодушного Витюху, но тот оказался куда сильней, и уже через какие-то секунды молча душил моего брата на снежном полу нашего убежища.
Много лет спустя, стоя в забитом до отказа трамвае, где-то между Войковской и Плотиной, я невольно услышал сбоку от себя насмешливый женский голос: "Представляешь, он все время повторяет "умаразум какой-то, умаразум!" Я все понять не могла, какой-такой "умаразум", а он, оказывается, "маразм" имеет ввиду..." На повороте трамвай заскрежетал натруженными колесами об рельсы, и в этом ранящем нутро звуке потерялось продолжение.
Они засиживались с мамой допоздна на кухне, за бутылкой бабушкиной наливки, и беседы их протекали всегда одинаково. Он без умолку что-то рассказывал, возмущался, а мама только приговаривала "да ты что!.." и "серьезно?" Иногда Дядя Зорик делал паузу, вероятно для того чтобы махнуть рюмочку наливки, и после паузы добавлял: "Н-да, ум-маразум какой-то, да и только!" Мы всегда знали чем это неизменно кончится.
Напротив нас, в двухкомнатной, жил Витя Кондаков по прозвищу Канада. Он как никто здорово управлялся с шайбой на льду. Приземистая и всегда недовольная тетя Галя, Витюхина мать, работала фрезеровщицей, а батя, как она нам однажды поведала, просто "груши околачивал". Она была сдержанной женщиной, и не уточнила, чем и как. Им троим досталась большая комната, а в маленькой жила соседка, Кланька. Ей было лет двадцать пять, она накручивала волосы на бигуди и расхаживала по квартире в халате и c сигаретой. Смех у нее был громкий, заливистый, и, смеясь, она потешно морщила веснушчатое лицо и казалась очень симпатичной. Тетю Галю это явно злило.
Однажды, после обильного снегопада, мы выстроили во дворе снежную крепость - огромную, со стенами и башнями. Строили все, двором - от мала до велика, - катали комья, как для снеговика, нарезали из них блоки и устанавливали в ряд. Потом снова делали комья, закатывали их на первый ряд уже выстроенных блоков и нарезали второй ряд. Крепость получилась - загляденье! В первый вечер - а сумерки опускались уже в начале пятого, - кто-то из ребят постарше принес керосиновую лампу и установил в окошке главной башни. И мгновенно вся крепость засветилась слабым, таинственным светом невыразимого.
Сначала всем хотелось поберечь крепость, сохранить до весны, но уже на третий день пацаны, разделившись на штурмующих и осажденных, рубились самодельными деревянными мечами на белых стенах и забрасывали обледенелыми снежками гордые башни.
Незадолго до наступления сумерек, Канада нашел нас с братом на развалинах крепости. Башен больше не было, обесформленные снежные блоки были раскиданы здесь и там, и мы, сдвинув их поближе, соорудили неплохое убежище. Внутри хватало места всем троим, и в прорезанные в снегу узкие окошки можно было наблюдать за всем что происходило во дворе.
Мы принялись рассказывать анекдоты, и Витюха, норовя отличиться, поливал матом, но постепенно мы стихли и переключились на проходивших по двору людей. "Эту знаешь?" - спрашивал Канадa. По двору шла женщина в коричневом пальто с каракулевым воротником, в обеих руках по сумке. "Она из третьего подъезда. У нее сын в армии, Толик," - продолжал Витюха. Он знал всех. "Карасёвы, из двенадцатиэтажки," - сообщил он про моложавого мужчину без шапки, с мальчиком на пару лет младше нас. - "У них такой аквариум - зашибись!"
К нашему подъезду, приятно шурша по снегу колесами подкатила украшенная по бокам шашечками "Волга". После минутной заминки из нее чинно вылез довольно грузный мужчина с букетом гвоздик. Он водрузил на голову косматую шапку, оправил серое ратиновое пальто и решительно шагнул к входной двери. "Хахаль ваш," - пояснил Канадa когда дядя Зорик скрылся в подъезде. - "Слышь, а он мамку вашу харит?" Витькин вопрос тяжко повис в воздухе нашего тесного убежища, и мне захотелось наружу. Никто никогда не объяснял нам с братом что означало слово "харить", но я точно знал что именно хотел выяснить Канадa. Я уставился в узкий проем окна, боясь обернуться на брата, и в густой как сироп тишине услышал: "Да харит, конечно! Батя мой вон и мамку харит, и Кланьку. Мать его выгонит на недельку, он у стариков своих, в Вербилках, погужуется, и назад. А ваш-то богатый, на такси ездит, с цветами... Как пить дать, харит он мамку вашу во все дыры..." Я смотрел без отрыва на двери подъезда, на наши окна на третьем этаже, на старую высоченную грушу прямо перед нашим балконом, а за спиной слышалось, громкое, прерывистое сопение, срывавшееся на хрип. Мой брат ни с того ни с сего кинулся на простодушного Витюху, но тот оказался куда сильней, и уже через какие-то секунды молча душил моего брата на снежном полу нашего убежища.
Много лет спустя, стоя в забитом до отказа трамвае, где-то между Войковской и Плотиной, я невольно услышал сбоку от себя насмешливый женский голос: "Представляешь, он все время повторяет "умаразум какой-то, умаразум!" Я все понять не могла, какой-такой "умаразум", а он, оказывается, "маразм" имеет ввиду..." На повороте трамвай заскрежетал натруженными колесами об рельсы, и в этом ранящем нутро звуке потерялось продолжение.
Метки: