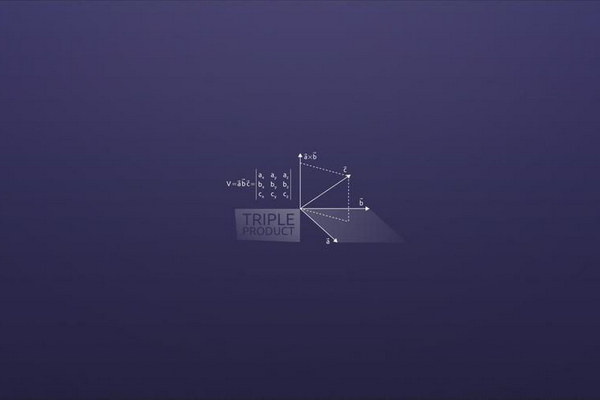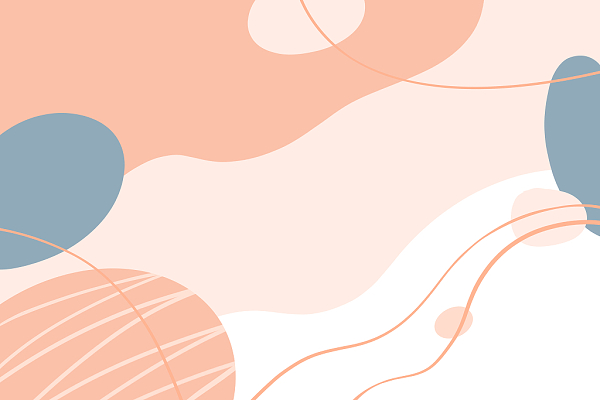Сага о Наталии. Часть третья
История одного человечества.
Сага о Наталии.
часть третья.
2016 г.
Собрание сочинений
в 99 томах. Том 23-ий.
Рассуждая в том же духе, он подумал и о том, что, может быть, будущему читателю станет скучно читать без конца, как он, дедушка своих внуков, до сих пор исполнен сексуального огня и не утратил нежную чуткую душу, которой наделила его природа. И он решил как-нибудь иначе, более неожиданно, закончить этот том, доведя его всё-таки до ста пятидесяти страниц. И тут ему пришла в голову мысль, или даже больше не в голову, а в сердце, что можно закончить этот том стихами. А, в частности, сонетами, которые он когда-то посвятил своей жене. И он подумал ещё и о том, что читатели смогут тогда предположить, что эти сонеты посвящены Наталии. Хотя они же, как и все искренние признания в любви, могут сгодиться при всяком случае, и быть как бы посвящёнными любой женщине. Так как каждая женщина уже одним тем, что она женщина, заслуживает любви и рифмованных строк, воспевающих её достоинства.
И он взял томик своих сонетов и стал, наугад открывая ту или иную страницу, выписывать оттуда попавшийся ему на глаза сонет. И пусть будущий читатель, или читательница, выучат на память хотя бы один из них, и использует его для того, чтобы при случае похвастаться, будто бы он сам (или сама) написал (или написала) его, это стихотворение.
И вот он взял томик своих стихов, и открыл его на той странице, на которой был напечатан
следующий сонет:
*
Ты ласточкой стремительной во сне
С весёлым криком мимо пролетала.
А сердце неспокойное во мне
Тебя остановить в пути мечтало.
Взмахнула ты приветливо крылом,
Волны едва коснувшись осторожно,
И скрылась, облетев мой скромный дом.
А я стоял. И было мне тревожно.
Но я проснулся. Нежностью томим,
Я разгадал ночное сновиденье.
Я понял: я задет крылом твоим.
И не напрасно странное виденье.
Путями сердца, на крыле мечты,
Той ласточкой ко мне летела ты.
Тут он закрыл книгу и открыл её снова, но уже в другом месте. И там он прочитал следующее:
*
Пусть даже и любовь пройдёт. Ну что ж.
Не вечно чувство. Сердцу не прикажешь.
Но если между нами встанет ложь,
Ты на досуге мне когда-то скажешь:
?А, помнишь, наш с тобою уговор?
Чтоб не случилочь, быть всегда друзьями?.
И ни тебе, и ни себе в укор
Отвечу я: ?Да, это было с нами?.
?Но жизнь ведь к нам была совсем не зла, -
Заметишь ты. - Зачем же огорчаться
Из-за того, что уж любовь прошла?.
И я скажу: ?Когда-то ж ей кончаться?.
И улыбнёмся этим мы словам.
И прежних лет покой вернётся к нам.
Здесь он снова закрыл томик, и открыл его в
новом месте. И вот что он прочитал там:
*
Любовь моя к тебе не возросла.
Она всё та же, прежнего размера.
Не велика она и не мала.
Да и какая тут уместна мера!
Мне ли судить прошедших восемь лет
Моей к тебе любви предельно сжатых
В один сонет, ещё в один сонет,
Ещё в один, в восьмой, в восьмидесятый.
Растёт число признаний. А любовь,
Их не считая, верит в бесконечность,
И ожидает вдохновенных слов,
Признаний новых, устремлений в вечность.
По кругу, как планеты и луна,
Идут мои сонеты и она.
И последний раз он решил перевернуть страницу, так как уже был на сто сорок восьмой странице своей книги. А он хотел ещё в
заключение написать несколько строк прозой.
*
Я посмотрел в оконное стекло.
Ещё лежало солнце в колыбели…
Нет. Ему расхотелось переписывать этот
сонет. Ну что ж. Как вы уже тут, видимо, заметили, последний сонет он не переписал полностью, а переписал только две первые строчки из него. И когда он это проделал, он отметил тут, что слишком много он оставил места для прозы. И решил перепечатать ещё одно или два стихотворения. Но на этот раз он взял свою другую книгу с романсами. Это были не совсем романсы, а порою и совсем не романсы. Но он условно так назвал эту свою книгу когда-то, а потом и привык к такому названию. И оставил его навсегда. И вот он наугад открыл страницу, где и увидел тот романс, который… Но тут он не стал его переписывать. И, покончив со стихами, решил в конце написать всего две фразы.
?Человек, пекущийся об общественном благе, и человек, пекущийся о семейном благе,
занимаются одним и тем же делом?.
И ещё:
?И всё-таки он счастлив. И очень хочет,
чтоб была счастлива и она?.
И вот тут уж он мысленно перевернул
последнюю страницу своей книги и отложил
воображаемое гусиное перо в сторону.
--*--
Он остро почувствовал, что может её потерять. И потерять навсегда. Давно уже он не ощущал такой тонкой боли в сердце, как в эту минуту, когда представил себе, что её не станет. А кроме её он потеряет тогда и внуков, без которых уже не может жить. Дети выросли и пошли своим путём. За ними можно теперь только наблюдать. Они взрослые, и характеры их сложились. И даже при потере детей, если бы такое, не дай Бог, случилось, он бы не опечалился до такой степени, как теперь опечалился он при одном только предположении, что может остаться без внуков и Наталии. Чувство страха, посетившее его теперь, он мог сравнить лишь с тем чувством, которое в нём возникло когда-то, переживая за свою мать, когда во время войны, в оккупации, она от голода потеряла сознание. А когда опять пришла в себя, он в темноте молил судьбу, чтобы она дала его матери столько лет жизни, сколько нужно для того, чтобы он к тому времени стал уже совсем взрослым восемнадцатилетним человеком. А ей бы тогда исполнилось пятьдесят. И ему это его желание казалось фантастическим сном, в котором он останется без матери только тогда, когда она будет уже глубокой старухой. Но случилось так, что она прожила девяносто восемь лет, и была почти до самой смерти исполнена и ясных мыслей, и полна физических сил. И он потерял её не в восемнадцать, как мечтал, а в шестьдесят шесть.
И вот через шесть лет после её смерти он опять боится потерять самых дорогих ему людей. И один такой человек висит сейчас у него на плечах за спиной, обнимая его за шею своими нежными ручками в то время как он заносит в компьютер вот эти строки. И этот человечек урчит ему что-то на ухо. И это лукавое существо не кто иной, как его внучка Эвачка. А мать её ушла в аптеку за лекарством для Владика. И вот они теперь беспокоятся за неё. И тут он вспомнил, как во время войны беспокоился он за свою мать. Только теперь он не выдаёт своего беспокойства внуку и внучке. Он боится, что проезжающий где-то автомобиль случайно наедет на Наталью, и она или попадёт в больницу, что очень плохо, но ещё допустимо, или перестанет существовать вообще. О чём и подумать страшно. И он никак не может допустить того, чтобы её не стало совсем. Он тогда чувствовал бы себя круглым сиротой. И вдобавок к тому, дети её тогда, не исключено, будут жить не с ним. А если и с ним, то вместе с Денисом и его новой неофициальной женой и их новым сыном Давидом.
Но вот опять Эвачка залезла сзади на табурет, на котором он сидит, и рассмешила его своим поведением, сидя у него на шее. И он решил дальше не печатать, и на этом закончить первый абзац своего второго тома о Наталии. А он задумал написать о ней семь томов.
С каждым днём он всё больше и больше понимает, что время уходит. И его отношения с Наталией развиваются не в лучшую для него сторону. Нет, они, конечно, не теряют той прелести, какой они наполнены были до сих пор для него из-за тонкости, какая обычно и заполняет души неравнодушных друг к другу людей. Но он боится, что это войдёт в привычку и станет нормой, которую трудно будет потом разрушить и заменить другим состоянием, имеющим в отношениях между ними и такой аспект, как сексуальная близость, приносящая обоим удовлетворение и огромную радость, если о радости можно рассуждать и в таком плане. И он решил торопить себя постоянно в вопросе написания этого большого количества прозы, прежде всего, для того, чтобы у него было реальное, а не мнимое, основание менять в их отношениях такие важные для людей вещи, как близость или отсутствие таковой между людьми живущими под одной крышей и не скрывающими своих чувств друг от друга.
Он понял, что постоянно писать о ней в превосходных тонах, значит, повторяться и, в конце концов, извести тему на нет. И стать даже не интересным не только будущему читателю, но и себе. И таким образом не добиться конечной цели. То есть, не добиться популярности. А может быть, и, вообще, не найти издателя. Тем более, состоявшегося издателя, способного издать и реализовать его романы в таком количестве, чтобы это принесло и ему некоторую финансовую
независимость.
И, кроме того, он понимал, что хоть и был он достаточным оптимистом, но время всё-таки уходит. И он стареет. И стареет, конечно, и она. Но это его не пугало. Но и перспектива двух стариков рядом его не радовала. Он хотел, чтобы души их молодели. И если когда-то случится так, что секс им перестанет быть нужен, или будет нужен только кому-нибудь одному из них, то к тому времени они уже будут так близки в отношениях, что это не сможет быть причиной охлаждения их друг к другу. Да и вообще он хотел не потерять её ни при каких обстоятельствах.
И вот он решил, что писать больше нужно не о ней, а о нём самом. О его ощущениях. О его постоянных тревогах и радостях. О его прошлом. О том, что он в жизни испытал. С кем и когда чувствовал себя счастливым. Когда и по какой причине это чувство уходило. И тут он увидел непочатый край ощущений, которые, как ему казалось теперь, не могут быть не интересными читателю, которого он представлял мысленно себе, как своего читателя. А это и молодые люди, стремящиеся к знаниям во всех областях человеческой деятельности, если так можно сказать. И не обязательно к знаниям для того, чтобы выступать в роли критиков его произведений. Но и неглупые домохозяйки, которых теперь становится почему-то всё меньше и меньше, и педагоги женского пола, и все те, кто любит жизнь не поверхностную, а внутреннюю, так сказать, ту часть её, которая является побуждающей к действию, но не так: сперва сделал, а потом подумал.
Но он же и сомневался в себе, и тревожился и из-за того, что книги его не найдут дорогу к массовому читателю. Но не потому, что они окажутся не интересными. А потому, что рынок, сформировавшийся с некоторых пор и в области книгоиздательства, заранее, по каким-то далеко не умным причинам, решает сам, вернее не сам, а его менеджеры решают, кого создать как писателя важного и нужного читателю, а кого поставить пусть даже в элитный ряд, но почему-то подальше от прилавка. Как будто он, этот элитный писатель, может испортить вкус читателя. И это, видимо, так. Потому что тогда читатель может отвернуться от того неимоверно бойкого чтива, что бесконечным потоком выливается на него, и не даёт ему не только подумать о прочитанном, и над прочитанным поразмышлять, но не даёт ему и вздохнуть, атакуя постоянно его наглой издательской рекламой, опуская его в очередной ?шедевр? не менее наглого автора. И всё больше и больше автора в лице борзописца женского
пола.
И это его иногда удручало настолько, что он хотел вообще отказаться от борьбы с этой страшной машиной современного мира. Но он же и понимал, что при любых обстоятельствах надо идти вперёд. И не доверяться никаким модным течениям, которые были всегда, и так же быстро и бесславно умирали, как и рождались на пустом месте. Как и колдуны и маги, что заполоняют весь мир в столь смутное для нас всех время, но благодатное для всяких аферистов и ловких посредственностей. И это не исключало и литературу.
И вот, понимая всё это, он знал, что примерами для него могут быть только те авторы, которые выжили в веках. Но и у них он не хотел учиться. Он понимал и то, что даже у гения нельзя ничему научиться кроме одного. Кроме правды. И он хотел быть правдивым прежде всего перед собой и перед теми, кто ему дорог. И поэтому согласен был лучше рассуждать на страницах своей книги о вещах не столь простых, как просто события, происходящие вокруг, и придуманные истории, как это бывает нередко, особенно теперь, в литературе, где процесс заменяет саму суть, а говорить в своей книге о вещах более важных чем то, что предполагает сюжет. А это, как он понимал всё больше и больше, - любовь. И она уже пусть и ведёт его руку по бумаге, как сказал бы он прежде, которую ему заменила теперь каретка компьютера.
Ну что ж, рассудив таким образом о жизни, и о его отношении к ней, он решил всё-таки напомнить своему будущему читателю о том, что утро это, а он проснулся совсем недавно, было по-прежнему солнечным. И за окном по-прежнему блестел снег. Так как ночью его ещё немного нападало к тому, что уже лежал на земле. А солнце, несмотря на свою яркость, с утра ещё не грело так, чтобы лёгкие снежинки, выпавшие ночью, расплавились, и поверхность снега, лежащего на земле, перестала отражать маленькие радуги, миллионами возникавшие в нём. Ведь свет, проходя через прозрачный предмет, и преломляясь в нём, имеет свойство разлагаться на составляющие его цвета.
И вот это свойство когда-то Пушкин в поэтической форме воспел неповторимо талантливо. И он, наш герой, часто вспоминал эти строки, видя перед собой подобный пейзаж в такое же зимнее утро, какое воспел когда-то гениальный Пушкин. И сейчас он вспомнил эти удивительные слова. И с радостью молодого
влюблённого человека повторил их:
Мороз и солнце! День чудесный!
Чего ты дремлешь, друг прелестный!..
И так далее.
Потом он встал и пошёл к компьютеру. И когда он его включил... Нет, не так. Не ?...и когда он его включил...?
В этой фразе он почувствовал, что сбивается как раз на ту литературу, которую он и не любит больше всего. И считает её не честной.
Словосочетание: ?...и когда он его включил...? уже предполагает неправду, как ему казалось. Ведь он видел огромную разницу между словами: ?...и когда он его включил, вошла Наталия...? и просто: ?...вошла Наталия...?. По его мнению, это далеко не одно и тоже. Во втором случае речь идёт о Наталии. А в первом автор как бы сообщает нам, или собирается сообщить, что-то такое, что он, автор, уже заранее знает, как интересное событие способное увлечь читателя. В общем, он уже не пишет, а рекламирует свой товар. И рекламирует его по незаслуженно высокой цене. Ещё ничего не сообщив, он уже говорит, что будет интересно.
Просматривая порой по телевиденью старые советские кинофильмы, и даже те из них, которые в своё время проходили без всякой помпы и считались рядовыми фильмами, не отмеченными критикой, он поражался, насколько они гармоничны и естественны, эти фильмы. И как они резко отличаются от всех современных фильмов, в которых фальшивая бездушная игра не только допускается, но и поощряется, и представляется как образец талантливой игры. В старых же фильмах сама жизнь, но ещё и помноженная на гениальность актёров, и даже на гениальность режиссёра, или автора идеи, ставилась во главу угла. Принцип перевоплощения торжествовал полностью. То есть торжествовало то, что и открыл в своё время гениальный Станиславский. Теперь же всё больше и больше подсовывают нам, если можно так сказать, фальшивого Станиславского. Не проникшись самой сутью его учения, но, изучив приёмы сценической практики, которые применяли Станиславский и его ближайшие последователи, они, современные творцы, выдают нам жалкую пародию на реализм вместо самого реализма. А проще говоря, издеваются над ним. В старых же советских фильмах актёры и актрисы (а сейчас ещё многие из них доживают свой век в забытьи и нередко в постыдной нищете) создавали такие образцы искусства, как принято было называть перевоплощение в цельную неповторимую личность, что звёзды Голливуда нашего времени это просто жалкие торгаши или базарные карманные воришки. В глазах каждого из них так и сквозит информация о том, сколько он стоит в долларовом выражении. И это, видимо, только и волнует подготовленного ими же массового зрителя и слушателя современных произведений искусства.
День продолжался. Солнце светило. Звуки, которыми переполнялась квартира, где жил он, то нарастали, то затухали почти совсем. И это зависело оттого, звонил ли телефон, был ли включен один или два телевизора. Или все три (так как у Глеба тоже стоял телевизор) гудели, будучи включены довольно громко, или совсем громко. Дети вдобавок ко всему любили поставить музыку как можно громче, и
любили танцевать под неё без конца.
В общем была прекрасная обстановка выходного дня. Хотя сегодня день был не только будничный, но и траурный и даже трагический. В Испании прогремело сразу несколько жутких взрывов в электричках. И там погибло, или пострадало, несколько сотен человек. Но тут это событие воспринималось как что-то очень далёкое. Или даже постановочное, что обычно и происходит в Голливуде, в блокбастерах, или как там их ещё называют. Он этого точно не знал, потому что давно уже не был в струе, если можно так сказать, современного искусства.
Приходил недавно Денис. Он зашёл в комнату к Глебу. Взял у него эскизы, выполненные Глебом для его будущего офиса. И на секунду зашёл к отцу. И когда он уже уходил, отец догнал его у выходной двери, и сообщил ему, что он уже закончил один том своего литературного труда и приступил ко второму. Не считая тех двух томов, что он тоже начал, но на время отложил продолжение их написания, так как почувствовал, что тему, связанную с Наталией, он сможет теперь развивать с большим успехом, чем те две темы, которые не рождали в нём столько эмоций, чтобы он видел там, в тех темах, главное, что теперь и составляло бы его жизнь, то есть любовь к Наталии.
Обстановка в доме, где на кухне Наталья готовила обед, настраивала его на оптимистический лад. И он почти забыл о трагедии, которую переживали в это время люди там, в далёкой Испании. Хотя он, конечно, прекрасно понимал, что ничего далёкого в современном мире нет.
А в это время на кухне Наталия варила грибной суп из солёных грибов, что она на днях привезла из дому.
Прибежала Эва и оторвала Владика от компьютера, на котором он рисовал очередной шедевр в качестве заставки для экрана монитора, и сказала ему, что мама плачет. И, как понял Владик, это был сигнал ему, чтобы он пошёл к ней и утешил её в трудную для неё минуту. И тогда он, дедушка, у Эвы осторожно спросил, почему мама плачет. И она ответила ему, что не знает этого. Но, видимо, добавила она, из-за папы. Через минуту он узнал, что они пойдут на горку кататься на санках. И он решил предложить свои услуги и пойти вместе с ними. И зайдя в их комнату, увидел там не плачущую Наталью, а весело танцующую вместе с Владиком, держащую его за руки и напевающую слова какой-то песни, под которую они и танцевали. А она, эта песня, звучала с проигрывателя. Так он называл по старым меркам тот аппарат, которым с течением времени заменили проигрыватель, каким он и его сверстники пользовались в своё время. Хотя теперь, конечно, и он это знал, аппарат этот называется совсем иначе. И отличается он от проигрывателя всевозможными тонкими усовершенствованиями, или вообще построен на ином принципе в сравнении с тем аппаратом, под музыку которого он когда-то в молодости не только танцевал, но и завоёвывал многократно призы на официальных конкурсах и просто на вечерах танцев. Призы обычно представляли собой вещи полезные в быту. Это мог быть и изящный зонтик, и даже настольная лампа или модный портфель из натуральной кожи за пять рублей, или ещё что-нибудь в том же духе.
И вот теперь, когда, войдя в комнату к ним, и увидев танцующими Владика и Наталью, он предложил им, чтобы они и его взяли на горку, он услышал почти категорическое нет. И почувствовал ревность к тому объекту её внимания и переживаний, из-за которого она,
может быть, и плакала совсем недавно.
Ему стоило немалого труда, если можно так сказать, чтобы побороть в себе эту ревность. Ведь правильнее было бы ему радоваться тому, что она так любит его сына и своего мужа и отца своих детей, что всё ещё хочет выправить ситуацию, и вернуть её в то русло, которого, может быть, и не было никогда, но по которому должна была протекать их жизнь, как она протекает в нормальных счастливых семьях.
И тут он подумал о том, что ещё совсем недавно он в своей книге, и как ему казалось, искренно изливаясь в чувствах, заявлял, что любит Наталью бескорыстно, и любой вариант развития событий не может поколебать этого чувства. И вот он попросту ревнует её
обыкновенной эгоистической ревностью.
И здесь он заставил себя войти в рамки дозволенного и не очень надеяться на то, что её чувства к нему могут быть, при любом варианте развития дальнейших событий, равными его чувствам к ней. В лучшем случае, подумал он, она может с ним быть когда-нибудь близка в постели, и не более. И как он теперь понимал, совершенно неестественным является тот вариант их не духовной близости, на который он ещё недавно так надеялся. Но он и понимал то, что момент ревности пройдёт, или уже прошёл, а надежды его, связанные с тем глубоким чувством к ней, как к предмету постоянной любви к женщине ещё с тех времён, когда он впервые почувствовал эту любовь, останутся навсегда. И не будут выкорчеваны из его души никакими реальными условиями или разумными рассуждениями о законах природы, назначающих всем существам и событиям неумолимые сроки. Он чувствовал, что любовь его к ней не имеет сроков. И случайное вкрапление в неё, в любовь, жизненных обстоятельств, диктующих и поведение соответствующее этим обстоятельствам, не может хоть как-нибудь существенно повлиять на саму любовь. И это его и обрадовало, и утешило. И он дал себе слово, что в будущем постарается приблизиться к тому идеалу в любви, который он так неосторожно, но с благородной целью, пытался до сих пор рисовать в своей книге. И он понял, что этим он не только выражал свои чувства к ней, к Наталии, но и хотел понравиться читателю. И теперь он посчитал, что читателю вряд ли он меньше понравится, если признается ему в той правде, какой она предстала пред ним теперь, когда Наталия отказала, довольно твёрдо отказала ему, быть с ними там, на горке. Но это тоже ему понравилось по-своему: так как она знает, чего она хочет, и идёт к своей цели твёрдо, без колебаний. И хоть и плачет порой в пути и, может быть, и не достигнет желанной цели, если цель её мираж, к которому она идёт с колебаниями в душе, но не с меньшей, как ему казалось, жаждой достичь цели. А, по сути, и не в достижении её дело. Так подумал он. А дело в том, что цель не только даёт возможность жить полной жизнью ему, но и даёт ему совершенно доступную возможность писать о этой жизни. И писать в форме дневника. Но только дневника более развёрнутого, чем обычный дневник. Писать в плане внутренних переживаний и побуждений, заставляющих человека, то есть его в данном случае, поступать так или иначе в жизненных обстоятельствах, которые он и фиксирует в эти минуты, как бы находясь над событием, что и даётся ему с немалым трудом. Ведь ему хочется бескорыстно страдать, как это с ним не раз уже случалось и в прошлом. В его первой молодости. А она продолжалась у него до тридцати семи лет. Как раз до того момента, как он и женился на прекрасной девушке Ларисе. И женился не потому, что он её полюбил, а потому, что он не мог разлюбить другую, которая хотела стать его женой, но его не любила. И любовь его не позволила ему тогда жениться на той, будучи не любимым, которую он любил. Но дала эта любовь ему возможность жениться на другой, в которую он ещё не был влюблён. И поступил он так потому, что ему нужно было избавиться от неразделённой любви с помощью разделённой, но уже любви несколько в другом, более реальном, и даже в совсем реальном смысле.
Но прошло время, а время лечит, и он, в конце концов, разлюбил первую и полюбил вторую уже как мать его детей, а не как он любил ту красавицу и бездушную стерву, что истерзала ему сердце, и чуть не довела его до худшего, что бывает в таких случаях. До смерти.
И вот теперь он влюблён снова. И влюблён по-иному, и в иное время, и в другую женщину. И это даёт ему возможность проживать свою богатую на события и душевные переживания жизнь снова. И делать это без повторения старых ошибок, которые обычно скучны хотя бы тем, что там уже заранее всё известно. Известно как будут развиваться события, и чем всё закончится.
В данном же случае, как ему казалось, никто не может сказать, чем всё закончится. Но сам процесс для него был так богат новыми событиями и переживаниями, что он хотел только одного: чтобы всё это продолжалось как можно дольше.
Он всё больше и больше понимал, что она рассудительнее его, и смотрит на вещи реалистичнее. И, не смотря на то, что обладает большой силой страсти, она никогда, или почти никогда, не отрывается от земли. И даже если она и позволит себе когда-нибудь сблизиться с ним, то это будет только благодарностью её за его любовь к её детям, но отнюдь не потому, что она разделяет его точку зрения на отношения, которые могли бы быть между ними. Конечно, не считала она себя ни недотрогой, ни святошей. Даже, более того, она понимала, что её предназначение служить мужчине. И ему она, наверное, могла бы и служить. И служить только ему. Если бы не было такого понятия, как отец её детей. Тем более что они, дети, его любили, как любят, когда не замечают в человеке недостатков. Нет, не так. Не то, чтоб не замечают. Они их видят. И видят, может быть, острей, чем кто бы ни было другой. Но не могут их никак сопоставить в должной мере с той любовью, которую они питают к этому же несовершенному человеку, к своему отцу. Но столь любимому, что никакие недостатки, и даже пороки, не могут поколебать эту любовь.
Порой ему казалось, что её удручённое состояние, которое он в ней иногда замечал, приближает его мечту. Но он не хотел осуществления мечты таким способом, когда женщина отдаётся мужчине от безысходности. Но считать её положение безысходным он никак тоже не мог. И, прежде всего, потому, что стоит ей только захотеть, как она тут же найдёт себе достойного поклонника и друга, способного и оценить её, и поддержать и морально, и финансово. Но, видимо, в этих Орлисах (а это была фамилия её мужа и свёкра) есть что-то такое, что не даёт ей возможности изменить им. Хотя они ей, в лице опять же её мужа, изменяли и неоднократно. Но что-то фамильное (а она уже в своей душе не отрывала себя от этого никому не известного, но старинного рода) так держало её, что все страдания, выпавшие на её долю, не могли перевесить возникший в ней зов предков. Или зов крови. Если позволено так сказать об этом явлении. И она чувствовала, что дети её тоже Орлисы, и они ими будут всегда. И никакое искусственное изменение их статуса не изменит самой сути. То есть зова крови. И поэтому, видимо, она и приняла любовь свёкра к ней не как обиду, оскорбляющую её женское чувство, а совершенно нормально. И хоть с ним почти не поддерживала отношений в течение последних девяти лет, но когда это понадобилось, стала с ним так откровенна, как будто они брат и сестра, являющиеся друг для друга и теми, кто друг перед другом постоянно исповедуется.
Теперь уже он думал, в связи с этими рассуждениями, что и сын его, и она, Наталия, будут вместе всегда. Так как любовь их закалялась в борьбе за свободу и одновременно за обладание друг другом. То есть, за обладание чужой свободой. Денис хотел, чтобы она принадлежала ему и только. Но вместе с тем хотел, чтобы он принадлежал себе и только себе. И это всё происходило на глазах у детей с первого дня их рождения, и происходит до сих пор, и формирует их души. И они не видят ничего противоречивого в этом противоречии, что и вылилось в ругань и даже побои. И прервать эту связь, как думал он теперь, может только время. Но и даже время он ставил под сомнение. А отсюда он делал вывод, что любые его надежды и претензии на новый статус его в этом роде, в котором он лелеял свои мечты, не могут быть превалирующими. Денис навсегда останется, видимо, мужем матери своих детей. А он, свёкор, всегда останется мужем матери своих детей. И это уже образовавшаяся ветвь их родословного древа, которую не оборвать никакими бурями жизни.
Но он понимал и другое, что пройдёт время, а оно проходит безумно стремительно, и не будет ни Наталии, ни его, ни Дениса, и даже его внуков. И всё уйдёт в такую бездну небытия, что и представить себе почти невозможно. А если и возможно, то ему было бы страшно туда заглянуть. И ему жгуче захотелось получить теперь всё то, что там и подразумевается. И опять где-то в душе плюнуть на условности. И он стал мечтать о том недалёком времени, когда все они будут, каждый по-своему, счастливы. Он с Наталией. Она с Денисом или без него. Дети с мамой, папой и дедушкой. А Лариса, его покойница жена, будет по-прежнему наблюдать из фотографии на шкафу на эту продолжающуюся пока ещё их жизнь. Жизнь тех, кто появился на этот свет и благодаря ей, как матери своих детей и жены человека, который и пишет сейчас вот эту книгу. И пытается в ней передать, или сформулировать, хотя бы то, что, может быть, и сам почти, или совсем, не понимает. А только чувствует где-то на уровне подсознания. Как принято говорить, чувствует душой. Но где она, душа, никто толком не знает. То она в пятках, то оборвалась, то взлетела так высоко, что телу за ней не угнаться. Но всё-таки во всех этих, и других, случаях она существует. А значит, есть. Ну и, слава Богу. Ведь Бог вложил, или, как говорят, вдул её в бездушное тело. И с тех пор она там и радуется, и страдает, и замирает, а то и отдаётся опять же Богу, когда покидает бренное тело навсегда.
И вот пока она не покинула его до сих пор ещё вполне приличное тело, он и захотел не давать ей киснуть и, таким образом, стал отдалять то время, когда ей придётся безвозвратно отлететь в свой неизвестный даже ей полёт, чтобы, может быть, поселится в каком-нибудь другом прекрасном теле милой девушки. Которая потом и станет матерью таких же прекрасных детей, как его внуки.
И он подумал ещё и о том, что выше этого, то есть выше того, чем отдавать себя другому, как это делает душа, нет ничего в природе. И ему опять захотелось отдохнуть и от столь напряжённых мыслей, дав отдохнуть немного и его беспокойной душе. И он выключил компьютер и включил телевизор в надежде найти там футбольный матч приличных команд мирового класса. А футбол в таком исполнении он любит даже больше, чем своё творчество. И любит ещё и потому, что сам прежде немало играл в футбол; и потому, что видел, как много подлинных творцов бегают по полю в трусах и решают мгновенно на бегу тысячи и тысячи сложнейших математических задач, которые, по его мнению, не сможет решить ни один самый совершенный современный компьютер.
И если они, футболисты, или кто-нибудь один из них, ошибался, то это решало порой исход всего матча. Такова цена малейшей ошибки в его мозгу, что случалась в тот момент, когда по ногам его, может быть, ударяли бутцем с такой силой, что ломались кости, или, в лучшем случае, его увозили с поля на тележке, чтобы уже вне игры делать ему заморозку этой части ноги; и таким образом на время освободить его от нестерпимой боли, и вернуть снова в бой, борющегося за престиж страны или клуба, к которому относился он, этот гениальный математик и выдающийся спортсмен.
И только, когда он, проходя через прихожую, шёл на кухню или в туалет, и в висящем на стене зеркале случайно видел себя, то он поражался тому, как он, оказывается, поразительно похож на известную скульптуру Вольтера, не менее известного скульптора Родена.
Посидев ещё молча несколько минут за компьютером, он вдруг записал в его память ещё пару мыслей. Вот они:
?Мне кажется, что вся легковесная современная литература идёт от Агаты Кристи, которой удалось найти способ пощекотать читателю нервы, и создать иллюзию, как будто он даже и мыслит во время чтения её книг. Но это только иллюзия. А, в самом деле, он просто слепо и безвольно следует за её гениальной мыслью.
И таким образом она совершенно лишает человека потребности и возможности думать?.
?Где-то несчастье, а эти уроды в это же время обязательно говорят о падении или росте курса акций на фондовой бирже?.
?Развенчание реалистического искусства и замена его всякой чепухой довели человечество до того, что люди разучились воспринимать чужую боль, как свою?.
?Когда в этом мире деньги сосредоточены в руках глупых людей, они не могут иметь первостепенного значения.
Питер Гринуэй.?
?Он очень любил в себе способность его мозга вызывать чувства, приводящие его к наслаждениям сексуального характера, пробуждающие в нём такие фантазии, при которых он счастлив. Они же, эти чувства, приводили к ещё более высокому и прекрасному наслаждению, как ему казалось, какого он не получал никогда ранее, когда был моложе?.
Эту последнюю довольно длинную фразу он сформулировал, когда уже давно выключил компьютер и после просмотра программы ?К барьеру?, переключив канал, наткнулся там на какой-то сериал, где молодая красивая полностью обнажённая женщина сидела верхом на молодом мужчине, лежащем на кровати на спине, и тоже полностью обнажённом, и производила такие страстные с нарастающей силой и скоростью движения нижней частью своей фигуры (а их она ещё и сопровождала движениями по неопределённой кривой, похожей на цифру восемь, но достаточно смещённой по отношению к плоской поверхности кровати), что он не удержался и, встав с кресла, начал, подражая им, получать то же удовольствие, какое получала она, та женщина, а не просто изображала его только для съёмки, как это часто бывает в сериалах. Или даже в так называемых профессиональных фильмах порнографического свойства. Где партнёры бесконечными дублями и ракурсами так измучены, что никакого секса у них уже давно не получается. А только жалкая пародия на него. Отличить настоящий секс от бутафории не может, видимо, только тот, кто им никогда не занимался сам. И не только с женщиной или с мужчиной, но и с самим собой тоже.
И тут вот и пришла ему в голову мысль, которую он здесь же записал, включив предварительно компьютер и перестав дальше смотреть канал, где кульминация в отношениях между двумя влюблёнными, как обычно это бывает даже в плохом кино, не показана зрителю. И действие для зрителя обрывается тогда, когда нам хочется весь процесс досмотреть до конца. Но окончание процесса как раз и не несёт наблюдающему того наслаждения, какое получают в этот момент сами исполнители его. Тут уместнее не смотреть на них, а самому приблизить кульминацию в своём члене в этот момент. И довести в себе процесс до полного его завершения. И таким образом использовать культуру, в данном случае сексуальную культуру, или эротическую, для того, чтобы полностью понять, что же это такое: секс по телевизору, а не по телефону.
Вчера вечером, уже засыпая, и получив перед этим очередное море сексуальной радости и мнимой, и реальной, от продолжительной близости с Наталией, он вывел формулу, которую ему захотелось записать в ту же минуту. Но вставать среди глубокой ночи и опять включать компьютер он поленился. И, более того, он просто не смог встать, так как не смог расстаться с Наталией, что и после получения ею удовлетворения от секса, оставалась с ним в такой близости, что он не позволил себе грубо нарушить это положение вещей. И вдобавок ещё она заснула. И он не стал её тревожить и продолжал оставаться в этой позе, стараясь запомнить фразу, в которой он и закодировал, как ему казалось, закон любви. Звучала эта фраза так:
?Если после совершения полового акта с женщиной вам не хуже, чем во время его или до него, то это и есть любовь?.
И вот теперь уже утро. Он проснулся от страшного стука. Как будто кто-то неимоверно сильно стучал в какую-нибудь дверь, или повалил что-то большое, нарочито сильно ударяя этим большим об пол. Тревога вырастала в его душе. Подозрение падало на Глеба. Он же в это время увидел перед собой ?Купальщицу? Ренуара с запрокинутыми за голову руками. Так же руки и его в это время были за его головой на подушке. И он представил себе, что он почти повторяет ту позу, что и на картине Ренуара была у купальщицы. Но он был прикрыт покрывалом больше, чем она была прикрыта полотенцем, которым, может быть, только что растирала своё молодое прекрасное тело. И он подумал, что он не вызвал бы у неё влечения к себе своей фигурой, если бы она, купальщица, сейчас лежала на его месте, а он висел перед ней в виде картины какого-нибудь Ренуара наших дней. Он понимал, что не мог бы быть секс-символом или даже просто натурщиком для художника, пишущего картины такого свойства. Но это только при первом поверхностном взгляде на проблему. Но если бы художнику в своей картине удалось передать его внутренний мир, то он, конечно, произвёл бы на умного зрителя не меньшее впечатление, чем, может быть, производят его лучшие картины прошлого, в которых, как правило (и в то время это было модно) воспевалась красота женщины, а не мужчины. Правда, тогда это называлось женственностью, а не сексуальностью. По крайней мере, на Руси. На великой Руси. В которую входили и Курляндия, и Лифляндия, и все другие земли и народности, и народы, объединённые не всегда добровольно в могучее, уважающее себя государство, которое развивалось по своим законам, и никогда не позволяло себе плестись в хвосте цивилизации, как это случилось теперь,
подумал он.
Потом в комнату заглянул Владик. И он, дедушка, спросил у него, что там случилось. Но Владик ему ничего определённого на этот счёт не смог сообщить, и тревога в нём от этого не уменьшилась. Он стал бояться того, что, может быть, это Глеб в плохом душевном состоянии. А такое может отразиться неблаготворно и на детях. А они и так, по его мнению, лишены той безмятежной радости детства, которая предполагается родителями для своих детей. И особенно бабушками и дедушками. И тогда, встав, он всё-таки вышел из своей комнаты и, зайдя в комнату Наталии, увидел там, что она с детьми собирается на съёмку. Об этом он знал ещё вчера, но сейчас забыл. И теперь понял он, почему Владик, заглянув до этого в его комнату, не вошёл туда, как обычно, а, выразив что-то глазами, пошёл назад. Он посчитал тогда взгляд его грустным и даже печальным. Но теперь он понял, что это был больше сонный взгляд человека, которому хотелось бы ещё поспать, а не вставать и одеваться для того, чтобы идти на целый день зарабатывать деньги на съёмке. Пусть на съёмке фильма, что само по себе престижно и даже интересно. Но всё-таки очень тяжело, как он не раз убеждался в этом и сам. Да, дедушка Владика неоднократно участвовал в массовых и групповых съёмках, и знал на собственном опыте, как это порой тяжело без конца повторять ситуацию, из дубля в дубль усиливая напряжение душевных и физических сил, пока не кончатся и силы, и время, и плёнка, предусмотренные для этого дня.
И вот они ушли. И вскоре Глеб, прослушав по телефону чьё-то обращение к нему, связанное с какой-то работой, которую, видимо, он где-то сейчас выполняет, тоже ушёл. И ему тогда стало намного легче. Он любил такие минуты, когда в доме никого нет и можно спокойно и неторопливо что-нибудь сочинять вообще, а в данном случае продвигаться медленно и, как ему казалось, всё-таки верно, по пути, который он себе наметил сам.
Ещё ему понравилось сегодня то, что Наталия обратилась к нему с просьбой поменять доллары на рубли, или одолжить ей пять тысяч на всякий случай, так как ей не хочется (да и не осталось на это уже и времени) идти в обменный пункт, чтобы поменять там пять долларов на реальное платёжное средство. А она знала с его же слов, что он недавно получил пенсию, и у него есть свободные деньги. Он ей предлагал их, не все, а частично, уже тогда, когда они собирались к её родителям. И тогда она отказалась. А теперь, когда она сама обратилась к нему, он почувствовал то, что постоянно хотел чувствовать, как влюблённый в неё человек.
Он почувствовал, что он ей нужен. И это в его душу вселило такой поток радости, что он опять стал большим оптимистом в вопросе их будущих более близких отношений, о которых он всегда мечтал.
Он почувствовал себя способным добиться в жизни многого. И в том числе, и почти невозможного. Радость эта даже увеличилась тогда, когда он узнал, что совсем и не Глеб был причиной грохота, что разбудил его сегодня в последний раз. Это в маленькой прихожей, разделявшей большую прихожую и комнату Глеба, продавилась под неимоверным весом коробок с огромным количеством детских игрушек полка, на которой и стояли эти коробки, поставленные на лежащую на той же перекладине пластмассовую крышку стола, использованную вместо полки. Она же своим весом и продавила, в конце концов, эту перекладину, и загремел с таким шумом, что и стал причиной его тревоги сегодня утром. И хоть вся конструкция была довольно прочной, и вот уже на протяжении двух месяцев исправно служила своему предназначению, но пришёл по какой-то причине момент, когда она дала сбой.
Теперь же, когда Глеба нет дома, он может и должен пойти и привести её в порядок. А Глеб после телефонного звонка ушёл, видимо, на работу. Так как в разговоре по телефону, кроме прочего, упоминались и какие-то гвозди, и что он знает, где они лежат, и как туда проникнуть.
Но идти ремонтировать полку не хотелось, так как он знал, что малейшая внутренняя потребность сесть к компьютеру должна им использоваться незамедлительно, иначе он не справится с поставленной им же перед собой задачей: в кротчайший срок, который, пересмотрев его, он сократил ещё более, он должен написать семь томов о Наталии, по сто пятьдесят станиц каждый том, завершив всю работу к 3 июля 2004 года. Ко дню освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Хотя Белоруссия не была освобождена вся 3 июля. Но в Минск Советская Армия вошла именно в этот день. И вот этот день и стал условной датой освобождения Белоруссии. И был всенародным и самым главным праздником для белорусов вот уже на протяжении шестидесяти лет.
А он, наш герой, тот день до сих пор помнит так, как будто бы это было даже не вчера, а происходит вот сейчас, сегодня. И происходит ещё и в эти минуты. И помнит он его в таких подробностях, что мог бы, если бы стал сейчас описывать этот день, заполнить, по крайней мере, половину тома своей книги теми волнующими событиями, что и запомнились ему в этот день. Что он, может быть, и сделает вскоре. Или когда-нибудь позже, когда время будет подводить его к той дате, где он и наметил в лучшем случае, если так получится, завершить написание этой ?Саги о Наталии?.
Конечно, он не исчерпает, таким образом, всего, что волнует его и наполняет его душу теперь. И он надеется, что будет наполнять её и в дальнейшем. Но он получит удовлетворение оттого, что прожил этот миг, этот замечательный миг, не поленившись зафиксировать его хотя бы в той форме, которая доступна ему сегодня. А сегодня он ещё имеет возможность не только думать о ней, и переживать чувства к ней в своём воображении, но и быть постоянно, ежедневно, не менее одного или двух раз в сутки в близости с ней. Он просто счастлив. И не может позволить себе не сделать всего того, что, может быть, когда-то поможет и ему (когда он будет, не дай бог, больным и недвижимым, читая свои же строки) вновь переживать это счастливое время, которое он ценит так высоко теперь, за что и тысячекратно благодарен Господу Богу, если он существует и сделал это для него.
Надо бы пойти починить полку. Но он в нерешительности. Он колеблется между двумя желаниями. Одно - продолжать книгу. Другое - пойти не только чинить полку, но и прикоснуться душой и где-то и руками к тому, чего только что, вернее, недавно, касалась Наталия, и что окружало её и её детей. Пойти в их комнату и посмотреть на неубранную постель, в которой они сегодня спали. Или просто вспомнить тот взгляд, когда она смотрела на него тогда, когда он разговаривал с ней и о полке, и о съёмке, и о деньгах, что он в это время доставал из кармана, и с полной откровенностью, искренностью и душой предлагал ей на всякий случай больше, чем она его попросила одолжить. И делал он это не навязчиво и, как ему казалось, так же, как всегда поступала в таких случаях его мать, когда уговаривала собеседника, или собеседницу, взять у неё тот или иной предмет, которым она считала нужным поделиться с ней, или с ним, в этот миг по внутреннему побуждению и абсолютно бескорыстно, как всегда поступает порядочный человек, способный переживать чужое горе, а, следовательно, и способный помочь справиться с ним другому человеку. И это зависит не от материальной обеспеченности помогающего, а от его душевных качеств, или от отсутствия таковых, когда человек не помогает кому-нибудь, нуждающемуся в помощи.
А уговаривала она только тогда, когда давала, а не старалась взять. Взять она никогда не старалась. И вот теперь он любит в Наталии, видимо, больше всего то, что и она склонна чаще отдавать, чем брать. И только когда кто-то не оценивал по заслугам её душевную щедрость, это её глубоко ранило. Тут он уже говорит о своей матери. И в этом случае, о котором мы с вами говорили, когда его сын не способен был оценить, какой брильянт в его руках, он тоже был очень огорчён тем, что он, его сын, даже не замечал теплоты тех ярких граней и тихих щедрот, переливающихся в нёй, в Наталии, способной подарить и покой, и счастье, а не светить поддельным обманчивым светом искусственного камня, иногда выполненного довольно эффектно, но никогда не излучающего подлинного тепла.
Денис ударил вчера этот бриллиант по лицу только за то, что он не смог и не пожелал светиться фальшиво, а продолжал отражать в своих гранях всё то, что и окружает его. И в том числе неблаговидное лицо человека, в какой-то момент зазнавшегося и переоценившего свои силы. И, вообще, пошедшего вопреки и против законов природы, тем нанеся самому близкому человеку боль.
И всё-таки он решил дальше не писать, а пойти починить полку, и выключил компьютер.
Когда он его включил снова, прошло уже приблизительно полчаса. А за это время он успел и починить полку, что так тревожно его сегодня утром разбудила, и успел сходить в комнату Натальи. И даже попробовал там заняться сексом, наблюдая воспалённым взглядом за её верхней и неверхней одеждой, которая была частично сложена в открытых шкафах, и в не меньшей мере была развешена на дверцах этих же шкафов, или разложена на кресле-кровати, которую ни разу, или один только раз, использовали по назначению за весь этот небольшой период, прошедший с того дня, как она, Наталия, с детьми переехала сюда.
Но с сексом у него, как он почувствовал, тут может ничего и не получиться. Да и не захотел он этот акт совершать теперь с нею тут без неё. И ещё он мог не получиться и потому, что не далее как шесть часов тому назад он уже совершал его с ней в своей кровати. И уж слишком много впечатлений и воспоминаний возникало в нём оттого, что каждая единица её верхней, и не верхней, одежды, будь то кофта или платье, или брюки, или любые трусики, что лежали тут же, на полках рядом с бюстгальтерами и другими деталями женского ночного и не ночного туалета, включая и ночную рубашку подлиннее, и совершенно коротенькую (такую он любил в молодости видеть и на своей жене, и до неё такую же, на семнадцатилетней дочери доктора филологических наук); так вот, наблюдая всё это обилие вещей, что наводило его на эти воспоминания, не дававшие ему заниматься тем, чем он хотел заняться тут с Наталией сейчас, когда она была уже где-то в пути туда, где и должна состояться съёмка эпизода будущего сериала, что и была намечена режиссёром на этот весенний тёплый солнечный день. Ну, так вот. Он и решил отложить этот акт с ней без неё на другое время.
Сегодня 13 марта 2004 года. Завтра в России, которую он по старой привычке считал своей родиной, выборы президента.
И вот тогда он решил пойти в ванну. И там уже получить завершение наслаждения, которое он всегда получал от близости с Наталией.
Открыв душ, используя пахнущее летним лугом мыло, что было куплено Наталией накануне, он очень легко и быстро привёл себя в такое состояние, что он мог ему взамен возвратить те неповторимые ощущения, что появляются тогда, когда мозг ваш и любит, и лелеет, и бережёт то существо, что и
вызывает в вас это неповторимое
ощущение счастья.
Когда же дело стало доходить до того, что ему нужно было принимать трудное решение: продолжать ли сдерживать себя (что в этом состоянии делать очень трудно, но хочется) или сделать всё для того, чтобы приблизить эту ни с чем несравнимую радость оргазма и всё-таки получить его, и именно сейчас. И он, в конце концов, как и всегда в прошлом, конечно же, выбрал второе. И так как он знал, что в квартире никого нет (хотя до конца он в этом, конечно, не мог быть уверен; может быть, кто-нибудь пришёл тогда, когда он тут в закрытой ванне занимается, как теперь говорят, любовью с любимым человеком), то он не стал сдерживать себя и издал неимоверно громкий звук, напоминающий звук умирающего от нестерпимой боли человека где-нибудь в пламени пожара или на костре инквизиции. Крик этот сопровождался словами: ?Как хорошо, Натальюшка! Милая!.. Аа-а-а-а-а!..?
После окончания завершающей фазы процесса, посмотрев в зеркало, он увидел там довольно большой и достаточно красный предмет его вожделения, но уже полуопущенный в ванну и потерявший ту силу, упругость и стремление куда-то ввысь, какими он был исполнен всего несколько мгновений тому назад.
Переведя взгляд выше, он увидел в зеркале счастливое молодое лицо глубокого и небритого старика. И улыбнулся ему так искренне и правдиво, что лицо это стало ещё моложе, и одновременно неизмеримо старше, чем это бывает с его лицом, когда он не в ванне и не в такой момент смотрит на него. Не в момент противоречивых чувств, что и заполняли его душу сейчас.
После чего он стал обтираться полотенцем. И когда он поставил одну ногу на край ванны, а второй стоял в самой ванне, из которой уходила постепенно собравшаяся там от душа вода, так как он теперь открыл пробку на дне ванны и дал воде свободно уходить в трубу; так вот теперь нога его, стоящая на краю ванны, стала вдруг неимоверно интенсивно пульсировать со скоростью семь-восемь ударов в секунду. И ему даже понравилась эта пульсация. Она ему, как ни странно, говорила о том, что он ещё довольно живой человек, если нервы его не могут быть спокойными тогда, когда после завершения полового акта он пожелал бы отдохнуть от напряжения, в которое приводит его его же неспокойный и вечно ненасытный ум. И ему пришлось поставить ногу в более плоское положение, чтобы она перестала вибрировать.
А она стояла до этого на краю ванны на полупальцах. И, к стати сказать, в прошлом одной из его многочисленных профессий была и профессия танцовщика. И он привык вытягивать ногу так, чтобы большой палец её включал в себя всю энергию всего его организма. Этот принцип придуман ещё, видимо, тогда, когда в русских барских поместьях зарождался, в будущем ставший знаменитым на весь мир, российский балет. И для услады бар балетмейстеры тех крепостных трупп доводили тело балерины до такого совершенства, что и стали они, эти балерины, началом, или основой, развития этого вида искусства, который теперь включает в себя сотни и сотни тружениц сцены, добивающихся огромным трудом, и даже истязаниями над своим телом, таких результатов, что наблюдателю со стороны кажется порой, что у балерины такой природный талант, совершенно и не подозревая, что талант этот, это, прежде всего, изнуряющий труд и труд. И труд похлеще труда рудокопа даже ещё в те времена,
когда он, рудокоп, находясь под землёй,
месяцами вместе со слепой лошадью добывал уголь так нужный уже в то время для выплавки стали, из которой и ковалось оружие,
создавшее Россию могучей державой.
И, думая теперь об этом, он обтер себя полотенцем, оделся и направился к компьютеру. И начал сочинять.
*
Идя в сберкассу, чтобы оплатить за телефон и коммунальные услуги, так как принесли, наконец, извещение к оплате, он подумал: ?Ну что ты так упёрся в этом маниакальном желании попасть туда? Ну разве ты не получил пятнадцать минут тому назад третий раз оргазм за сутки? А ещё ведь и не прошло половины дня, как ты начал сегодня счёт этому движению к совершенству через неумолимый зов природы. И, тут можно сказать, и природы твоей психики. И достиг ты предела, упершись спиной в шкаф и, глядя то в окно на зарождающуюся там весну, то на картины, что развешены у тебя перед глазами, и в такой момент в совокупности дают гамму впечатлений своими пейзажами и обнажёнными фигурами натурщиц. И, кончая, ты так визжал, как не смогли бы визжать даже три недорезанных свиньи, если бы их вдруг отпустили на свободу бежать по широкой улице большого села.
Выйди ты лучше на воздух, где ты не был уже не менее месяца. Последний раз ты из дому выходил именно тогда, когда и ходил на почту, чтобы оплатить коммунальные услуги. Да посмотри ты на весёлое солнце. И обрати внимание на собравшуюся на сквере стайку молодых мам, что судачат о чём-то приятном, пока их чада, опьянев от весеннего чистого воздуха и пенья птиц, мирно спят в колясках. А мамы в это время рассказывают друг другу что-то очень приятное, живя, видимо, пока ещё безмятежными жизнями, лишёнными домашних неурядиц, раздоров и взаимных упрёков, так как ещё безумно молоды и сексуальны. И сексуальность в них ещё и дополняется материнским чувством. И это видно на их юных, по существу, ещё детских лицах. Или пройдись вот ты за теми школьницами, что идут после уроков домой и о чём-то, или о ком-то, весело смеясь, разговаривают. И в их речах подозрительно часто встречается слово ?он?, чтобы поверить, что они обсуждают домашнее задание по математике, или даже роман Пушкина ?Евгений Онегин?. Их стройные подростковые фигуры скользят по тающей мостовой, не замечая ни грязного пористого снега, что гибнет прямо у них на глазах под лучами весеннего полуденного солнца, ни весёлых первых весенних ручейков по существу первого по-настоящему весеннего дня. А навстречу им идут парни. Тоже школьники класса шестого-седьмого. И нарочито грубыми голосами показывают, что они не только шестиклассники, но ещё и самцы.
Вот так подумав, он подошёл к сберкассе и, увидел там снаружи здания достаточно большую очередь. А сберкасса ещё не открылась после обеденного перерыва. И, передумав стоять в очереди, он вернулся домой и записал эту тираду в компьютер.
Наталии ещё нет. А день уже почти завершился. Лучи солнца за окном косыми своими стрелами не могут окончательно побороть упрямство зимы и бессильно светят, не пополняя уже замерзающие ручьи влагой. Тишина за закрытым окном кажется ему космической. В доме тоже полная тишина, за исключением мерного тихого гуда ящика, в котором и содержатся все его чувства и мысли, записанные современным электронным способом туда, а ещё и в несколько дискет, которые он постоянно держит в кармане своего кожаного пиджака, и снимает его только на ночь. И то кладёт его рядом с кроватью, чтобы ощущать, что все его чувства и мысли он может в любой момент, если потребуется, например, в случае пожара, унести с собой. А потом уже опять ввести, может быть, в другой компьютер, если этот сгорит при пожаре, и продолжить свою работу над серией книг, что он задумал написать по существу для Наталии. И когда-нибудь, а желательно скоро, завершить её.
Больше всего он любит свои произведения видеть в форме хорошо изданной, но по его эскизам, книги. Пока, правда, ему ещё не приходилось держать сво. книгу в руках. Изданную старинным способом, что в наше время не у многих пользуется популярностью. В наше время больше любят посидеть часок-другой за Интернетом, и по причине его неограниченных возможностей рассматривать там какую-нибудь ерунду, совершенно, или почти совершенно, не имеющую отношения к тем неизмеримым богатствам культуры, которые можно было бы почерпнуть через Интернет, если бы в этом была потребность у тех, кто не любит читать книги. И только через книгу, через настоящую книгу, можно придти к Интернету, чтобы пополнить пробелы в знаниях. И сделать это гораздо легче, чем это можно сделать без него. Я бы допускал к Интернету не тех, кто без грамматических ошибок не может написать даже нецензурное слово, а тех, кто грамотно и талантливо может изложить самую изысканную брань. И изложить её так, что это не оскорбит чувств воспитанного человека.
Ближе к вечеру он сходил на почту и оплатил за телефон и другие коммунальные услуги. И уже идя домой, вдохновлённый наступившей весной, он вспомнил одно своё весеннее стихотворение, и прочитал его вслух. Вот оно:
*
Весна! Природы ликованье!
Пора любви, очарованья.
Ломя, кроша, взрывая лёд,
Весна идет, весна идёт.
А с берегов ручьи сбегают,
Траву и почву обнажают.
И вот уж снег, сползая с гор,
Несёт к реке и шлак, и сор.
Грачи, влетевшие во двор,
Шумят, над липами кружатся.
И тотчас совы спать ложатся,
Заслышав птичий разговор.
Дымит подтаявший навоз,
И земли дух его внимают.
И вот уж он летит на воз,
Его на вилах поднимают.
Потом его свезут на пашню,
И там он ляжет на поля.
И, вспоминая день вчерашний,
Зазеленеют тополя.
О, ты, природы ликованье,
Души прекрасная пора!
Ты раскрываешь дарованье,
Во мне стеснённое вчера.
Теплом и светом обновляясь,
Ты мне волнуешь душу вновь
И, вдохновением являясь,
Напоминаешь про любовь.
?Но хорошо всё-таки, что эти стихи я читал когда-то своему отцу, - подумал он. - И не только эти?.
Без Родины человек не может обрести покой. Даже такой гениальный художник, как Ростропович, мечется по свету в поисках счастья и покоя. И даже его великий талант не даёт его душе успокоения там. И жена его, Галина Вишневская, великая актриса и певица, потеряв корни, не приобрела ничего кроме тоски, что так и сквозит из её потускневшего взгляда. И, напротив, просидевшая не менее десятка лет в ГУЛАГе Анастасия Цветаева, весело бежит по дорожке в свои семьдесят с лишним лет, позируя перед камерой, и читая нам свои стихи, написанные ещё там, среди убийц и насильников, которые уважали её за искренность и ум не менее чем короли и президенты уважают за эти же качества Ростроповича и Вишневскую. Но в отличие от неё, от Цветаевой, они не имеют в душе того покоя, что есть у неё, разделившей со своей Родиной все её страдания и мучения в поисках истины.
Родина - это понятие более чем реалистическое. Родина - это всё. Это боль за всех. Включая сюда и тех, кто её предаёт и продаёт и оптом, и в розницу. И даже иностранные разведки, что разрушают нашу Родину, подрывая её устои, работают, как им, по крайней мере, кажется, на благо своей Родины. Кто же продаёт свою Родину, прежде всего, обворовывает себя, выбивая из-под себя стул, на котором сидит. Конечно, бывают обстоятельства, когда человек вынужден покинуть Родину. Но если есть хоть малейшая возможность вернуться, он должен сделать это незамедлительно. Не обращая внимания ни на какие материальные выгоды и на выгоды честолюбивого свойства. Иначе его душа и после смерти будет скитаться по свету, так и не найдя себе покоя. Родина это всё.
Любите Родину, подумал он, глядя на деревья, пока ещё не имеющие ничего, кроме голых веток и теней от них, падающих на мокрый снег этого только начинающегося мартовского вечера, который встречал он, идя в ближайший гастроном, чтобы купить там десять коробков спичек и хлеб.
Наталья последнее время так много курит, что он не всегда может зажечь газовую плиту, не находя ни одного не совершенно пустого спичечного коробка.
Вчера она вместе с детьми была на съёмке. Вернулись они не очень поздно. Но устали, конечно, изрядно. Особенно устала Наталья. Дети немного кашляют. И он подумал, что вот наступили времена, когда ей надо думать о том, как прокормить детей. И она вынуждена ходить с ними на съёмку даже тогда, когда лучше было бы их подержать ещё пару дней дома, так как они ещё не здоровы. Но зовут на съёмку не тогда, когда дети совершенно здоровы, а тогда, когда это нужно режиссёру. И она вынуждена считаться с этим положением вещей. Дети всё равно не усидели бы дома все эти четыре дня. И при малейшей возможности вышли бы на улицу встречать весну, хотя бы сопровождая Наталью при походе в магазин. Или сходили бы с ней в гости к кому-нибудь, где тоже есть дети их возраста, чтобы не сидеть целый день у телевизора. А тут ещё и неплохо платят. Всё-таки по шестнадцать тысяч белорусских рублей за каждого ребёнка в день, это немало. Если учесть ещё и то, что от Дениса теперь многого ждать не приходится. Да и вообще неизвестно как у него пойдут дела. Правда, мама с папой помогают тоже, и не отказывают ей ни в чём из того, что имеют сами, зарабатывая свой хлеб тяжёлым честным трудом сельских тружеников. Но ей и самой хочется не сидеть на чужой шее. И она бы, конечно, нашла себе работу постоянную. Но дети. И ей хочется быть почаще с ними. И им тоже она ещё более необходима теперь, когда отца практически рядом почти не бывает. А если и приходит он иногда к вечеру, так это не только радость, но и обстановка чреватая непредсказуемыми последствиями. И поэтому она не может допустить такого положения вещей, чтобы дети росли, не чувствуя постоянной заботы и внимания матери, и не идёт на работу, которая отняла бы у её детей самое главное: общение с ней. Она согласилась бы на любую работу, только если бы дети были рядом. А съёмки в кино, это и есть тот вариант, что устраивает и её, и в какой-то степени и её детей.
Слышны голоса Владика и Эвелины. Эвелина кашляет. Но кашель её поверхностный. Он не глубокий. И это говорит о том, что простуда не поползла в лёгкие, а, наоборот, выходит наружу. Ещё день-два и она, видимо, будет совершенно здорова. Или почти здорова. Потому что грипп иногда даёт и осложнения. Но надо надеется на то, что этого не случится. Да и вообще, тут всегда возникает дилемма. Опекать слишком детей и выдерживать их в тепличных условиях так же опасно для их здоровья, как и тот вариант, когда их небольшим простудам не придавать значение, и позволять организму приобретать иммунитет, способность самому вырабатывать лекарства, которые и нужны ему в том или ином случае. Ему, это организму.
Сегодня, видимо, съёмки нет. И хоть сегодня суббота, но он не чувствует, чтобы они собирались на съёмку. Детские голоса глухо слышны там, в глубине их комнаты с закрытой дверью. Иначе они не могли бы быть такими не звонкими. А это признак того, что они не собираются никуда уходить. Ведь верхняя их одежда висит в большой прихожей. И если бы они собирались на студию, они бы не изолировали себя от остальных помещений квартиры, а наоборот, бегали бы то на кухню, то в туалет, или заглядывали бы к нему, прежде чем уйти.
Вчера, когда они были на съёмке, особенно
под вечер, очень скучала их кошка Пати.
Но вот он вдруг слышит, что там громко плачет Эвелина. И он не может больше сидеть за компьютером и выходит туда. И узнаёт он причину её огорчений. Оказывается, её поцарапала Пати. И вот в этот момент она уже в Алисиной комнате. И, приоткрывая туда дверь, он видит её прекрасное заплаканное лицо. Маленькие косички на голове, удерживаемые в вертикальном положении цветными колечками, надетыми на них, торчат так мило вверх, что слёзы её ему теперь кажутся не столь трагичными. И он хочет верить в то, что через минуту она успокоится совсем и не будет плакать. И даже помирится с Пати, и будет её по-прежнему любить и ловить, бегая за ней по комнатам и стараясь снять её со шкафа, когда та, спасаясь от преследования, залезет туда.
Но с ним, с дедушкой, она в этот момент не захотела общаться. И прикрыла за собой дверь в комнату Алисы, и, оставшись там, перестала плакать. И он снова пошёл к компьютеру и попытался описать эту сцену. Но, как ему показалось, у него ничего не получилось. И он всё стёр. Вернее, не не получилось, а, как ему показалось, получилось чрезмерно сухо. Или с той степенью любви, которую, как он думал, может, он и не заслуживает, если он не сумел так воспитать сына, чтобы не случилось того, что и случилось. Но тут он, как и не раз в прошлом, углубился в размышления на тот счёт, что в воспитании детей не всё зависит только от родителей. Тут включаются и десятки других причин, которые влияют на формированье личности. И всё это так сложно и многогранно, что при желании можно придти к выводу, что в любом случае виноваты все, а не только родители, или не виноват никто, и жизнь развивается по своим законам, против которых нельзя бороться никаким воспитанием, тем более что все мы родители, и тоже не воспитаны до такой степени, чтобы не совершать ошибок при воспитании своих детей. Цепочку этих размышлений можно продолжать. И таким образом попасть туда, где человек ещё даже не ходил в шкурах. Если он, конечно, был уже тогда человеком.
В таких рассуждениях его и застал тот момент, когда в его комнату вбежал Владик и, спросив разрешение включить телевизор, и получив его, включил ту программу, где начинался какой-то любимый им мультик. А любимых мультиков у него было такое количество, что программу эту можно было бы безошибочно включать в любой момент. И вот, посмотрев на экран не долее трёх секунд, он убежал из комнаты, толкнув случайно дедушку в плечо. И тот написал на экране монитора какое-то бессмысленное буквосочетание. А через открытую при убегании Владика дверь он услышал телефонный звонок, и потом услышал приятный ему голос Наталии, снявшей трубку и ставшей разговаривать со звонящим. Разговор продолжался довольно долго и накладывался на что-то подгорающее на кухне на сковороде. И это был такой впечатляющий образ действительности, приносящий ему радость, что назвать его иначе как счастьем, он не мог. Потом он услыхал, как Глеб скребёт сковороду ножом, освобождая, видимо, её от остатков того, что только что подгорело. И он стал записывать эти свои переживания в компьютер, понимая, что не сможет даже сотой доли передать того, что он чувствует. Но это не имело для него теперь никакого значения, почувствует ли когда-то его читатель, если таковой будет, хоть что-нибудь из того, что чувствует он теперь. Он просто не мог не фиксировать то, что чувствовал, как что-то такое, что можно характеризовать как явление большее, чем жизнь. И только понятие вечность или счастье могли приблизиться как-то к тому, что он в эти минуты переживал. Голос Наталии перестал быть слышимым, когда она взяла телефонный аппарат и ушла в свою комнату. И там продолжила разговор. Но он, едва угадывая в обшей не очень шумной тишине отголоски её разговора с кем-то там, наслаждался теми интонациями, которые содержались в этом повествовании, несущем ему не понятия, связанные с самим содержанием разговора, а те закодированные вечностью послания, что в последнее время всё яснее и чаще открывались ему, и проникали в его душу при посредстве этого великого космического инструмента - её голоса. Душа его переживала такое чувство, которое сравнить он, конечно, не мог ни с чем. И только музыку Моцарта он ставил рядом не как отражающую это его состояние, а как равную ему по силе воздействия на его душу, и дополняющую его, это состояние, ещё одним счастливейшим состоянием некогда поселившимся в нём навсегда.
Он вспомнил Паустовского. Когда-то он прочёл всего, может быть, одну или полторы странички из его рассказов о природе, где в лесу он, Паустовский, встречает деревенских женщин. И описывает их и своё состояние в неразрывной связи с природой как что-то цельное, нераздельное, прекрасное и вечное. И то впечатление, которое на него тогда произвели эти строки, он вспомнил теперь как тоже что-то очень чистое и большое, достойное того чувства, которое поселилось с некоторых пор в нём, и растёт там и в количественном, и в качественном отношении. И он подумал о том, что бренность жизни, её конечность и неурядицы в пути, неимоверно маленькая плата за то счастье, пусть хоть однажды, пусть даже на небольшой срок, пришедшее к нему, чтобы не почувствовать себя частью чего-то настолько великого и прекрасного, что в сравнении с ним даже гибель миров не кажется ему трагедией. Так как, как думал он теперь, то, вечное, всё равно останется в этой видимой пустоте и будет благотворно влиять на неё до тех пор, пока она снова не приобретёт гармонию, что и будет достойна великого чувства, чувства любви.
Как он любит их голоса!.. Особенно голоса Эвачки и Наталии. Нет, конечно, он помнил и голоса своей матери и своего отца, и низкий гортанный голос своей двоюродной сестры Тамары, которая одновременно была родной сестрой супруги известного белорусского поэта Пимена Панченко. И все они, те голоса, по-своему прекрасны. И характеризуют их хозяев. И открывают чуткому слушателю этих голосов то, что не может раскрыть ни одно даже самое тщательное досье.
Но голос Наталии возвышался над этими голосами неисправимой искренностью и внутренней добротой, которую он смог сравнить только с голосом его матери. И отец его, правда, тоже великий мученик, всю жизнь стремящийся к истине, обладал неповторимым и неподражаемым голосом, который до сих пор звучит в его сознании, хоть отца его уже нет в этом мире почти двадцать лет. Но он не мог забыть ни одной нотки этого довольно резкого и почти всегда раздражённого голоса, и, вместе с тем, несущего в себе беспокойство достойное самого благотворного покоя, потому что оно, как ему кажется теперь, не давало уснуть тогда, когда это смертельно опасно из-за внешней тревожащей и, он бы даже сказал, подстерегающей тишины.
И вот этот букет голосов источал для него такое количество оттенков и ароматов, что в этом благоухании можно продолжать жить даже тогда, когда ты не только лишён всего земного, но и, например, попал под землю взорванную снарядом упавшим около тебя, и похоронившим тебя заживо, закопав твоё тело около образовавшейся воронки, присыпавшей твой изуродованный труп выброшенной оттуда землёй. Но ты ещё слышишь те далёкие голоса самых близких тебе людей. И ты не один. И это прекрасно. Воображение твоё в сочетании с памятью не даст тебе остаться одному даже под землёй. И ты спокойно уйдёшь из жизни туда, где будешь вновь общаться с обладателями этих голосов там, в вечности.
Пати опять тоскует, выражая своё неудовольствие жалобным мяуканьем, которое больше похоже на стоны, чем на кошачью потребность высказать что-нибудь вразумительное, что было бы понятно не только человеку, но и всем остальным обитателям этого мира.
Дело в том, что уже середина марта, а ей до сих пор не предоставили друга для любовных утех и потребности организма, что и возникает у представителей её рода весной. А породы она какой-то ценной. Не просто уличная кошка. И отдать её в объятия любви вот так просто бездомным котам нельзя. Породу принято содержать в чистоте. И это уже задача не самой кошки, а её хозяев. И Наталья планирует совершить этот нужный акт. И это, как она говорила когда-то ему, произойдёт на условиях взаимной выгоды. И она взамен за эту услугу отдаст потом хозяевам кавалера одного из котят, когда они родятся от любви.
Но сейчас он слышит раздражённый голос Наталии. Она, видимо, не довольна поведением Владика. Он чаще раздражает её чем Эва. Особенно когда нужно выполнять домашнее задание. А он никак не хочет, или не может, сосредоточится на нём. И всё время, отвлекаясь, делает ошибки. А потом снова переписывает неудачную запись. И на это уходят и силы, и время. И расстройство Наталии от этого только увеличивается. Да и он от этого ничего не выигрывает. Но рассеянность его как бы оправдана возрастом, а неусидчивость является одновременно и недостатком и достоинством. Потому что человек его возраста, если он вдобавок ещё и усидчив, то это человек добровольно лишающий себя детства. А детство, это та пора жизни, где закладываются все будущие составляющие её элементы. И к ним обязательно относятся и такие, как не только подвижность ума, но и подвижность тела, от которого зависит и сексуальная сила человека. А она уже в свою очередь, развивает в человеке и ум, и стремление к успеху. Она-то и зовёт rax на подвиг. И вот о ней и надо, как казалось ему теперь, в первую очередь заботиться, когда думаешь о будущем своего ребёнка. В общем, как говорят испокон веков в народе: главное, чтобы ребёнок рос здоровым. А наклон почерка во время выполнения домашнего задания по письму не столь важен. А если и важен, то больше для учительницы, чем для самого ученика.
И вот раздражение Наталии по поводу недостаточных, как ей казалось, успехов в школе её пока ещё единственного обучающегося ребёнка, его огорчало крайне. Но высказать свою точку зрения по этому поводу он не то, чтоб не хотел. Он и высказывал её как-то, но совсем в другой приятной для них обоих обстановке. Когда они беседовали на кухне после того, как дети уже уснули, а она пришла туда покурить. Теперь же он понимал, что раздражает её не столько невнимательность Владика, и из-за этого небрежно написанные им слова, а то, более существенное и для неё, и для всех близких ей людей, что в себя включало, конечно, и то, что отец её детей принес им столько огорчений. И ему оставалось только сопереживать тайно, или почти тайно, свои чувства к ней, и уповать на то, что время, может быть, когда-то решит многое из того, что их теперь беспокоит и огорчает. И, как говорится, время поставит всё на свои места. Но и само это понятие, поставить всё на свои места, ему казалось неправильным. И, прежде всего потому, что оно содержало в себе большой процент статичности. Жизнь же хороша, как он думал теперь и считал всегда, своей не статичностью. И хоть она несёт и радость, и огорчения, но тем она и хороша, что радость возрастает многократно, когда она вырастает из покидающих вашу душу огорчений. И в этих изменениях вечно неспокойной души он видел смысл существования. И благодарил судьбу за то, что она дала ему понимание этого. И он жил.
Зашла Наталия. Дети в это время смотрели мультики и ели жареную крестьянскую колбасу с хлебом. Она села на диван и стала ему что-то говорить о том, что, видимо, два или три дня ей придётся одной, без детей, поработать в съёмочной группе ?чайницей?, и ему тогда придётся справляться тут с детьми одному, то есть забирать Эвачку из садика и с Владиком выполнять домашние задания. Но она говорила, а он её почти не слышал, используя ту редкую возможность слушать её и одновременно видеть её так близко, любуясь нужным его душе её прекрасным лицом, таящим в себе и красоту, и доброту, и ум, и нежность, и ещё что-то близкое к этому, что порой называют родством душ. Но он не мог открыто выражать ей те мысли и чувства, что бушевали в нём в это время. И он смотрел на неё так, как будто он не наслаждался довольно редкой для него возможностью наблюдать её, а слушал её по сути вопроса. Но тут же он понимал и то, что его стремление скрыть от неё его настоящее состояние, конечно же, отражается на его лице с удвоенной силой, которая и говорит ей о том, как он относится к ней, и что он считает себя не в праве быть с ней до конца откровенным даже после того, как он ей в последний раз открылся в своих к ней чувствах где-то около месяца тому назад. И с тех пор вот и пишет свои романы, как искупление за это счастье, что подарила она ему. За счастье её любить.
Она же сидит перед ним и, рассказывает ему о чём-то. А он, конечно, ничего не упускает из её рассказа, но сам в это время где-то далеко и выше. И там он наедине с ней. И, значит, и она не только тут, в этой комнате, но и там, на таком же диване, может быть, как этот. Но совсем в других заботах. И там она, видимо, думает об этом разговоре, что и послужил поводом для того, чтобы попасть туда. И не потому, что она этого очень хотела. А потому, что он сейчас без неё не может жить. А в ней душа русской женщины. И вот она, душа, и не позволяет ей остаться равнодушной к его чувствам к ней.
И вот так думая, он одновременно отвечал ей на её слова, и даже уточнял детали, и задавал вопросы там, где их можно было и не задавать. Но для того он задавал их, чтобы она не сомневалась в том, что он её всё-таки слышит, хотя и одновременно находится где-то там, где и она его тоже слушает, но совсем по другой заботе.
Потом Владик нетерпеливо вклинился в их разговор. И тут она его довольно твёрдо прервала, сказав, что когда разговаривают взрослые, надо сперва дождаться, чтобы они закончили разговор, а потом уже выражать своё мнение по тому или иному поводу. Ему же показалось, что она была с ним слишком холодна. Хотя и понимал он, что с воспитательной точки зрения она должна была поступить именно так, как и поступила. Ведь Владик вклинился в их разговор тогда, когда услыхал, что ему, может быть, придётся с Эвай всё лето провести у бабушки Иры и дедушки Сергея в деревне, если её, Наталию, на всё лето, а это не исключено, возьмут в группу работать ?чайницей?. И тут она, поняв, что была с ним слишком строга, хоть и справедливо строга (заметим тут мы от себя), стала ему более мягко объяснять, что она вынуждена зарабатывать деньги. И спросила его, может ли он вместо неё заработать их. И тут же поправилась, вспомнив, что он тоже уже зарабатывает на съёмках, как и она. И сказала, что ты, Владик, ведь тоже уже зарабатываешь. Эти слова были адресованы не только Владику, но и Эвачке, которая тоже уже не менее четырёх раз зарабатывала своим талантом. А в её способностях к игре, или в таланте артистическом, уже никто не сомневался. Не хватало пока ещё, правда, случая, который мог бы помочь ей уже в дошкольном возрасте заработать и для мамы, и для себя довольно приличные деньги, если бы случай помог её таланту быть замеченным режиссёром, и она была бы востребована в съёмке какого-нибудь фильма для детей, где и сыграла бы сколь угодно главную роль. И сыграла бы хорошо. Но, к сожалению, теперь фильмов для детей не только снимают мало, но и не снимают вообще. Почему-то считается, что урбанизированных американских мультиков достаточно для формирования характера в современном мире. А такие драгоценные бриллианты, как Эвачка, не нужны уже, и не могут найти себе оправу в кинематографе. И в этом он видел противоречие между талантом и возможностью его проявиться в наше время для более широкого круга зрителей, чем тот, в котором она жила и росла, и радовала, конечно, окружающих своей непосредственностью больше, чем огорчала. А кого и когда она огорчала, и было ли такое вообще, он не знал. Такого он за ней не замечал.
И вот теперь стоит она возле стола и ждёт, пока он закончит записывать эту фразу в компьютер о ней, об Эвачке, и уступит ей место, чтобы она нарисовала новую заставку для монитора или выбрала одну из многочисленных игр, и поиграла в неё. И именно в ту, которую она больше всего любит. В ?Погоню?. И он уступает ей место у компьютера.
Уйдя на кухню, он увидел там, на табурете, детское и недетское бельё, выстиранное недавно Наталией в стиральной машине, и теперь лежащее большой стопкой на табурете. А сама Наталия после того, как приготовила пищу и поговорила с ним о перспективе ближайших дней, пошла в свою комнату и, кажется, там прилегла, чтоб отдохнуть. Он же, встав с табурета, и уступив компьютер Эве, пошёл на кухню и по обыкновению вымыл всю посуду. А этим он занимается с удовольствием уже на протяжении не менее тридцати или сорока лет. И этот процесс ему давал всегда возможность расслабиться, а заодно и смягчить ладони рук с помощью воды, содержащей в себе жир от пищи съеденной из этих тарелок, что вот теперь он и моет.
Помыв посуду, он захотел развесить выстиранное Натальей бельё на шнуры в ванне, где висело постиранная ею другая партия белья ещё два дня тому назад. И повешенная им же на те верёвки, что были натянуты там им по её просьбе тогда ещё, когда они только перебрались сюда, в эту квартиру, которую он почему-то иногда называл своей. Хотя она, конечно, принадлежала им всем не в меньшей мере, чем ему. И им в ней придётся жить, видимо, многие годы. А ему ровно столько, сколько позволит ему его здоровье и наметит ему его судьба. Правда, человек предполагает, а Бог располагает. И тем не менее.
И вот он пошёл в ванную и стал там развешивать бельё, среди которого была и ночная рубашка Наталии, и двое или трое её трусиков довольно сексуального свойства, специально для этой цели имеющих и наружные кружева, и мелкую розовую сетку в определённом месте. И всё это навело его на мысль о том, что все мужские фантазии, и те, что, может быть, он опишет в своей книге, давно уже известны не только его будущим читателям, особенно представительницам прекрасной половины человечества, но и каждому модельеру женского белья.
Но эта мысль не заставила его пересмотреть свои планы, планы быть в своих романах как можно более откровенным по поводу желаний и фантазий подобного свойства. Наоборот. Это его только раскрепостило. И он подумал: нету ведь закона, по которому считалась бы порнографией сеточка в женских трусиках. Почему же описание той цели, для которой служит эта сеточка в женской одежде на страницах книги, может считаться предосудительным. Ведь для того мы и живём, подумал он, чтобы видеть перед собой тот идеал, который нами принят за образец. А уж что это за идеал, это у каждого своё. И навязывать свои нормы другим людям, вот это действительно порнография в самой отвратительной форме.
Через некоторое время, когда он увидел, что Наталия уже встала и сходила на кухню и в ванную, он подумал о том, что она, видимо, видела, как он развесил уже постиранную ею одежду и, может быть, неоднозначно оценила его этот поступок. Но он готов был заочно принять любую оценку ею его поступка, хотя бы потому, что сделал он это искренно и спонтанно, не думая о том, что из этого выйдет в итоге, и к чему оно приведёт. Да и, вообще, он всегда (но, может быть, раньше в меньшей степени, чем его отец) не очень считался с мнениями других, если поступал, не преследуя какую-нибудь эгоистическую цель, а просто поступал так, как не поступать не мог.
Но к этому его двойственному чувству ?влюблённого юнца? во взрослую женщину с двумя детьми примешивалось и чувство его вины перед ней за то, что он плохо воспитал своего сына. И это принёсло ей столько боли и страданий, что он счёл нужным хоть частично искупить свою вину перед ней и совершенно откровенно и даже с радостью взял бы на себя все заботы по дому, с которыми смог бы справиться. Но, во-первых, такой нужды и не было. А во-вторых, он-то взял бы на себя эти заботы, но это ещё не значит, что ему их доверила бы она, если бы и появилась такая необходимость.
Он подумал и о том, что дети вообще, и в частности её дети, способны вырасти эгоистами. И понял он, что дело в том, что перед родителями всегда встаёт неразрешимая дилемма. С одной стороны родители понимают, что детей надо воспитывать. И делать это надо вовремя и строго по определённой системе. Но с другой стороны родительские чувства им подсказывают и то, что есть что-то не менее важное, чем воспитание. И это что-то это любовь. И вот она и заставляет их прощать детям такие вещи, какие со временем и делают детей эгоистами. Но почему человеческое сердце допускает такую не рациональную вещь? А потому, видимо, что человек, пусть даже подсознательно, всегда знает, что он существо несовершенное. И когда он состарится, или заболеет, то его дети отнесутся к нему так же, как теперь относится к ним он. И их эгоизм может превратиться в свою противоположность в том случае, если их в детстве любили, и прощали им некоторые поступки. И в подражание своим родителям, они будут так же снисходительны к ним теперь, как родители когда-то были снисходительны к своим детям. И наоборот, они будут к вам беспощадны, если даже с благородной целью вы не были терпимы когда-то к ним. Но теперь, когда к вам пришло понимание того, что вы были ранее не правы, стало уже невозможно что-нибудь
изменить.
А по отношению к Денису, к которому он в своё время был более чем снисходителен в сравнении с другими своими детьми, он испытывал сейчас двойственное чувство. В благодарность за прошлое Денис радовал и теперь отца своим отношением к нему. Но, вместе с тем, он приносил боль дорогому ему человеку, его снохе, Наталии. И это сказывалось на его душевном состоянии. И таким образом эгоизм, который он вольно или невольно поощрял в Денисе, в конце концов, вернулся к нему.
Скоро весеннее равноденствие. Дни стали настолько большими, что даже когда он сегодня проснулся, за окном уже было почти светло. Тишь и благодать. По-прежнему в Испании взрываются электрички, в Ираке убивают и своих, и оккупантов. Бен Ладан где-то в горах. Или, может быть, не существует вообще. И никогда не существовал. А просто является легендой, придуманной в ЦРУ для оправдания всех бесчинств американцев, и прекрасно существует в современном электронном мире.
В Москве сегодня самое рутинное мероприятие года, выборы президента. Давно он не видел подобного мероприятия. Ещё с тех далёких времён, когда ходил он на выборы Брежнева. И выборы были безальтернативными.
Так же, как и теперь в Москве.
Мир развивается по своим некогда принятым законам. Если он вообще развивается. И только у него в душе идёт постоянная работа, несравнимая ни с какими катастрофами, что происходят там, по ту сторону телеэкрана.
Прежде всего, он постоянно думает о том, что он будет завтра писать в свою книгу. Во-вторых, его волнует тот вопрос, будет ли это интересно его будущему читателю. И, в-третьих, вдобавок ко всему, почему-то сегодня утром с трудом ему удаётся пробивать на каретке своего компьютера букву ?л?. И вот сейчас, прежде чем заключить в кавычки абзац с обращением к читателю, ему пришлось держать палец на клавише в течение одной-двух секунд, прижимая его с гораздо большим усилием, чем это надо было бы сделать, если бы он захотел этим пальцем открыть наружную дверь их квартиры, которая не совсем легко открывается, так как она несколько перекосилась, как бы подражая пропеллеру. Или решил бы он войти в комнату к Наталии, хотя дверь туда открывается совершенно легко. Но в этом случае он имеет в виду то усилие души, которое потребовалось бы ему применить, чтобы туда войти. Ведь он себе этого не позволяет никогда, так как знает, что это, может быть, последний островок, где она себя чувствует независимо.
И вот он принимает решение выключить компьютер и попробовать через некоторое время включить его опять. В подобных случаях, когда он, компьютер, барахлил иногда и ранее, ему удавалось таким способом избавиться от поломки.
И он его выключает.
Отключив компьютер, он начинает колдовать над кареткой. Он не пытается разобрать каретку, хотя сделать это довольно нетрудно. Но он переворачивает её и вытряхивает оттуда пыль и какие-то волоски, и даже кристаллики сахара, и другие мелкие, и побольше, частицы. Конечно же, они не должны участвовать в процессе написания книги. Перебирая по клавишам пальцами, и держа в это время каретку по-прежнему перевёрнутой, он добивается того, что оттуда выпадает ещё некоторое количество этих посторонних вещей. Но потом выпадение практически прекращается. И он тут вытирает тщательно стол, на который они падали, и в надежде на положительный результат включает компьютер снова. Пока компьютер загружается, он ждёт, и в уме сочиняет ту фразу, которую он впишет после того, как компьютер позволит ему это сделать. В ней он скажет о том, что его действия дали положительный результат. Но на самом-то деле это оказалось не так. И буква ?л? по-прежнему не спешит появляться на экране. А если и появляется, то, как правило, не одна. А вдвоём или даже втроём, если подержать подольше прижатым плотно палец к клавише, под которым она и находится. Это настолько усложняет написание фраз, что не даёт ему возможности следить за мыслью. И он, в конце концов, решает попробовать писать, не обращая внимания на поведение буквы ?л?. Но в этом случае экран сразу заполняется таким количеством подчёркнутых красной чертой слов, показывающей, что слова эти написаны с ошибками, что он и
на этот вариант в душе не соглашается. Ведь потом ему придётся очень долго приводить текст в порядок. Но зато мысль он в таком случае сможет не прерывать для того, чтобы посмотреть на экран, и исправить там вкравшиеся таким образом ошибки. И, в конце концов, он сдаётся и поступает таким образом, что мысль ему не приходится прерывать в угоду правописанию. Пусть, думает он, и выглядит его текст некоторое время абракадаброй, но зато он всё-таки может сочинять. Так как пальцы его уже привыкли к определённому способу творческого процесса. А он до сих пор заключался в том, что хозяин этих пальцев подавал им какие-то условные сигналы, и они в свою очередь выполняли должные ему, хозяину, движения. Во всём этом процессе участвовали ещё и глаза. Но глаза смотрели только на каретку. Так как он не был профессиональным компьютерщиком, и не умел набирать текст, не глядя на клавиши. И вот таким образом, набрав текст, который и включал в себя вот эти строки, что вы только что прочитали, он взглянул на экран и ужаснулся. Экран весь был испещрён красными линиями, подчёркивающими те слова, в которые вкрались ошибки. И тогда он огорчённый и почти в отчаянии стал бороться с ними.
На это ушло минут семь-восемь. И это его расстроило. И огорчило настолько, что он решил ещё раз отключить компьютер и попробовать на это раз раскрыть каретку и заглянуть внутрь. Может, он там увидит и устранит причину его огорчений. Но в это же время вбежала в комнату Эва и принесла Пати. И ему стало настолько легко, что он не захотел больше вообще обращать внимание на букву ?л?, и стал писать о том, что к нему пришла его любимая внучка Эвачка. Она же в свою очередь попросила его позволить ей поиграть на компьютере. Но он ей не разрешил, так как видел, что он и так не вкладывается в те сроки, которые он сам себе наметил для того, чтобы написать обо всём том, что его теперь волнует. И тут Эва попросила его, чтобы он позволил ей сесть ему на колени, а он пусть продолжает свою книгу, если ему так хочется. И он согласился. И тут ему стало писать ещё трудней ещё и потому, что она всё время вертелась у него на коленях, и сбивала его пальцы с клавишей, и, вдобавок ко всему, она в это время ела семечки, и шелуху складывала тут же на стол, перед кареткой. И ещё периодически она просила его почесать ей спинку, и мотала игриво головой. И даже замечала, что в тексте, появляющемся на экране монитора, иногда возникает её имя. А она к этому времени знала уже много слов, среди которых, конечно, было и её имя, и имена всех её родных и знакомых. И вдобавок ко всему она, поворачивая голову всё время в разные стороны, щекотала ему подбородок, и он просто не мог этого больше терпеть, и постоянно чесал подбородок и щёки рукой, часто отрываясь от процесса, который и так шёл у него из рук вон плохо. Но его больше это не волновало. И не волновало его уже и то, что буква ?л? ведёт себя по-прежнему непредсказуемо. Но радовало его другое. Его радовало обстоятельство, в котором ему больше не надо было придумывать никакого содержания для своей будущей книги. И если бы вдобавок ко всему ещё и не барахлил его компьютер, подумал он, он бы мог сейчас написать достаточно много страниц, не задумываясь над тем, понравятся ли они когда-то его предполагаемым читателям, или нет.
Но тут мама Эвы включила пылесос. А ему показалось, что это Глеб включил сверло, так громко и мощно он заработал. И когда он усомнился в том, что это гудит пылесос, Эва слеза с его колен и убежала, чтобы проверить так ли это. Но оказалось, что это действительно пылесос. И Эва к нему больше не вернулась. А он к этому времени уже стал приспосабливаться к барахлящей букве ?л? и почти безошибочно вписывал её в нужное время и в нужное место, нажимая клавишу не сверху вниз, а несколько справа и под углом, надавливая пальцем на угол клавиши, и задерживая это давление до тех пор, пока злополучная буква не появлялась на экране. И, убирая одну из них, если их появлялось сразу две, он продолжал сочинять. От этого процесс замедлялся раза в три, но он не видел другого выхода, и всё больше и больше смирялся с подобным положением вещей. И во время нажатия злополучной клавиши научился переносить взгляд на экран.
Надежда на то, что эта буква, наконец, начнёт себя вести лучше, в нём таяла с каждой минутой. Но появлялась надежда, и это он знал из прошлого опыта всей своей жизни, что он со временем привыкнет к этому дефекту, и практически перестанет его замечать. И он, этот дефект, перестанет мешать ему в работе. А он сам автоматически научится принимать нужное решение тогда, когда злополучная буква будет представать пред его внутренним взором как объект повышенного внимания. И он научится вписывать её в слова так быстро и безошибочно, что не только текст его перестанет быть испещрённым красными линиями, но и сама эта буква сдастся, наконец, и станет себя вести так, как ей и подобает вести себя, то есть нормально, ничем не отличаясь от других букв.
И тут он прервал свои рассуждения на этот счёт, увидев, что он уже действительно справляется с буквой ?л?, как он только что и писал об этом. И его, понял он, не раздражает уже она, и почти не мешает ему появляющуюся мысль вписывать в текст.
К тому же, рядом, на другом столе в его комнате, Эва так бойко стучала большой ложкой по тарелке, в которой было что-то съедобное, что он не удержался и спросил у неё, что она кушает, не макароны ли с молоком. И она ему ответила, перестав на время подносить ложку ко рту, что нет, это не макароны, а кукурузные сладкие хлопья с молоком. И ещё она рассказала ему, что они скоро пойдут в гости, где живут две чёрненьких девочки, одну из них она даже может поднять, такая та лёгкая, и что они возьмут с собой и кошку Пати туда, в гости.
И потом, поев, она пошла бродить по комнатам в то время как Владик справлялся где-то не совсем охотно с математикой.
Через некоторое время Эва вернулась
вместе с Пати.
И вот Владик, на время освободившийся от уроков, тоже пришёл сюда, в его комнату, где уже находились Эва и Пати. И они стали дрессировать её. Не Эву, а Пати, заставляя её прыгать через пояс от маминого тёплого халата. Потом мама опять позвала Владика, видимо, продолжать выполнять уроки, накопившиеся за эти дни, когда он не ходил в школу в связи с ангиной.
Но вскоре, покончив с уроками, она, Наталья, собралась вместе с детьми, и они пошли в гости, сказав ему, что они будут дома часов в шесть. И если кто-нибудь будет ей звонить, чтобы он сказал звонящему об этом. И он сказал ей в ответ, что он уже знает от Эвачки, что они идут в гости, и пожелал им всем всего хорошего.
Когда они вышли, он не удержался и быстро пошёл в Алисину комнату, чтобы там, через окно ещё раз увидеть их в том положении, когда они его не видят.
Сначала появилась Эва. А за ней Владик. И когда появилась в поле зрения Наталья, душа его
затрепетала как овечий хвостик.
Он наблюдал её довольно стройную фигуру абсолютно молодой ещё женщины, которую он с высоты своего возраста принимал за школьницу старшеклассницу, и волновался оттого, что движения её вызывали в нём что-то большее, чем любование любимой им женщиной. В ней было что-то иное, что говорило ему о том, что в ней бушует какая-то неимоверная сила страсти, почти стихийная, и далеко не удовлетворённая ни в её довольно бурной молодости, ещё до замужества, и ни потом, когда она вышла замуж за его сына Дениса. И эта в ней скрытая сила любви наполняла все его сексуальные порывы к ней, и он был растворён в этом чувстве, наложенном ещё и на бушующую вокруг них раннюю весну. Бушующую не в том традиционном в русской литературе смысле, когда деревья уже налились соком или полны первой молодой листвы, и под тёплым весенним ветром рождают, особенно по вечерам, приятный шум. А в том смысле, что зима уже окончательно сдалась, и где-то бушуют потоки проснувшихся, или просыпающихся рек, не устоявших перед силой солнечных лучей, падающих в них уже с такой высоты, что наблюдателю приходится высоко поднимать, или запрокидывать вверх, голову, чтобы видеть солнце.
И вот, провожая их взглядом, пока они не зашли за угол дома и не стали для него не видны, он размышлял подобным образом. А потом он не пошёл к компьютеру, хоть ему и очень хотелось это сделать, и записать своё впечатление и от её голоса, когда она обращалась к нему (а он всегда с большим желанием ждал такой минуты), и от её походки рвущейся к какой-то неизвестной ни ему, ни ей цели. Но, видимо, цель эта не была известна никому. А была только неумолимая потребность в движении вперёд. А может быть, ничего этого и не было вообще, и всё это только плод его болезненной фантазии. Но это не меняло сути. Фантазия бывает намного реальнее самой реальности, если она рождена чувством любви.
И вот он опять на кухне. Всё здесь дышит ею, Наталией. И озарено её заботой о физическом и нравственном здоровье её детей.
Вот в чашке недоеденная Эвелиной каша из кукурузных сладких хлопьев высшего качества, размоченных в молоке или в сливках, что Наталия недавно привезла от мамы. Вот лежат на большой прозрачной тарелке обжаренные ею небольшие рыбки. Видимо, салака. Некоторые из них полу съедены и соединены головами через объединяющие их объеденные туловища. Большинство же из них ещё целы, и источают приятный запах подсолнечного масла. И всё это ему так дорого, что он просто чувствует физическое присутствие Наталии в каждом хвосте и в каждой голове салаки, смотрящей на него её большими и круглыми газами. Потом он обращает внимание на стиральную машину, что прямо здесь, на кухне, почти вмурована в стену и в пол, и видит, что дверца в неё уже приоткрыта. А там он видит через прозрачное окно этой дверцы очередную порцию постиранного белья. И он, как и позавчера, только на этот раз уже не задумываясь, делать это ему или нет, вынимает бельё из машины, и несёт его в ванную комнату. И там, сняв предыдущую порцию белья с верёвок, что уже высохла, и отнеся её в комнату Наталии,
развешивает новое бельё на верёвки.
В его руках то брючки Эвелины, что вызывают в нём нежное чувство, то очередные, ещё более нежные, прозрачные и поражающие его своей сексуальностью, трусики Наталии, что в нём опять же вызывают нежное чувство к ней, но уже не к Эвелине, а к Наталии. И он тут думает о том, что для одного этого, что он сейчас чувствует в своей душе, стоило и родиться, и пройти через всё то, через что ему пришлось пройти. А там было и плохое, и хорошее. А вот уже он держит в руках красные лёгкие брюки, в которых ещё вчера она, Наталия, сидела в своей комнате у телевизора в кресле в такой позе, что он, проходя из кухни в свою комнату, и мельком увидев её, не может до сих пор забыть ту, запечатлённую в его сознании, картину в форме цветной фотографии. И как ему теперь кажется, где-то рядом тут и сейчас находится она, но без этих брюк. А он их, влажные и прохладные, в это время вешает на верёвку. И делает это так старательно, так бережно и долго, чтобы продлить нежную радость общения с ней. И ему кажется тут, что он сливается с Наталией взглядом и телом посредством прикосновения к тем предметам, к которым недавно прикасалась она. И которые хранят в себе ту информацию, что, попадая к нему, обретает уже почти ощутимую сущность в форме Наталии, если так можно сказать об этом. Затем он заглядывает в холодильник, из которого вчера ещё кормила Эвелинку Наталия домашним творогом, что тоже привезла она от мамы. А он, творог, хранился в морозильнике, положенный им же в тот день туда для хранения и употребления в пищу с горячим чаем. Но его на днях Наталия достала из морозильника. И из части его, предварительно разморозив весь кусок, сделала сырники. И постепенно они были съедены. Или их почти съели. Несколько последних доел только что он.
Но творог, что стоит уже несколько дней в холодильнике размороженным, хоть перемешан он с определённым количеством сахара, всё-таки стал уже немного горчить. И когда вчера Эвелина не доела всю порцию, что он щедро положил ей, когда она попросила его чего-нибудь поесть, а мамы дома не было; так вот, когда она не смогла доесть этот творог, и он помог ей доесть его, он понял, что его, творог этот, больше в таком варианте держать нельзя. А он был человеком патологически не выносившим гибели продуктов, потому что всегда чувствовал (и это чувство у него сохранилось с детства), что где-то есть люди умирающие в это время от года. И вне зависимости от стоимости продукта и его количества он глубоко переживал, если продукт портился. И вот тут он взял этот творог, добавил в него муки и сахара и, приготовив тесто для сырников, поджарил их на двух больших сковородах, заполняя сковороды, дважды этими полуфабрикатами, которые он только что изготовил из начинающегося портиться творога. И когда он съел один сырник, он не почувствовал больше никакой горечи. И эту большую тарелку свежих сырников он поставил на самое видное место одного из двух кухонных столов; рядом с газовой плитой, где он их и готовил. А жареную рыбу он поставил в холодильник. Ещё в холодильнике в трёхлитровой банке было определённое количество домашних небольших и очень вкусных огурчиков, тоже привезенных Наталией из дому. Но они сутки или двое простояли на кухонном столе открытыми. И хотя он их потом поставил опять в холодильник, рассол, в котором они плавали, уже забродил. А потом и покрылся пищевой плесенью. А это чревато тем, что и сами огурцы могут потерять свою твёрдость, а вместе с ней и качество. А могут даже и начать загнивать. И тогда он вынул из холодильника эту трёхлитровую банку, что по высоте с трудом залезала на полку, и под проточной водой из крана промыл огурцы и порезанные ветки укропа, и кусочки сырой морковки, и кусочки лука и чеснока, слив предварительно старый рассол. И потом переложил их в две чистые литровые
банки, одна из которых была даже с завинчивающейся крышкой. И, приготовив новый соляной раствор в холодной кипячёной воде, взятой им из чайника, залил огурцы этим рассолом, добавив ещё туда чуть-чуть пищевого уксуса. И поставил обе банки в холодильник. Кроме того, он выбросил из холодильника, один пакет с остатками молока, открытый настолько мало, что из-за отсутствия в самом пакете достаточного количества воздуха молоко это задохнулось так, что им можно было бы и прилично отравиться, если бы выпил его даже он сам. Хотя желудок у него был железный по сравнению с нормальным желудком средне статистического человека-едока. А из второго пакета с молоком отравиться ни в коем случае ещё было невозможно. И вот его он, это молоко, и перелил в пол-литровую стеклянную банку, и поставил тут же её в холодильник на полку. Кроме того, там, в более низком участке холодильника, находились три двухлитровых пластмассовых бутылки, как принято их называть, от кока-колы. А в них соответственно были сметана, свежее молоко и свежие сливки, тоже привезенные Наталией от мамы. Но и они не могут храниться вечно в таком состоянии. И это его тоже тревожило. Но тут он ничего не мог поделать, кроме как предлагать детям иногда горячий чай с молоком или со сливками. И когда они соглашались на его предложение, он в чай старался влить столько молока, что это уже был не горячий чай с молоком, а тёплое молоко, или сливки, с сахаром и водой. И таким образом он споил им часть скоропортящегося продукта. Правда, иногда он и сам прикладывался немного к этим бутылкам ещё и потому, что в них были любимые им с детства продукты, и потому, что он знал, что испортятся они гораздо быстрее, чем будут съедены детьми, если даже он будет им их навязывать и подсовывать, и предлагать ещё более активно, чем он это делал сейчас. Да и не уверен он был в том, что они употребят их, этих продуктов, больше, если он чаще им будет их предлагать. И это случится ещё и потому, что еды им, в общем, всегда хватало. И если им чего-нибудь из еды и не хватало, или в чём-то они видели перебои, так это, к примеру, в каких-нибудь жвачках, или ещё в чём-нибудь, что и едой назвать в обычном смысле этого слова нельзя. В его детстве такого почти не бывало. В то время такие вещи, о которых тут идёт речь, назывались не едой, а недоступной и недостижимой роскошью. Но это уже совсем другой разговор.
Вчера вечером, ложась спать, или, вернее, когда он уже лёг. И лёг не спать. И он это знал. Хотя спать ему, конечно, тоже хотелось. И это он обычно остро чувствует, когда ложится довольно поздно даже по его меркам. Так вот, задремав на мгновение-другое, чтобы нервы его, получившие определённое напряжение за день, расслабились, он ушёл в забытье. И таким образом привёл себя в состояние, которое и является состоянием, предваряющим половую радость.
И тут, поспав минуту-другую, он проснулся и постепенно приступил к так милому его душе занятию. И надо сказать, что и так необходимому ему занятию, так как, как мы уже неоднократно писали ранее об этом, он нуждался в постоянном ежедневном удовлетворении этой функции его организма, если говорить нарочито казённым, а не изящным языком о предмете величайшей силы и радости из всего того, что удалось создать природе в человеке и для человека. А проще говоря, он нуждался в сексе. И вот он подумал уже вторично (первый раз он подумал об этом на днях), что если после удовлетворения этого чувства с женщиной мужчине не лучше, чем до удовлетворения его, или во время удовлетворения, то это не любовь.
Кроме того, постепенно распаляясь, и всё яснее чувствуя на себе взгляд Наталии, которая производит те же действия и те же движения с ним, какие производила буквально полчаса тому назад какая-то актриса в каком-то неплохом фильме, показанном по телевизору, он подумал и о том, что если бы он поступил иначе, и не спал каждую ночь с Наталией в своём воображении, когда она в это же время находится тут, рядом, за стеной, у которой он и лежит, а как ему пришло в голову на днях, дал бы объявление не в газету, а разместил бы его на троллейбусных остановках их района, которое содержало бы в себе соответствующие слова, не дожидаясь того счастливого времени, когда Наталья, в конце концов, придёт к нему сама, то он бы был, как ему думалось, обеспечен каждую ночь настоящим сексом, а не сексом с воображаемой партнёршей. Но, правда, он не был уверен в том, что для него было бы лучше. А объявление он хотел дать следующего содержания:
?Жду каждый вечер женщину очень желанную и желающую близости со мной. Возраст не имеет значения. Фигура имеет значение. Мой адрес: ?гор. Минск, ул. Чайлытко, дом 16, кв. 142?. Приходить в 11 часов вечера, когда внуки уже спят?.
Мысленно развесив это объявление на троллейбусных остановках, он стал ждать первую посетительницу. И она пришла. Это была женщина средних лет. Довольно крупной фигуры. Озабоченная, конечно же, как и он, в этом смысле.
И вот она разделась в полутьме, или явилась к нему уже раздетой, этого он не помнит. Но помнит он, что он её не встречал, а продолжал лежать на спине, и на нём сидела в это время Наталья и производила продольные движения по
его члену своей нанизанной на него прекрасной фигурой. Но, вместе с тем, он в это время мысленно и воочию наблюдал пришедшую к нему женщину, стоящую недалеко от его кровати на фоне окна, за которым, как он теперь видел, висела полная круглая луна. Мысленное и зрительное виденье чёрного пушка волос чуть-чуть выше того места у Наталии, где он, как говорят, не мог быть бесстрастным, вызвало в его голове желание и необходимость сочится. И, сочась, он окутывал себя в непостижимо гладкую плазму, от которой поверхность его становилась настолько гладкой и скользкой, что в свою очередь вызывала прилив небольших порций подобной плазмы там, где всё больше и больше приближалось мгновение, когда он уже не сможет следить ни за собой, ни за той женщиной, что стояла обнажённой рядом с его кроватью и ждала своей очереди. И вот подошёл тот момент, когда он уже не знал (и не мог знать, так как в этот миг всё для него исчезло, и сознание его, как говорят, затуманилось). Так вот, не знал он теперь, с кем он сейчас, с Наталией или с той женщиной. И не знал он этого ещё и потому, что никак не мог представить себе подлинную Наталию столь страстной и неуправляемой, какой была та Наталия, с которой он сейчас и завершал процесс. Но пока женщина, что стояла перед ним, не была с ним близка, она была им желанна. А когда всё закончилось с Наталией, и он только представил себе, что на нём сейчас будет не Наталия, которую он безумно любит, а эта вот крупная и только что как бы желанная им женщина, как он захотел, чтобы она быстрее ушла. Да и вообще в такие мгновения, после полного удовлетворения, над ним тяготело обычно чувство, увы, противоположного свойства в сравнении с чувством, что было в нём до удовлетворения страсти, или в момент его. Вернее, в момент получения самой вот этой радости. Ему теперь стало даже думать страшно, что он должен после всего, что произошло, ещё и провожать вот эту женщину, пусть даже только до двери их квартиры. Провожать женщину далеко не близкую ему, как близка ему Наталья. В такие минуты он признавался себе, или почти признавался, что женщины ему, видимо, совсем не нужны. Но тут он вспомнил тело его жены Ларисы, которое отзывалось в нём на каждое прикосновение его к нему, к этому телу. И пусть не всегда положительно, но всегда неся большую информацию о себе. И он понял, насколько это всё было богаче даже самого страстного и прекрасного онанизма, пусть и с воображаемым до мельчайших подробностей дорогим тебе человеком. Но это всегда подделка. И она только тогда терпима, когда нет реальной взаимной близости любящих друг друга людей.
Сегодня уже пятнадцатое марта. А у него набрано только тридцать три страницы печатного текста второго тома. Правда, страницы гораздо большие по площади, чем в первом томе. И для написания всей книги их ему понадобиться не сто пятьдесят, а только сто двадцать. Но всё равно он должен торопиться. Ему не терпится написать хотя бы три тома, чтобы в случае чего представить их себе, а может и Наталии, как маленькую трилогию. Ну, уж брату он, конечно, даст их почитать, если у того найдётся свободное время для этого занятия. И так круг его читателей увеличивался в худшем случае до двух человек, что, конечно, с удовольствием примут от него его книги, но прочесть их в ближайшее время сможет, может быть, только Наталия. И то это будет в том случае, если Владик закончит свой первый класс, и она освободится от части забот связанных с детьми, отвезя их на лето к родителям. Но всё равно он собой доволен хотя бы потому, что ему уже удалось буквально на пустом месте написать один том, который он пока не хочет перечитывать как цельное произведение и старается даже забыть, о чём там идёт речь в подробностях, и полностью теперь сосредоточен на написании второго тома. И если ещё позавчера его по утрам волновал вопрос, о чём писать, то теперь его больше волнует вопрос, как писать, пропуская неправильно написанные слова с буквой ?л? или сразу приводить их в надлежащий вид. И он выбрал второе. И вот уже на протяжении, может быть, пятнадцати минут пишет эти строки, что вы и прочитали с того места, где он начал писать с ближайшей красной строки. И указал он там на то, что сегодня пятнадцатое марта 2004 года. Понедельник.
Наталии дома нет. Детей тоже. Вчера Наталия, готовя с Владиком математику, очень нервничала, и позволяла себе громко и даже оскорбительно на него кричать за то, что он, как всегда, был во время выполнения домашнего задания рассеян. Но злилась она, видимо, больше не потому, что он был рассеян и допускал ошибки в тетради, а потому, что она сейчас в таком состоянии, что самой ей нужна, прежде всего, помощь, или просто деньги, которые Денис должен давать на детей. А он их или не даёт последнее время совсем, или даёт так мало, что ей самой нужно искать пути решения этой извечной проблемы - где взять деньги. Киногруппа, которая пригласила её в качестве ?чайницы? на два дня, пока отсутствует основная ?чайница? в связи с похоронами кого-то из её родственников, не решает проблемы. А если и решает её, то на какую-нибудь неделю, не более. И то вряд ли. Так как ей нужно ещё платить и за спутниковый телефон, к которому она и привыкла, да и Владик привык звонить ей по своему телефону, беспокоясь за неё, когда ему покажется, что её слишком долго нет, и ему нужно удостовериться в том, что с мамой всё в порядке, и можно продолжать дальше смотреть мультики в присутствии дедушки и Эвелинки, и небрежно выполнять домашние задания, не придавая почему-то учёбе должного внимания, не поддаваясь ни на какие уговоры и увещевания взрослых. А учится он в экспериментальном классе, где собраны дети с некоторыми повышенными способностями. И там даже нередко приходится что-то платить, что не делается родителями в обыкновенных классах. Но и обучение, правда, там такое, что при всей небрежности выполнения Владиком домашних, да и классных заданий, дедушка видит, что Владик уже обладает такими знаниями, какими не обладал он, дедушка, в своё время даже в четвёртом классе, а не в первом, хотя и был тогда почти круглым отличником.
И вот, думая теперь о том, что Наталия вымещает всю свою досаду на ни в чём неповинном сыне, он вспомнил те слова, что она на днях говорила его сыну и своему мужу, когда тот поднял на неё руку. Она говорила, что он этим только показывает свою слабость. И вот так же и она теперь от слабости ведёт себя с Владиком так, как вёл себя с ней её муж, его сын. Более того, его, дедушку, огорчает и то, что она не понимает всего того, что в своё время не понимал и он, когда, занимаясь со своим старшим сыном Глебом, хотел решить проблему волевым способом, если тот также был порою, и, даже тут будет уместно сказать, часто бестолков. Но это ведь не помешало ему, Глебу, когда он подрос, и особенно когда для этого появились соответствующие условия, то есть необходимость, показывать в учёбе, да и в работе, достаточные результаты, чтобы не иметь упрёков со стороны старших.
Наталия же этого не учитывает, чего в своё время и не учитывал он. И не понимает она этого теперь, когда по возрасту и по жизненному опыту ей и полагается этого ещё не понимать. Но ей кажется важным то, чтобы Владик уже теперь готовил себя к жизни. Ему же, Владику, так не кажется. Ему чертовски хочется нагуляться. Как, между прочим, и его дедушке хочется этого и до сих пор, И хочется всё больше и больше. Да и Наталии хочется того же, чего хочется и им. И вот как у неё не стало такой возможности, гулять, она и стала теперь предъявлять к Владику повышенные требования. Но добиться она хочет своей цели, к сожалению, не теми методами, какими можно её добиться, этой цели. И вообще в жизни ничего нельзя добиться без терпения. И в этом случае тоже. А не криками и, что постыднее всего, оскорблением и унижением того, кто слабей тебя, и не может тебе ответить тем же.
Но сказать об этом Наталии он, дедушка, не решается потому, что любит их всех, и в данном случае ещё и щадит её самолюбие. Да и сама она, конечно, понимает, что она больше не права, чем права. И, чувствуя это, Владик ей прощает многое. И всё-таки, когда, сделав, наконец, уроки, он играл или баловался с Эвачкой, он чувствовал, что внутренне он подавлен и унижен тем, что он как бы тугодум или слюнтяй, каким его в один из своих последних приходов назвал его отец и дедушкин сын Денис. И тогда, в тот раз, Наталия не на шутку обозлилась на Дениса, и высказала ему всю правду по этому поводу. Она сказала, что поступает он так потому, что чувствует себя растерянным, и проявляет, таким образом, только свою слабость. И дедушке, беседуя с ним на эту и другие темы, она тоже тогда сказала об этом. И рассказала, что раньше и она злилась на Владика за его несерьёзное отношение к учёбе. Но потом пересмотрела свою позицию, и теперь старается как-то ему помогать в этом вопросе, а не просто требовать результатов. И дедушка с ней был в этом согласен. И сам при случае занимался с Владиком не только терпеливо, но и с предельным, как ему казалось, уважением к внуку, как к личности. И Владик, видимо, это чувствовал, и отвечал ему тоже повышенным вниманием к изучаемому ими в это время предмету. И Наталье это нравилось. Но одновременно она видела и то, что дедушка взялся за очень трудную и ответственную для него работу, взялся он за написание десяти романов за очень короткий срок. И поэтому, как он стал последнее время замечать, не очень позволяет детям мешать ему это делать. Сперва ему даже показалось, что она к нему, может быть, охладела и как к дедушке её детей, и как к её одному из ближайших родственников. Но он быстро отогнал от себя эту мысль, прежде всего потому, что и дети тянулись к нему, и он тянулся к ним. И, как она видела, в таком случае у него всё меньше оставалось времени для написания того, что он задумал. Тем более что она видела, что и по ночам он больше не спит, чем наоборот. И она, видимо, думала, что делает он это потому, что днём, особенно во второй половине дня, когда Владик приходил из школы и включал в его комнате телевизор, ему не хватало времени для творчества. Но это было не так. Дело обстояло иначе. Дело обстояло так, что только при условии, когда жизнь в их семье будет идти произвольно, ему будет о чём писать. И только в этом случае его книги будут восприниматься будущими его читателями как жизненные, а не как дешёвая подделка под жизнь. А по ночам он не столько занимался творчеством, сколько занимался просматриванием телевизионных любимых им передач, смотреть которые так часто не разрешали Владику. И вот таким образом и развивались события. И сейчас, когда он стучит по клавишам, он замечает, что буква ?л? всё чаще и чаще выбивается правильно, без излишних стараний с его стороны, чтобы она появилась на экране монитора одна, а не вдвоём, или даже втроём. Или вчетвером. И это его настроило на оптимистический лад.
И он решил, что сразу как Владик придёт из школы, он прекратит своё печатанье, и попробует с ним как можно безболезненней и как можно лучше выполнить хоть часть домашнего задания. И постарается он проявить педагогический такт. Ведь он теперь понимает, как нужно воспитывать детей. А своих детей он воспитывал, наивно считая, что дети видят как он живёт, и будут ему во всём подражать. А они и не видели этого, и, тем более, не подражали ему, а жили и воспитывались так и тем и там, где влияние на них было таким, каким оно им и подходило по их внутренним наклонностям к тому или иному роду деятельности в тот момент их жизни, а не навязывалось как что-то очень важное, а предлагалось как игра, в которой, конечно, должен содержаться и элемент соперничества, и элемент риска, так необходимые душе молодого человека, в том числе и душе ребёнка. И они выросли такими, какими выросли. И Наталия в этом смысле, как он думал теперь, была тоже не исключением.
За окном весна. Но уже не та весна, что была вчера. Солнца нет и в помине. И грустная задумчивая осень вполне сравнима с этим состоянием сегодняшнего дня. Снег лежит молчаливым убывающим и тяжёлым пластом на готовой уже проснуться земле. И она, земля, ждёт, когда он окончательно, но теперь уже в отсутствие солнца, незаметно медленно растает. И пойдут процессы. И, как говорится, земля оживёт.
Но описывать дальше природу ему расхотелось. И, выдав такую, в большей степени шаблонную картину природы, чем прочувствованную, он, как ему казалось, вовремя остановился, чтобы не доводить дело до смешного, так как не был сейчас в том состоянии, в каком иногда бывает, когда ему действительно хочется любить каждый ручей и каждого ползущего вдоль него жука, спасающегося от стихии. Правда, вчера, когда он делал сырники, и после завершения процесса убирал со стола, стирая его от слоя муки, в котором раскатывал тесто для сырников, он частично просыпал муку на пол. И когда он протирал эту часть пола половой тряпкой, он нечаянно раздавил там микроскопическое насекомое, что появилось неизвестно откуда, и не успело скрыться под днищем кухонного шкафа. И ему стало обидно и больно оттого, что он вот в такую минуту, когда душа его пела от счастья, лишил это существо жизни. И вот описание этого момента теперь, а не вчера, связано с тем, что вчера он не мог даже себе позволить по следам своего преступления описывать его. Сегодня же, немного успокоившись, и в связи с этим взглянув на проблему философски, он может об этом писать. Но описывать грусть природы за окном он не будет. Хотя в своих стихах он не раз уже её воспевал, находясь в то время действительно в состоянии грусти и подлинной любви к такому чувству в себе и в природе.
И тут он вспомнил одно из менее удачных, как ему казалось тогда, но искренних, своих стихотворений о природе.
Осень.
В тихий осенний вечер,
Перед осенним дождём,
С трепетом первой встречи
Все мы чего-то ждём.
Листья с холодным хрустом
Падают на тротуар.
Сердцу взволнованно грустно,
В сердце осенний пожар...
С трепетом первой встречи
Перед осенним дождём
В тихий осенний вечер
Все мы чего-то ждём.
Дальше он не стал вспоминать. Ему хватило и этих строк, чтобы возродить то состояние души, в котором он когда-то писал это стихотворение. Он любил иногда возвращаться в ту обстановку и в то настроение, в которых он был тогда, когда писал то или иное стихотворение, если он его вдруг вспоминал или перечитывал из своей книги уже теперь, по прошествии, может быть, тридцати, а то и сорока лет после того, как оно было написано им.
В подражание лучшим поэтам он тоже стал лучшим поэтом. Но, к сожалению, к этому времени закончилась эпоха изящных искусств.
Сегодня ночью, наконец, к нему пришла Наталия. И первое, что она попросила, так
это чтобы он сперва сходил в душ. Но он принял противоположное решение. И сходил туда после. И сходил туда после вместе с ней. И там они, увидев друг друга после, пришли к выводу, что совсем и не зря они встретились тут обнажёнными и не насытившимися ещё друг другом в достаточной мере. И тут они после и во время душа повторили то, что они сделали до того в постели. И оказалось, что и этого мало. И тогда уже они, наслаждаясь друг другом, стали намыливать те места, которые сами намылить себе не могли, так как находятся они, эти места, не там, а совсем наоборот. Они мылили друг другу спины и одновременно не могли быть безразличными и ко всем остальным частям их одинаково молодых, как им казалось теперь, тел. И это было так хорошо и так неожиданно для него, что он подумал, не сон ли это. Но, ощупав себя, и даже легонько ущипнув за руку, он понял, что это не сон. И тогда он стал целовать её в её прекрасные влажные губы и обнимать её далеко не осиную талию. Но ниже талии он нащупал то, что, как ему казалось в этот миг, теплее и прекраснее, чем та часть её тела, что называется талией. Если не считать, правда, её губ, которые были не менее прекрасны, чем её бёдра. И он снова подумал о том, не сон ли это.
И тут он проснулся.
И каково было его удивление, когда он увидел в полумраке ночи, что она действительно стоит теперь перед ним, но одетая, и не предлагает ему пойти в душ, а спрашивает его, не сходить ли им сперва в душ, а потом уже... И тут он подумал, что и это всё тоже как-то странно. Но на этот раз он уже не сомневался в том, что это не сон, и привлёк её молча к себе и стал целовать в губы, одновременно помогая ей снимать с себя верхние одежды. И когда дело дошло до трусиков, он на ощупь понял, что это были как раз те из них, что он буквально вчера держал в руках, когда развешивал в ванне постиранное ею бельё. И он удивился тому, что трусики эти столь же прохладны теперь, какими они были в тот момент, когда он их взял из общей стопки постиранного белья и вешал на верёвку. И тут подумал он, что, может быть, и никакой Наталии с ним сейчас нет, а это просто память, сохранившаяся в виде ощущения, повторяется в его задремавшей руке. Потому что он очень желал этого. Но рука его тут же потянулась к её уже обнажённой груди и почувствовала совсем другое, более тёплое тело. Она, его рука, чувствовала что-то настолько упругое, и в то же время мягкое, что он прижал эту роскошь к своим губам. И потом, нащупав сосок, стал его сжимать и перекатывать губами, от чего вся она, Наталия, а не грудь её, ожила и устремилась к нему с ещё большей страстью. И прижалась к нему тем местом, о котором он здесь и не стал даже рассуждать, так как был уже во власти и этого места, и всей её роскошной (пусть и не очень большой по размерам в сравнении с той другой женщиной) фигуры. И проник он в неё так легко и естественно, что Наталия, ещё больше прижавшись своими губами к его губам, выразила тут полное согласие с ним, и со всем тем, что сейчас происходит между ними. И как бы сказала ему таким образом, что она никогда не откажется от него в угоду каким бы то ни было обстоятельствам или рассуждениям на тему нравственности. Для них сейчас не существовало никаких понятий, кроме одного. Они любили в эту минуту друг друга. И пусть пройдёт ночь и ничего подобного никогда больше не повторится, но отнять у него это ощущение, ощущение обладания ею, никто уже не сможет никогда.
И здесь он, наконец, действительно проснулся и ничуть не удивился этому двойному сну, подобные которому, между прочим, он, но, правда, на другие темы, видел и в прошлом, и не однократно.
А за окном была глубокая ночь. И ему теперь ещё предстояли минуты счастья, но уже не во сне, а наяву. И опять же всё с той же его снохой и любимой им женщиной, и матерью его внуков, Наталией.
?Преуспевающие бизнесмены, это ограниченные люди. Они не видят второго варианта. Варианта сохраниться порядочными людьми?. - Эта мысль, которая пришла ему в голову вроде и не кстати теперь, поразила его своей простотой. И он подумал, что он может её забыть. И поэтому сразу записал в компьютер для того, чтобы потом вписать в будущие страницы его книги.
Когда-то в моде был джаз. В его время джаз был всепоглощающим. Или он был тогда молод, и поэтому ему казалось что это так. Но и голодное время не омрачало праздника души, приносимого настоящим джазом. Конечно, не совсем настоящим. Не тот вариант, где ещё не знали постиндустриального общества, и джаз исполнялся исключительно чёрными и исключительно так, как его некогда исполняли на африканском континенте. Но это ещё и не был джаз, который уже рассказывает о том, что он был когда-то в расцвете и неимоверно популярен и любим и в Европе, и в Америке. Это был тот джаз, который был первоисточником оптимизма после второй мировой войны, когда и он, и мир были ещё полны чувств и надежд на лучшее будущее. Тогда ещё в душе его (и на теле) не было лишнего жирка, и голос его, и голос джаза, звучали открыто и доверительно. И порою с невольной слезой. Но с такой нежностью и с открытым забралом, что не влюбиться в него было невозможно. Тогда не мог так стоять вопрос: ?Любите ли вы джаз?? Такой вопрос не мог бы быть понят. Это то же самое, что и спросить у живого существа, любит ли оно дышать. В то время девушки были девушками. И если одна из них кого-нибудь полюбила, или вы полюбили её, то это обязательно кончалось свадьбой. Или, вернее, надо сказать тут так: начиналось свадьбой. А заканчивалось уже в наше время, лет через пятьдесят-шестьдесят, а то и семьдесят. И заканчивалось разлукой. Но вынуждённой разлукой, когда один из них умирал. Разлукой на то мгновение, пока второй не завершит все неотложные дела и не последует за ним. Чтобы там уже не расставаться никогда. И это тоже был джаз. А джаз это, прежде всего, труба. А трубач это душа джаза, если не больше. Трубач это всё. И только кларнет или саксофон могут ещё соревноваться с трубой в свободной импровизации, так как они - оба мужчины, и ухаживают за ней, за трубой. Она же всегда ведёт себя так, как будто она никого из них так и не выберет никогда. На самом же деле она давно уже влюблена. Но влюблена она в дирижёра джазового оркестра. И влюблена в него в знак благодарности ему за то, что он позволяет ей на публике вести себя так, как она этого хочет. Но и за то ещё она ему благодарна, что после выступления он предъявляет к ней повышенные требования, и не даёт ей расслабиться и считать себя звездой. Тут нужно сказать и о том, что тогда ещё не было на эстраде столько звёзд, сколько их появилось теперь. И из-за их совокупного света на тёмном фоне времени не видно теперь ни одной настоящей звезды. Они поглощены этим светом. А новые звёзды пребывают в состоянии любви лишь к себе и в постыдном равнодушии к
окружающим.
Нет, джаз это всё. И ему не надо возрождаться. Он вечен. Но только в одном варианте. Тогда, когда он влюблён. И не в
себя, а в публику.
И тут он задумался о себе и о Наталии.
?Его лирическая эйфория постепенно отошла на второй план под грузом забот?.
Так сказал он о себе мысленно.
А по поводу победы социалистов в Испании на парламентских выборах он сказал: ?Дураки! Приходят к власти и радуются тому, что теперь смогут убивать других, и умирать сами на законном основании?.
?В душе был мрак от мелких и не мелких огорчений бытового характера. И в ней же, в душе, была потребность писать и много, и плодотворно о Наталии, о себе и о детях. Но душа не могла справиться с трудностями и тянула его в болото уныния. Руки его не поднимались на что-то такое, что могло бы вывести его душу из этого состояния?.
Перечитав эту тираду, только что сочинённую им, и вписанную в книгу, он увидел, как она противоречива с точки зрения нормальной логики, и как она просто неграмотна с точки зрения построения мысли. И вот теперь, критикуя предыдущую фразу, он опять сбивается на что-то несуразное. А почему? А потому, что одно дело сочинять вымыслы лирического свойства, и совсем другое дело писать, хоть в малейшей степени приближаясь к действительности, которая чаще настолько сложней любого вымысла, что действительно руки опускаются. Но писать надо, оглядываясь хотя бы просто на прошлое, и веря в будущее. И как можно меньше надо замечать то неприятное, что всегда бывает в жизни и, по сути, является ею не менее чем на восемьдесят процентов. Но те один-два десятка процентов радости надо ценить, и не бояться здесь фантазировать, и даже врать себе и окружающим о том, что жизнь прекрасна, и что она бесценна и стоит того, чтобы жить, страдая, сомневаясь, приходя в отчаянье, переживая беды и огорчения близких вам людей, опять радуясь и огорчаясь. А главное бороться с унынием. И только в этой борьбе иногда вас будут посещать минуты удовлетворённости. А сама борьба будет вас отвлекать от огорчений. Идите. Не стойте на месте. Всё равно всё когда-то кончится. Так научитесь ценить дорогу. И полюбите её. Оглядитесь вокруг. Вон там небольшое озеро засветилось под лучами тёплого солнца, и засеребрилось перед грядущей грозой последними вздохами настроения. Вон там, вдалеке, почти голубой лес. А тут прямо перед вами вдруг из-за холма выросла деревня. Идите. Не стойте. И знайте - это ваша жизнь. Пройдите свой путь по возможности достойно. И в конце пути вспомните все пейзажи. Вспомните погоду, что сопровождала вас в пути, не всегда будучи к вам благосклонной. А чаще наоборот.
Сегодня он окончательно понял, что настоящей сексуальной близости у него с Наталией никогда не будет. И он понял это по едва заметным признакам не только для него, но и для постороннего наблюдателя. Но весьма заметным, если смотреть на вещи обыкновенным не предвзятым взглядом, и не так, как смотрел он, и свои фантазии принимал за реальность. А сегодня он увидел, что даже в минуты душевного смятения по поводу его неурядиц с Глебом, да и с Алисой, она всё равно не позволила ему её по-отечески поцеловать, чтобы облегчить и её душевную тяжесть, которая овладевала в это время ею. Она, видимо, поняла его порыв, как желание ещё больше заманить её в сети прелюбодеяния, а потом и затащить в кровать. Он же, понимая её заблуждение, не только не стал убеждать её в обратном, но и обрадовался такому положению вещей. И, конечно же, промолчав, не выдал ничем своё предположение по этому поводу. Потому что понимал он главное. И она не может лишить его этого главного никаким отношением к нему. А главное заключалось в том, что он её, да и её детей, любит. А что касается постели, то постель с ней, пусть в виртуальном варианте, ему, слава Богу, обеспечена каждой ночью. Да и не только ночью. И вот он стал чувствовать постепенное отступление в его душе уныния и хандры. И на смену им тут же пришли чувства прямо противоположные тем чувствам, о которых он только что написал. То есть пришли на смену им оптимизм и вера в себя. А они уже и помогли ему повести себя правильно и в вопросе претензий Алисы к нему в прошлом, да и в этом конфликте Глеба с Пати по вопросу сосуществования людей и животных, в подробности которого, конфликта, он здесь не хочет вникать на страницах его книги. Дело в том, что Пати обписяла постель Глеба, и ковёр его тоже, который он недавно купил, и любил им покрывать свою постель. Да и в Алисину комнату Пати любила заходить с целью и поспать там, а иногда и отправить естественные надобности. А куда отправить? Это она иногда решала сама, не смотря на то, что на должном месте стояла специальная посуда, куда она традиционно ходила для этой цели в прошлом. Но последнее время там не стало специального ароматического песка, и регулярные её походы туда перестали быть регулярными. А газетная бумага, порванная на мелкие куски и положенная туда дедушкой, не очень её привлекала, чтобы посещать сие место для отправления этих самых естественных надобностей. И вот в связи с этим и назрел момент, когда настроение испортилось и у Пати не только по этому поводу, но и ещё и потому, что и март уж ближится, а ?Германа? всё нет.
Наталия держалась внешне, но в душе у неё в это утро было хуже чем... И ей было, конечно, не до его сомнительных поцелуев. И, в конце концов, она всё-таки ушла, чтобы ехать на киностудию или куда-то в другое место (он этого не знал), где уже, видимо, идёт съёмка, и члены съёмочной группы ждут чая и кофе. Или ещё чего-нибудь в этом роде. А больше всего он понимал и то, что между ними, как говорят, и в прямом, и в переносном смысле этого слова пробежала кошка. Но, поговорив с Алисой, которая достирывала в машине обписянное одеяло Глеба, а потом и развесила его над газовой плитой, он почувствовал, что настроение его улучшилось уже настолько, что будто бы и проблемы никакой не было. И отношение Алисы к нему было теперь столь доброжелательным, что он позволил себе, сперва очень осторожно, перевести разговор на тему оплаты за коммунальные услуги, которую он, оплату, а не тему, уже произвёл со своей пенсии, насколько её, пенсии, хватило для этого. Но оставалась оплата за электричество. И вот, заведя разговор об этой трудности в его делах по дому, он довёл его, разговор, в конце концов, до того, чтобы она, уже не проблема, а Алиса, из своего небольшого карманного бюджета выделила ему часть суммы для оплаты за свет. Хотя бы половину. И когда он пошёл на почту, он лишний раз убедился в том, что весна это такое мероприятие, когда никакие, или почти никакие огорчения не могут убить душу нормального (а к таким он относил и себя) человека. Идя по улице, он продолжал писать свою книгу в таких превосходных тонах, что ему было даже обидно, что он сразу не может переводить эти чувства и мысли, возникавшие в нём, в формулировки. Вокруг всё было преисполнено какой-то неистребимой энергии любви и величия чего-то, что и нельзя было назвать конкретно. Но что, как говорят, переполняло его душу. И не давало ему не замечать того, что в почти каждой проходящей мимо него молодой женщине есть то, что и делает её существом неземным. И на губах одной из них он прочёл информацию, сообщившую ему о том, что душа его молода и прекрасна, и только для маскировки нарядилась в этот шутовской наряд возраста, отразившегося больше на лице его, чем на теле. И, тем боле, не на той части тела, главной части, которая у него была, может быть, и моложе, чем у каких-нибудь нескольких молодых людей вместе взятых. И он подумал о том, что Наталия всегда будет с ним. И богатство её души он видит даже теперь в этом внутреннем и тайном, или почти тайном, конфликте с ней. И от этого становится он сам богаче, чем без него, без конфликта. А она, подобно его сыну в прошлом, не замечает бриллиант, который подарен уже теперь ей судьбой в лице его персоны. Сын его, наконец, видимо, понял, что он потерял. А она кроме доброго дедушки в нём ничего пока не видит. А дедушка этот совсем и не дедушка. А если он и дедушка, так только в том смысле, если считать бабушкой её, которая любит его так же, как и пятьдесят лет тому назад любила бы, если бы они встретились тогда. И им чтобы тогда было поровну лет, хоть это и не возможно.
Вот ещё идёт одна молодая женщина с таким же складом молодых прекрасных и чувственных губ, имеющих ещё вдобавок и такую непостижимую форму, что он не может не фантазировать на этот счёт. Вот они, эти губы, нежно касаются его губ. И она, будучи существом возвышенным, чувствует и понимает в нём ту силу исключительности, которая и даётся Богом подлинным талантам. И он вспоминает примеры из жизни некоторых людей, когда молодая жена обожает, например, своего немолодого и гениального супруга. И не за то, что он способен обеспечить её материально (это он с высоты своей исключительности сразу бы заметил, и не был бы с ней ни дня), а просто любит его за талант. И, прежде всего, за талант любить её. К таким примерам он относил и Отелло, Чарли Чаплина, Кончаловского и ещё нескольких известных ему людей такого же склада ума и с таким же сердцем. И он считает, что и он достоин бриллианта в лице Наталии.
Но его радовало и другое. Его радовало то, что вдобавок ко всему, она ещё и просто земная женщина. Да и на руках у неё двое детей. И он понимал, что, может быть, не будь у неё ни детей и ни трудностей, она не могла бы быть тем бриллиантом, в который он так влюблён. Но он всё равно, как и во всех прежних случаях из своей жизни, был уверен в том, что когда-то она пожалеет, если недооценит его достоинств теперь. Хоть относится она к нему и с уважением и даже предупредительно. Предупредительно в том смысле, что явно не выражает свое неудовольствие по поводу его притязаний. Но удовольствие от этого, как он видит, она тоже не получает. Эвелинка же, наоборот, хотя и была как бы копией мамы, но к нему относится крайне хорошо с неподдельной лаской и полным доверием и откровением. И это наполняет его душу нежностью к ним обеим. И ему было немного обидно только из-за того, что она, Наталия, человек проницательный, и столько раз прощавший его сына и отца её детей, не может простить ему его возраст. Вернее даже не возраст, а официальную дату его рождения, которая отстоит от даты её рождения на сорок четыре года, включающих в себя столько же и таких вот вёсен, как и эта весна. Весна, что бушует в его душе. Весна чувств, мыслей и сомнений по поводу того, что такое любовь, и с чем её едят.
Но ничего, думал он, вернётся вечером Наталия, купит специального песка для Пати, Глеб ляжет под чистое выстиранное одеяло, к тому же Наталия увидит и возьмёт те пятьдесят долларов, что принёс час тому назад Денис и положил в её комнате на полку, и ей станет легче. А завтра не нужно будет идти на съёмку. Два дня прошли. И, видимо, завтра возвратится на работу основная ?чайница?. И Наталия сможет уделить больше внимания детям. Вот жаль только, что она не придёт в его комнату, когда дети в ней, в комнате, будут весело играть, мешая ему в это время сочинять за компьютером, доброжелательно участвуя вместе с ними в процессе творчества, как это было ещё какой-нибудь месяц тому назад. Но ничего. Он будет благодарен Богу не только за то, что дети её, его внуки, ему никогда не изменят, но и за то, что Наталия изменила своё отношение к нему в худшую сторону. Ведь, значит, было её отношение к нему в какой-то момент и другим, а не только казалось таковым. Не может измениться то, чего не было. Может меняться только то, что было или есть. И вот это его радовало. Значит, он прожил, и проживает, ещё кусок своей жизни. Пусть с душевными муками. Но ведь и в прошлом его душевные муки побеждали тех, в ком были по-настоящему чёрствые сердца. А у Наталии сердце доброе. И он всё-таки, в конце концов, по прошествии времени, каждый раз торжествовал победу в прошлом. А не признававшие его заслуг люди, и ранившие его сердце женщины, потом сами, вопреки своей воле, испытывали к нему приблизительно те же чувства, что и испытывал ранее он к ним. Но уже ничего нельзя было изменить. И не потому, что он охладел к этим женщинам. Отнюдь. Он их по-прежнему любил. И любит и до сих пор. Всех. Без исключения. Тех, кого любил прежде. А потому, что в сердце его уже эта страничка была перевёрнута. И, видимо, так угодно было Богу, чтобы вместе с радостью любить, человек способен был и прощать, и забывать. И ещё Бог наградил его свойством страдать. И только чередуя эти состояния, его душа и выдавала тот результат, что и называется жизнью. А в ней уже и искусство, где всегда, или почти всегда, старался он отразить весь её, жизни, процесс. И надеется он на то, что это кому-нибудь пригодится. И сослужит хорошую службу. Как служат ему душевные переживания поэтов. Пушкина, Блока, Есенина, Шекспира и других великих людей своего времени.
Он понимал, что он опять безоглядно погрузился в любовные переживания, и теперь чувствует себя так, как чувствует себя человек после безудержной вчерашней пьянки. Когда не только во рту, но и на душе такое уныние и печаль, что хоть ты опять начинай всё сначала. А потом уже пусть будет что будет. Но в эту минуту надо чем-нибудь полечиться.
И он пошёл в ванную.
Когда он вёл из детского сада свою четырёхлетнюю внучку Эвачку, она ему говорила, что она любит ветер и холод, и солнце. И что она любит всё. И любит, когда он говорит ей что-то и в нос, и в ухи. Она имела в виду тут ветер, который ей это говорит. А когда они пришли домой, и она взяла на ручки свою любимую кошку Пати, то она стала ей рассказывать о том, что когда у неё, у Пати, будут маленькие котятки, они будут тянуться к её сисичкам и кусать их, чтобы напиться оттуда молока. И тут она добавила, что это не смешно. Хоть Пати совсем и не смеялась над нею в это время. И даже и не улыбалась, а со всей серьёзностью слушала её рассуждения и урчала, как урчат очень умные и очень добрые коты. Но она, видимо, понимала и то, что это всё-таки смешно.
Говорил он с ней долго на кухне и чувствовал, какое примитивное существо мужчина в сравнении с женщиной. Он имел в виду тут не себя, а большинство мужчин. Себя он не считал просто мужчиной. И просто примитивом. В половом смысле, конечно, он был, как и другие, прост. Так думал он, и таким и остаётся, если половую потребность, созданную в нём Богом, считать примитивной. Но это же чувство и жизненный опыт героя нашего повествования в этом вопросе, да плюс прибавь сюда его почти безграничную фантазию, да и ещё его влюбчивость, если так будет позволено сказать, помогали Наталии понимать с её кругозором и внутренним волнением, которое и в нём отражалось, как в зеркале, в итоге то, что получалось, как будто бы и не такой уж он примитив, этот мужчина, который всё чувствует, знает, не говоря уже о том, что он видит и замечает, и отмечает в себе и в ней такие вещи, как, например, то, что в разговоре с ним, тут на кухне, она довольно часто отлучается в туалет. И почему?
После долгого разговора с ней на кухне о том, как она по существу позавчера вечером прощалась с его сыном навсегда, ставя по возможности все точки над ???, они пошли все вместе в его комнату. А к этому времени Владик уже вернулся из школы, и ещё к этому времени они все вместе, в конце концов, успешно спасали ковёр Глеба от запаха котячьей мочи. И вот в его комнате они не стали ни о чём таком говорить, что детям её желательно было бы и не слышать, а просто сидели в такой обстановке, о которой после вчерашнего холодка, пробежавшего, как им обоим показалось, между ними, он уже и не мечтал когда-нибудь посидеть с ней. Но судьба переменчива. И когда человек влюблён, она дарит ему минуты облегчения. А в данном случае он имел в виду не только себя. И вот она ему делает драгоценный подарок. Он опять полон надежд. И великое чувство семьи, в которой все любят друг друга, переполняет его душу. И пусть нельзя это их единение назвать чувством любви каждого каждым. Но зато она, эта семья, даже иллюзорная, или виртуальная, обладала всё-таки такими качествами, которые и бывают в нормальной счастливой семье. И одно из этих качеств - это ожидание того, что жена его по судьбе, Наталья, когда-нибудь станет и его супругой в жизни. Или наоборот. Не станет ею. Но и это далеко не точно. Сформулировать те чувства и то состояние, в котором он себя ощущал, ему не удавалось. Да это и не важно, думал он. Важно то, что в его душе, благодаря, казалось бы, такому ?пустяку?, как её внимание к нему, происходило то, что превращало её, Наталию, из снохи в невесту. А его из свёкра в жениха. И столько необычного и прекрасного он видел в этом положении вещей, что всё мгновенно изменилось в свою противоположность. Даже во что-то новое и высокое по своим качественным характеристикам, если можно так несколько путано сказать о том, что переполняло и его душу, и его мысли. И ему хотелось писать об этих ощущениях в вопросах любви и семьи, как он её понимал теперь, не будучи в состоянии разделить эти понятия: любовь к внукам и любовь к ней.
Он вспомнил о первобытном строе, когда в ?семье? никто не различал, где мать, а где дочь. И люди жили и размножались (как ему прежде казалось, и как об этом явлении говорили и другие) как скоты в самом примитивном смысле этого слова. Но теперь он в такой характеристике первобытных отношений сомневался. И понимал, что, видимо, часто это было не так. Ведь до сих пор считается, что важней всего в семье любовь. Так что же тут плохого, если он любит. А что семью полагается создавать по определённым правилам? Так на то и существуют они, правила, чтобы были и исключения. Нет правил без исключений. Особенно тогда, когда они, правила, мешают любить. А, значит, и мешают созданию
нормальной в данном случае семьи.
Когда они разговаривали на кухне, она в духовке запекала две пиццы, те, что как-то вместе с некоторыми другими продуктами принёс его старший брат Роман в качестве небольшого подарка по случаю женского дня 8-е Марта. И вот теперь она, вынув из морозильника их, запекла их в духовке. И в этой комнате впервые ела вместе с детьми в его присутствии. Если не считать тех случаев, когда они неоднократно закусывали все вместе за каким-нибудь общим праздничным столом, а не в таком тесном кругу их теперешней семьи. И он понимал, что это делает она и для него. По крайней мере, ему хотелось, чтобы это было именно так. Конфликт её с Глебом заставлял её общаться с ним, со свёкром, теснее и откровеннее, и чаще советуясь, и стараясь найти в нём определённую опору, прежде всего, как у старшего и любящего их всех человека, как у отца. И это было так. И он её, пусть не всегда в совсем ей доступной форме, информировал об этом: о его желании, и даже мечте, чтобы у них отношения стали таковыми, чтобы она и к нему, когда это нужно, предъявляла такие же требования, какие можно предъявлять к человеку, который повинен в появлении Владика и Эвачки на свет. А это ведь было именно так. Пусть через поколение, но он, и никто другой, оплодотворил её. И только поэтому и родились её дети. Не будь его. Или, вернее, не будь некогда полового акта с его стороны с Ларисой, с его женой, и не было бы у неё ни Дениса, ни их детей. А если бы и были у неё дети, то это была бы совсем другая история. И она никак не могла бы быть описана им в этом романе. И вот, благодаря всем этим нетрадиционным рассуждениям, он лишний раз почувствовал, как он любит её, и оправдал в этом смысле себя и свои претензии по поводу счастья именно с ней. Не мог он считать её не своей. Ведь, как мы уже говорили в первом томе, влюбился в неё он раньше, чем в неё влюбился его сын. И с тех пор ни одного дня не изменял ей в чувствах и в мыслях.
Сага о Наталии.
часть третья.
2016 г.
Собрание сочинений
в 99 томах. Том 23-ий.
Рассуждая в том же духе, он подумал и о том, что, может быть, будущему читателю станет скучно читать без конца, как он, дедушка своих внуков, до сих пор исполнен сексуального огня и не утратил нежную чуткую душу, которой наделила его природа. И он решил как-нибудь иначе, более неожиданно, закончить этот том, доведя его всё-таки до ста пятидесяти страниц. И тут ему пришла в голову мысль, или даже больше не в голову, а в сердце, что можно закончить этот том стихами. А, в частности, сонетами, которые он когда-то посвятил своей жене. И он подумал ещё и о том, что читатели смогут тогда предположить, что эти сонеты посвящены Наталии. Хотя они же, как и все искренние признания в любви, могут сгодиться при всяком случае, и быть как бы посвящёнными любой женщине. Так как каждая женщина уже одним тем, что она женщина, заслуживает любви и рифмованных строк, воспевающих её достоинства.
И он взял томик своих сонетов и стал, наугад открывая ту или иную страницу, выписывать оттуда попавшийся ему на глаза сонет. И пусть будущий читатель, или читательница, выучат на память хотя бы один из них, и использует его для того, чтобы при случае похвастаться, будто бы он сам (или сама) написал (или написала) его, это стихотворение.
И вот он взял томик своих стихов, и открыл его на той странице, на которой был напечатан
следующий сонет:
*
Ты ласточкой стремительной во сне
С весёлым криком мимо пролетала.
А сердце неспокойное во мне
Тебя остановить в пути мечтало.
Взмахнула ты приветливо крылом,
Волны едва коснувшись осторожно,
И скрылась, облетев мой скромный дом.
А я стоял. И было мне тревожно.
Но я проснулся. Нежностью томим,
Я разгадал ночное сновиденье.
Я понял: я задет крылом твоим.
И не напрасно странное виденье.
Путями сердца, на крыле мечты,
Той ласточкой ко мне летела ты.
Тут он закрыл книгу и открыл её снова, но уже в другом месте. И там он прочитал следующее:
*
Пусть даже и любовь пройдёт. Ну что ж.
Не вечно чувство. Сердцу не прикажешь.
Но если между нами встанет ложь,
Ты на досуге мне когда-то скажешь:
?А, помнишь, наш с тобою уговор?
Чтоб не случилочь, быть всегда друзьями?.
И ни тебе, и ни себе в укор
Отвечу я: ?Да, это было с нами?.
?Но жизнь ведь к нам была совсем не зла, -
Заметишь ты. - Зачем же огорчаться
Из-за того, что уж любовь прошла?.
И я скажу: ?Когда-то ж ей кончаться?.
И улыбнёмся этим мы словам.
И прежних лет покой вернётся к нам.
Здесь он снова закрыл томик, и открыл его в
новом месте. И вот что он прочитал там:
*
Любовь моя к тебе не возросла.
Она всё та же, прежнего размера.
Не велика она и не мала.
Да и какая тут уместна мера!
Мне ли судить прошедших восемь лет
Моей к тебе любви предельно сжатых
В один сонет, ещё в один сонет,
Ещё в один, в восьмой, в восьмидесятый.
Растёт число признаний. А любовь,
Их не считая, верит в бесконечность,
И ожидает вдохновенных слов,
Признаний новых, устремлений в вечность.
По кругу, как планеты и луна,
Идут мои сонеты и она.
И последний раз он решил перевернуть страницу, так как уже был на сто сорок восьмой странице своей книги. А он хотел ещё в
заключение написать несколько строк прозой.
*
Я посмотрел в оконное стекло.
Ещё лежало солнце в колыбели…
Нет. Ему расхотелось переписывать этот
сонет. Ну что ж. Как вы уже тут, видимо, заметили, последний сонет он не переписал полностью, а переписал только две первые строчки из него. И когда он это проделал, он отметил тут, что слишком много он оставил места для прозы. И решил перепечатать ещё одно или два стихотворения. Но на этот раз он взял свою другую книгу с романсами. Это были не совсем романсы, а порою и совсем не романсы. Но он условно так назвал эту свою книгу когда-то, а потом и привык к такому названию. И оставил его навсегда. И вот он наугад открыл страницу, где и увидел тот романс, который… Но тут он не стал его переписывать. И, покончив со стихами, решил в конце написать всего две фразы.
?Человек, пекущийся об общественном благе, и человек, пекущийся о семейном благе,
занимаются одним и тем же делом?.
И ещё:
?И всё-таки он счастлив. И очень хочет,
чтоб была счастлива и она?.
И вот тут уж он мысленно перевернул
последнюю страницу своей книги и отложил
воображаемое гусиное перо в сторону.
--*--
Он остро почувствовал, что может её потерять. И потерять навсегда. Давно уже он не ощущал такой тонкой боли в сердце, как в эту минуту, когда представил себе, что её не станет. А кроме её он потеряет тогда и внуков, без которых уже не может жить. Дети выросли и пошли своим путём. За ними можно теперь только наблюдать. Они взрослые, и характеры их сложились. И даже при потере детей, если бы такое, не дай Бог, случилось, он бы не опечалился до такой степени, как теперь опечалился он при одном только предположении, что может остаться без внуков и Наталии. Чувство страха, посетившее его теперь, он мог сравнить лишь с тем чувством, которое в нём возникло когда-то, переживая за свою мать, когда во время войны, в оккупации, она от голода потеряла сознание. А когда опять пришла в себя, он в темноте молил судьбу, чтобы она дала его матери столько лет жизни, сколько нужно для того, чтобы он к тому времени стал уже совсем взрослым восемнадцатилетним человеком. А ей бы тогда исполнилось пятьдесят. И ему это его желание казалось фантастическим сном, в котором он останется без матери только тогда, когда она будет уже глубокой старухой. Но случилось так, что она прожила девяносто восемь лет, и была почти до самой смерти исполнена и ясных мыслей, и полна физических сил. И он потерял её не в восемнадцать, как мечтал, а в шестьдесят шесть.
И вот через шесть лет после её смерти он опять боится потерять самых дорогих ему людей. И один такой человек висит сейчас у него на плечах за спиной, обнимая его за шею своими нежными ручками в то время как он заносит в компьютер вот эти строки. И этот человечек урчит ему что-то на ухо. И это лукавое существо не кто иной, как его внучка Эвачка. А мать её ушла в аптеку за лекарством для Владика. И вот они теперь беспокоятся за неё. И тут он вспомнил, как во время войны беспокоился он за свою мать. Только теперь он не выдаёт своего беспокойства внуку и внучке. Он боится, что проезжающий где-то автомобиль случайно наедет на Наталью, и она или попадёт в больницу, что очень плохо, но ещё допустимо, или перестанет существовать вообще. О чём и подумать страшно. И он никак не может допустить того, чтобы её не стало совсем. Он тогда чувствовал бы себя круглым сиротой. И вдобавок к тому, дети её тогда, не исключено, будут жить не с ним. А если и с ним, то вместе с Денисом и его новой неофициальной женой и их новым сыном Давидом.
Но вот опять Эвачка залезла сзади на табурет, на котором он сидит, и рассмешила его своим поведением, сидя у него на шее. И он решил дальше не печатать, и на этом закончить первый абзац своего второго тома о Наталии. А он задумал написать о ней семь томов.
С каждым днём он всё больше и больше понимает, что время уходит. И его отношения с Наталией развиваются не в лучшую для него сторону. Нет, они, конечно, не теряют той прелести, какой они наполнены были до сих пор для него из-за тонкости, какая обычно и заполняет души неравнодушных друг к другу людей. Но он боится, что это войдёт в привычку и станет нормой, которую трудно будет потом разрушить и заменить другим состоянием, имеющим в отношениях между ними и такой аспект, как сексуальная близость, приносящая обоим удовлетворение и огромную радость, если о радости можно рассуждать и в таком плане. И он решил торопить себя постоянно в вопросе написания этого большого количества прозы, прежде всего, для того, чтобы у него было реальное, а не мнимое, основание менять в их отношениях такие важные для людей вещи, как близость или отсутствие таковой между людьми живущими под одной крышей и не скрывающими своих чувств друг от друга.
Он понял, что постоянно писать о ней в превосходных тонах, значит, повторяться и, в конце концов, извести тему на нет. И стать даже не интересным не только будущему читателю, но и себе. И таким образом не добиться конечной цели. То есть, не добиться популярности. А может быть, и, вообще, не найти издателя. Тем более, состоявшегося издателя, способного издать и реализовать его романы в таком количестве, чтобы это принесло и ему некоторую финансовую
независимость.
И, кроме того, он понимал, что хоть и был он достаточным оптимистом, но время всё-таки уходит. И он стареет. И стареет, конечно, и она. Но это его не пугало. Но и перспектива двух стариков рядом его не радовала. Он хотел, чтобы души их молодели. И если когда-то случится так, что секс им перестанет быть нужен, или будет нужен только кому-нибудь одному из них, то к тому времени они уже будут так близки в отношениях, что это не сможет быть причиной охлаждения их друг к другу. Да и вообще он хотел не потерять её ни при каких обстоятельствах.
И вот он решил, что писать больше нужно не о ней, а о нём самом. О его ощущениях. О его постоянных тревогах и радостях. О его прошлом. О том, что он в жизни испытал. С кем и когда чувствовал себя счастливым. Когда и по какой причине это чувство уходило. И тут он увидел непочатый край ощущений, которые, как ему казалось теперь, не могут быть не интересными читателю, которого он представлял мысленно себе, как своего читателя. А это и молодые люди, стремящиеся к знаниям во всех областях человеческой деятельности, если так можно сказать. И не обязательно к знаниям для того, чтобы выступать в роли критиков его произведений. Но и неглупые домохозяйки, которых теперь становится почему-то всё меньше и меньше, и педагоги женского пола, и все те, кто любит жизнь не поверхностную, а внутреннюю, так сказать, ту часть её, которая является побуждающей к действию, но не так: сперва сделал, а потом подумал.
Но он же и сомневался в себе, и тревожился и из-за того, что книги его не найдут дорогу к массовому читателю. Но не потому, что они окажутся не интересными. А потому, что рынок, сформировавшийся с некоторых пор и в области книгоиздательства, заранее, по каким-то далеко не умным причинам, решает сам, вернее не сам, а его менеджеры решают, кого создать как писателя важного и нужного читателю, а кого поставить пусть даже в элитный ряд, но почему-то подальше от прилавка. Как будто он, этот элитный писатель, может испортить вкус читателя. И это, видимо, так. Потому что тогда читатель может отвернуться от того неимоверно бойкого чтива, что бесконечным потоком выливается на него, и не даёт ему не только подумать о прочитанном, и над прочитанным поразмышлять, но не даёт ему и вздохнуть, атакуя постоянно его наглой издательской рекламой, опуская его в очередной ?шедевр? не менее наглого автора. И всё больше и больше автора в лице борзописца женского
пола.
И это его иногда удручало настолько, что он хотел вообще отказаться от борьбы с этой страшной машиной современного мира. Но он же и понимал, что при любых обстоятельствах надо идти вперёд. И не доверяться никаким модным течениям, которые были всегда, и так же быстро и бесславно умирали, как и рождались на пустом месте. Как и колдуны и маги, что заполоняют весь мир в столь смутное для нас всех время, но благодатное для всяких аферистов и ловких посредственностей. И это не исключало и литературу.
И вот, понимая всё это, он знал, что примерами для него могут быть только те авторы, которые выжили в веках. Но и у них он не хотел учиться. Он понимал и то, что даже у гения нельзя ничему научиться кроме одного. Кроме правды. И он хотел быть правдивым прежде всего перед собой и перед теми, кто ему дорог. И поэтому согласен был лучше рассуждать на страницах своей книги о вещах не столь простых, как просто события, происходящие вокруг, и придуманные истории, как это бывает нередко, особенно теперь, в литературе, где процесс заменяет саму суть, а говорить в своей книге о вещах более важных чем то, что предполагает сюжет. А это, как он понимал всё больше и больше, - любовь. И она уже пусть и ведёт его руку по бумаге, как сказал бы он прежде, которую ему заменила теперь каретка компьютера.
Ну что ж, рассудив таким образом о жизни, и о его отношении к ней, он решил всё-таки напомнить своему будущему читателю о том, что утро это, а он проснулся совсем недавно, было по-прежнему солнечным. И за окном по-прежнему блестел снег. Так как ночью его ещё немного нападало к тому, что уже лежал на земле. А солнце, несмотря на свою яркость, с утра ещё не грело так, чтобы лёгкие снежинки, выпавшие ночью, расплавились, и поверхность снега, лежащего на земле, перестала отражать маленькие радуги, миллионами возникавшие в нём. Ведь свет, проходя через прозрачный предмет, и преломляясь в нём, имеет свойство разлагаться на составляющие его цвета.
И вот это свойство когда-то Пушкин в поэтической форме воспел неповторимо талантливо. И он, наш герой, часто вспоминал эти строки, видя перед собой подобный пейзаж в такое же зимнее утро, какое воспел когда-то гениальный Пушкин. И сейчас он вспомнил эти удивительные слова. И с радостью молодого
влюблённого человека повторил их:
Мороз и солнце! День чудесный!
Чего ты дремлешь, друг прелестный!..
И так далее.
Потом он встал и пошёл к компьютеру. И когда он его включил... Нет, не так. Не ?...и когда он его включил...?
В этой фразе он почувствовал, что сбивается как раз на ту литературу, которую он и не любит больше всего. И считает её не честной.
Словосочетание: ?...и когда он его включил...? уже предполагает неправду, как ему казалось. Ведь он видел огромную разницу между словами: ?...и когда он его включил, вошла Наталия...? и просто: ?...вошла Наталия...?. По его мнению, это далеко не одно и тоже. Во втором случае речь идёт о Наталии. А в первом автор как бы сообщает нам, или собирается сообщить, что-то такое, что он, автор, уже заранее знает, как интересное событие способное увлечь читателя. В общем, он уже не пишет, а рекламирует свой товар. И рекламирует его по незаслуженно высокой цене. Ещё ничего не сообщив, он уже говорит, что будет интересно.
Просматривая порой по телевиденью старые советские кинофильмы, и даже те из них, которые в своё время проходили без всякой помпы и считались рядовыми фильмами, не отмеченными критикой, он поражался, насколько они гармоничны и естественны, эти фильмы. И как они резко отличаются от всех современных фильмов, в которых фальшивая бездушная игра не только допускается, но и поощряется, и представляется как образец талантливой игры. В старых же фильмах сама жизнь, но ещё и помноженная на гениальность актёров, и даже на гениальность режиссёра, или автора идеи, ставилась во главу угла. Принцип перевоплощения торжествовал полностью. То есть торжествовало то, что и открыл в своё время гениальный Станиславский. Теперь же всё больше и больше подсовывают нам, если можно так сказать, фальшивого Станиславского. Не проникшись самой сутью его учения, но, изучив приёмы сценической практики, которые применяли Станиславский и его ближайшие последователи, они, современные творцы, выдают нам жалкую пародию на реализм вместо самого реализма. А проще говоря, издеваются над ним. В старых же советских фильмах актёры и актрисы (а сейчас ещё многие из них доживают свой век в забытьи и нередко в постыдной нищете) создавали такие образцы искусства, как принято было называть перевоплощение в цельную неповторимую личность, что звёзды Голливуда нашего времени это просто жалкие торгаши или базарные карманные воришки. В глазах каждого из них так и сквозит информация о том, сколько он стоит в долларовом выражении. И это, видимо, только и волнует подготовленного ими же массового зрителя и слушателя современных произведений искусства.
День продолжался. Солнце светило. Звуки, которыми переполнялась квартира, где жил он, то нарастали, то затухали почти совсем. И это зависело оттого, звонил ли телефон, был ли включен один или два телевизора. Или все три (так как у Глеба тоже стоял телевизор) гудели, будучи включены довольно громко, или совсем громко. Дети вдобавок ко всему любили поставить музыку как можно громче, и
любили танцевать под неё без конца.
В общем была прекрасная обстановка выходного дня. Хотя сегодня день был не только будничный, но и траурный и даже трагический. В Испании прогремело сразу несколько жутких взрывов в электричках. И там погибло, или пострадало, несколько сотен человек. Но тут это событие воспринималось как что-то очень далёкое. Или даже постановочное, что обычно и происходит в Голливуде, в блокбастерах, или как там их ещё называют. Он этого точно не знал, потому что давно уже не был в струе, если можно так сказать, современного искусства.
Приходил недавно Денис. Он зашёл в комнату к Глебу. Взял у него эскизы, выполненные Глебом для его будущего офиса. И на секунду зашёл к отцу. И когда он уже уходил, отец догнал его у выходной двери, и сообщил ему, что он уже закончил один том своего литературного труда и приступил ко второму. Не считая тех двух томов, что он тоже начал, но на время отложил продолжение их написания, так как почувствовал, что тему, связанную с Наталией, он сможет теперь развивать с большим успехом, чем те две темы, которые не рождали в нём столько эмоций, чтобы он видел там, в тех темах, главное, что теперь и составляло бы его жизнь, то есть любовь к Наталии.
Обстановка в доме, где на кухне Наталья готовила обед, настраивала его на оптимистический лад. И он почти забыл о трагедии, которую переживали в это время люди там, в далёкой Испании. Хотя он, конечно, прекрасно понимал, что ничего далёкого в современном мире нет.
А в это время на кухне Наталия варила грибной суп из солёных грибов, что она на днях привезла из дому.
Прибежала Эва и оторвала Владика от компьютера, на котором он рисовал очередной шедевр в качестве заставки для экрана монитора, и сказала ему, что мама плачет. И, как понял Владик, это был сигнал ему, чтобы он пошёл к ней и утешил её в трудную для неё минуту. И тогда он, дедушка, у Эвы осторожно спросил, почему мама плачет. И она ответила ему, что не знает этого. Но, видимо, добавила она, из-за папы. Через минуту он узнал, что они пойдут на горку кататься на санках. И он решил предложить свои услуги и пойти вместе с ними. И зайдя в их комнату, увидел там не плачущую Наталью, а весело танцующую вместе с Владиком, держащую его за руки и напевающую слова какой-то песни, под которую они и танцевали. А она, эта песня, звучала с проигрывателя. Так он называл по старым меркам тот аппарат, которым с течением времени заменили проигрыватель, каким он и его сверстники пользовались в своё время. Хотя теперь, конечно, и он это знал, аппарат этот называется совсем иначе. И отличается он от проигрывателя всевозможными тонкими усовершенствованиями, или вообще построен на ином принципе в сравнении с тем аппаратом, под музыку которого он когда-то в молодости не только танцевал, но и завоёвывал многократно призы на официальных конкурсах и просто на вечерах танцев. Призы обычно представляли собой вещи полезные в быту. Это мог быть и изящный зонтик, и даже настольная лампа или модный портфель из натуральной кожи за пять рублей, или ещё что-нибудь в том же духе.
И вот теперь, когда, войдя в комнату к ним, и увидев танцующими Владика и Наталью, он предложил им, чтобы они и его взяли на горку, он услышал почти категорическое нет. И почувствовал ревность к тому объекту её внимания и переживаний, из-за которого она,
может быть, и плакала совсем недавно.
Ему стоило немалого труда, если можно так сказать, чтобы побороть в себе эту ревность. Ведь правильнее было бы ему радоваться тому, что она так любит его сына и своего мужа и отца своих детей, что всё ещё хочет выправить ситуацию, и вернуть её в то русло, которого, может быть, и не было никогда, но по которому должна была протекать их жизнь, как она протекает в нормальных счастливых семьях.
И тут он подумал о том, что ещё совсем недавно он в своей книге, и как ему казалось, искренно изливаясь в чувствах, заявлял, что любит Наталью бескорыстно, и любой вариант развития событий не может поколебать этого чувства. И вот он попросту ревнует её
обыкновенной эгоистической ревностью.
И здесь он заставил себя войти в рамки дозволенного и не очень надеяться на то, что её чувства к нему могут быть, при любом варианте развития дальнейших событий, равными его чувствам к ней. В лучшем случае, подумал он, она может с ним быть когда-нибудь близка в постели, и не более. И как он теперь понимал, совершенно неестественным является тот вариант их не духовной близости, на который он ещё недавно так надеялся. Но он и понимал то, что момент ревности пройдёт, или уже прошёл, а надежды его, связанные с тем глубоким чувством к ней, как к предмету постоянной любви к женщине ещё с тех времён, когда он впервые почувствовал эту любовь, останутся навсегда. И не будут выкорчеваны из его души никакими реальными условиями или разумными рассуждениями о законах природы, назначающих всем существам и событиям неумолимые сроки. Он чувствовал, что любовь его к ней не имеет сроков. И случайное вкрапление в неё, в любовь, жизненных обстоятельств, диктующих и поведение соответствующее этим обстоятельствам, не может хоть как-нибудь существенно повлиять на саму любовь. И это его и обрадовало, и утешило. И он дал себе слово, что в будущем постарается приблизиться к тому идеалу в любви, который он так неосторожно, но с благородной целью, пытался до сих пор рисовать в своей книге. И он понял, что этим он не только выражал свои чувства к ней, к Наталии, но и хотел понравиться читателю. И теперь он посчитал, что читателю вряд ли он меньше понравится, если признается ему в той правде, какой она предстала пред ним теперь, когда Наталия отказала, довольно твёрдо отказала ему, быть с ними там, на горке. Но это тоже ему понравилось по-своему: так как она знает, чего она хочет, и идёт к своей цели твёрдо, без колебаний. И хоть и плачет порой в пути и, может быть, и не достигнет желанной цели, если цель её мираж, к которому она идёт с колебаниями в душе, но не с меньшей, как ему казалось, жаждой достичь цели. А, по сути, и не в достижении её дело. Так подумал он. А дело в том, что цель не только даёт возможность жить полной жизнью ему, но и даёт ему совершенно доступную возможность писать о этой жизни. И писать в форме дневника. Но только дневника более развёрнутого, чем обычный дневник. Писать в плане внутренних переживаний и побуждений, заставляющих человека, то есть его в данном случае, поступать так или иначе в жизненных обстоятельствах, которые он и фиксирует в эти минуты, как бы находясь над событием, что и даётся ему с немалым трудом. Ведь ему хочется бескорыстно страдать, как это с ним не раз уже случалось и в прошлом. В его первой молодости. А она продолжалась у него до тридцати семи лет. Как раз до того момента, как он и женился на прекрасной девушке Ларисе. И женился не потому, что он её полюбил, а потому, что он не мог разлюбить другую, которая хотела стать его женой, но его не любила. И любовь его не позволила ему тогда жениться на той, будучи не любимым, которую он любил. Но дала эта любовь ему возможность жениться на другой, в которую он ещё не был влюблён. И поступил он так потому, что ему нужно было избавиться от неразделённой любви с помощью разделённой, но уже любви несколько в другом, более реальном, и даже в совсем реальном смысле.
Но прошло время, а время лечит, и он, в конце концов, разлюбил первую и полюбил вторую уже как мать его детей, а не как он любил ту красавицу и бездушную стерву, что истерзала ему сердце, и чуть не довела его до худшего, что бывает в таких случаях. До смерти.
И вот теперь он влюблён снова. И влюблён по-иному, и в иное время, и в другую женщину. И это даёт ему возможность проживать свою богатую на события и душевные переживания жизнь снова. И делать это без повторения старых ошибок, которые обычно скучны хотя бы тем, что там уже заранее всё известно. Известно как будут развиваться события, и чем всё закончится.
В данном же случае, как ему казалось, никто не может сказать, чем всё закончится. Но сам процесс для него был так богат новыми событиями и переживаниями, что он хотел только одного: чтобы всё это продолжалось как можно дольше.
Он всё больше и больше понимал, что она рассудительнее его, и смотрит на вещи реалистичнее. И, не смотря на то, что обладает большой силой страсти, она никогда, или почти никогда, не отрывается от земли. И даже если она и позволит себе когда-нибудь сблизиться с ним, то это будет только благодарностью её за его любовь к её детям, но отнюдь не потому, что она разделяет его точку зрения на отношения, которые могли бы быть между ними. Конечно, не считала она себя ни недотрогой, ни святошей. Даже, более того, она понимала, что её предназначение служить мужчине. И ему она, наверное, могла бы и служить. И служить только ему. Если бы не было такого понятия, как отец её детей. Тем более что они, дети, его любили, как любят, когда не замечают в человеке недостатков. Нет, не так. Не то, чтоб не замечают. Они их видят. И видят, может быть, острей, чем кто бы ни было другой. Но не могут их никак сопоставить в должной мере с той любовью, которую они питают к этому же несовершенному человеку, к своему отцу. Но столь любимому, что никакие недостатки, и даже пороки, не могут поколебать эту любовь.
Порой ему казалось, что её удручённое состояние, которое он в ней иногда замечал, приближает его мечту. Но он не хотел осуществления мечты таким способом, когда женщина отдаётся мужчине от безысходности. Но считать её положение безысходным он никак тоже не мог. И, прежде всего, потому, что стоит ей только захотеть, как она тут же найдёт себе достойного поклонника и друга, способного и оценить её, и поддержать и морально, и финансово. Но, видимо, в этих Орлисах (а это была фамилия её мужа и свёкра) есть что-то такое, что не даёт ей возможности изменить им. Хотя они ей, в лице опять же её мужа, изменяли и неоднократно. Но что-то фамильное (а она уже в своей душе не отрывала себя от этого никому не известного, но старинного рода) так держало её, что все страдания, выпавшие на её долю, не могли перевесить возникший в ней зов предков. Или зов крови. Если позволено так сказать об этом явлении. И она чувствовала, что дети её тоже Орлисы, и они ими будут всегда. И никакое искусственное изменение их статуса не изменит самой сути. То есть зова крови. И поэтому, видимо, она и приняла любовь свёкра к ней не как обиду, оскорбляющую её женское чувство, а совершенно нормально. И хоть с ним почти не поддерживала отношений в течение последних девяти лет, но когда это понадобилось, стала с ним так откровенна, как будто они брат и сестра, являющиеся друг для друга и теми, кто друг перед другом постоянно исповедуется.
Теперь уже он думал, в связи с этими рассуждениями, что и сын его, и она, Наталия, будут вместе всегда. Так как любовь их закалялась в борьбе за свободу и одновременно за обладание друг другом. То есть, за обладание чужой свободой. Денис хотел, чтобы она принадлежала ему и только. Но вместе с тем хотел, чтобы он принадлежал себе и только себе. И это всё происходило на глазах у детей с первого дня их рождения, и происходит до сих пор, и формирует их души. И они не видят ничего противоречивого в этом противоречии, что и вылилось в ругань и даже побои. И прервать эту связь, как думал он теперь, может только время. Но и даже время он ставил под сомнение. А отсюда он делал вывод, что любые его надежды и претензии на новый статус его в этом роде, в котором он лелеял свои мечты, не могут быть превалирующими. Денис навсегда останется, видимо, мужем матери своих детей. А он, свёкор, всегда останется мужем матери своих детей. И это уже образовавшаяся ветвь их родословного древа, которую не оборвать никакими бурями жизни.
Но он понимал и другое, что пройдёт время, а оно проходит безумно стремительно, и не будет ни Наталии, ни его, ни Дениса, и даже его внуков. И всё уйдёт в такую бездну небытия, что и представить себе почти невозможно. А если и возможно, то ему было бы страшно туда заглянуть. И ему жгуче захотелось получить теперь всё то, что там и подразумевается. И опять где-то в душе плюнуть на условности. И он стал мечтать о том недалёком времени, когда все они будут, каждый по-своему, счастливы. Он с Наталией. Она с Денисом или без него. Дети с мамой, папой и дедушкой. А Лариса, его покойница жена, будет по-прежнему наблюдать из фотографии на шкафу на эту продолжающуюся пока ещё их жизнь. Жизнь тех, кто появился на этот свет и благодаря ей, как матери своих детей и жены человека, который и пишет сейчас вот эту книгу. И пытается в ней передать, или сформулировать, хотя бы то, что, может быть, и сам почти, или совсем, не понимает. А только чувствует где-то на уровне подсознания. Как принято говорить, чувствует душой. Но где она, душа, никто толком не знает. То она в пятках, то оборвалась, то взлетела так высоко, что телу за ней не угнаться. Но всё-таки во всех этих, и других, случаях она существует. А значит, есть. Ну и, слава Богу. Ведь Бог вложил, или, как говорят, вдул её в бездушное тело. И с тех пор она там и радуется, и страдает, и замирает, а то и отдаётся опять же Богу, когда покидает бренное тело навсегда.
И вот пока она не покинула его до сих пор ещё вполне приличное тело, он и захотел не давать ей киснуть и, таким образом, стал отдалять то время, когда ей придётся безвозвратно отлететь в свой неизвестный даже ей полёт, чтобы, может быть, поселится в каком-нибудь другом прекрасном теле милой девушки. Которая потом и станет матерью таких же прекрасных детей, как его внуки.
И он подумал ещё и о том, что выше этого, то есть выше того, чем отдавать себя другому, как это делает душа, нет ничего в природе. И ему опять захотелось отдохнуть и от столь напряжённых мыслей, дав отдохнуть немного и его беспокойной душе. И он выключил компьютер и включил телевизор в надежде найти там футбольный матч приличных команд мирового класса. А футбол в таком исполнении он любит даже больше, чем своё творчество. И любит ещё и потому, что сам прежде немало играл в футбол; и потому, что видел, как много подлинных творцов бегают по полю в трусах и решают мгновенно на бегу тысячи и тысячи сложнейших математических задач, которые, по его мнению, не сможет решить ни один самый совершенный современный компьютер.
И если они, футболисты, или кто-нибудь один из них, ошибался, то это решало порой исход всего матча. Такова цена малейшей ошибки в его мозгу, что случалась в тот момент, когда по ногам его, может быть, ударяли бутцем с такой силой, что ломались кости, или, в лучшем случае, его увозили с поля на тележке, чтобы уже вне игры делать ему заморозку этой части ноги; и таким образом на время освободить его от нестерпимой боли, и вернуть снова в бой, борющегося за престиж страны или клуба, к которому относился он, этот гениальный математик и выдающийся спортсмен.
И только, когда он, проходя через прихожую, шёл на кухню или в туалет, и в висящем на стене зеркале случайно видел себя, то он поражался тому, как он, оказывается, поразительно похож на известную скульптуру Вольтера, не менее известного скульптора Родена.
Посидев ещё молча несколько минут за компьютером, он вдруг записал в его память ещё пару мыслей. Вот они:
?Мне кажется, что вся легковесная современная литература идёт от Агаты Кристи, которой удалось найти способ пощекотать читателю нервы, и создать иллюзию, как будто он даже и мыслит во время чтения её книг. Но это только иллюзия. А, в самом деле, он просто слепо и безвольно следует за её гениальной мыслью.
И таким образом она совершенно лишает человека потребности и возможности думать?.
?Где-то несчастье, а эти уроды в это же время обязательно говорят о падении или росте курса акций на фондовой бирже?.
?Развенчание реалистического искусства и замена его всякой чепухой довели человечество до того, что люди разучились воспринимать чужую боль, как свою?.
?Когда в этом мире деньги сосредоточены в руках глупых людей, они не могут иметь первостепенного значения.
Питер Гринуэй.?
?Он очень любил в себе способность его мозга вызывать чувства, приводящие его к наслаждениям сексуального характера, пробуждающие в нём такие фантазии, при которых он счастлив. Они же, эти чувства, приводили к ещё более высокому и прекрасному наслаждению, как ему казалось, какого он не получал никогда ранее, когда был моложе?.
Эту последнюю довольно длинную фразу он сформулировал, когда уже давно выключил компьютер и после просмотра программы ?К барьеру?, переключив канал, наткнулся там на какой-то сериал, где молодая красивая полностью обнажённая женщина сидела верхом на молодом мужчине, лежащем на кровати на спине, и тоже полностью обнажённом, и производила такие страстные с нарастающей силой и скоростью движения нижней частью своей фигуры (а их она ещё и сопровождала движениями по неопределённой кривой, похожей на цифру восемь, но достаточно смещённой по отношению к плоской поверхности кровати), что он не удержался и, встав с кресла, начал, подражая им, получать то же удовольствие, какое получала она, та женщина, а не просто изображала его только для съёмки, как это часто бывает в сериалах. Или даже в так называемых профессиональных фильмах порнографического свойства. Где партнёры бесконечными дублями и ракурсами так измучены, что никакого секса у них уже давно не получается. А только жалкая пародия на него. Отличить настоящий секс от бутафории не может, видимо, только тот, кто им никогда не занимался сам. И не только с женщиной или с мужчиной, но и с самим собой тоже.
И тут вот и пришла ему в голову мысль, которую он здесь же записал, включив предварительно компьютер и перестав дальше смотреть канал, где кульминация в отношениях между двумя влюблёнными, как обычно это бывает даже в плохом кино, не показана зрителю. И действие для зрителя обрывается тогда, когда нам хочется весь процесс досмотреть до конца. Но окончание процесса как раз и не несёт наблюдающему того наслаждения, какое получают в этот момент сами исполнители его. Тут уместнее не смотреть на них, а самому приблизить кульминацию в своём члене в этот момент. И довести в себе процесс до полного его завершения. И таким образом использовать культуру, в данном случае сексуальную культуру, или эротическую, для того, чтобы полностью понять, что же это такое: секс по телевизору, а не по телефону.
Вчера вечером, уже засыпая, и получив перед этим очередное море сексуальной радости и мнимой, и реальной, от продолжительной близости с Наталией, он вывел формулу, которую ему захотелось записать в ту же минуту. Но вставать среди глубокой ночи и опять включать компьютер он поленился. И, более того, он просто не смог встать, так как не смог расстаться с Наталией, что и после получения ею удовлетворения от секса, оставалась с ним в такой близости, что он не позволил себе грубо нарушить это положение вещей. И вдобавок ещё она заснула. И он не стал её тревожить и продолжал оставаться в этой позе, стараясь запомнить фразу, в которой он и закодировал, как ему казалось, закон любви. Звучала эта фраза так:
?Если после совершения полового акта с женщиной вам не хуже, чем во время его или до него, то это и есть любовь?.
И вот теперь уже утро. Он проснулся от страшного стука. Как будто кто-то неимоверно сильно стучал в какую-нибудь дверь, или повалил что-то большое, нарочито сильно ударяя этим большим об пол. Тревога вырастала в его душе. Подозрение падало на Глеба. Он же в это время увидел перед собой ?Купальщицу? Ренуара с запрокинутыми за голову руками. Так же руки и его в это время были за его головой на подушке. И он представил себе, что он почти повторяет ту позу, что и на картине Ренуара была у купальщицы. Но он был прикрыт покрывалом больше, чем она была прикрыта полотенцем, которым, может быть, только что растирала своё молодое прекрасное тело. И он подумал, что он не вызвал бы у неё влечения к себе своей фигурой, если бы она, купальщица, сейчас лежала на его месте, а он висел перед ней в виде картины какого-нибудь Ренуара наших дней. Он понимал, что не мог бы быть секс-символом или даже просто натурщиком для художника, пишущего картины такого свойства. Но это только при первом поверхностном взгляде на проблему. Но если бы художнику в своей картине удалось передать его внутренний мир, то он, конечно, произвёл бы на умного зрителя не меньшее впечатление, чем, может быть, производят его лучшие картины прошлого, в которых, как правило (и в то время это было модно) воспевалась красота женщины, а не мужчины. Правда, тогда это называлось женственностью, а не сексуальностью. По крайней мере, на Руси. На великой Руси. В которую входили и Курляндия, и Лифляндия, и все другие земли и народности, и народы, объединённые не всегда добровольно в могучее, уважающее себя государство, которое развивалось по своим законам, и никогда не позволяло себе плестись в хвосте цивилизации, как это случилось теперь,
подумал он.
Потом в комнату заглянул Владик. И он, дедушка, спросил у него, что там случилось. Но Владик ему ничего определённого на этот счёт не смог сообщить, и тревога в нём от этого не уменьшилась. Он стал бояться того, что, может быть, это Глеб в плохом душевном состоянии. А такое может отразиться неблаготворно и на детях. А они и так, по его мнению, лишены той безмятежной радости детства, которая предполагается родителями для своих детей. И особенно бабушками и дедушками. И тогда, встав, он всё-таки вышел из своей комнаты и, зайдя в комнату Наталии, увидел там, что она с детьми собирается на съёмку. Об этом он знал ещё вчера, но сейчас забыл. И теперь понял он, почему Владик, заглянув до этого в его комнату, не вошёл туда, как обычно, а, выразив что-то глазами, пошёл назад. Он посчитал тогда взгляд его грустным и даже печальным. Но теперь он понял, что это был больше сонный взгляд человека, которому хотелось бы ещё поспать, а не вставать и одеваться для того, чтобы идти на целый день зарабатывать деньги на съёмке. Пусть на съёмке фильма, что само по себе престижно и даже интересно. Но всё-таки очень тяжело, как он не раз убеждался в этом и сам. Да, дедушка Владика неоднократно участвовал в массовых и групповых съёмках, и знал на собственном опыте, как это порой тяжело без конца повторять ситуацию, из дубля в дубль усиливая напряжение душевных и физических сил, пока не кончатся и силы, и время, и плёнка, предусмотренные для этого дня.
И вот они ушли. И вскоре Глеб, прослушав по телефону чьё-то обращение к нему, связанное с какой-то работой, которую, видимо, он где-то сейчас выполняет, тоже ушёл. И ему тогда стало намного легче. Он любил такие минуты, когда в доме никого нет и можно спокойно и неторопливо что-нибудь сочинять вообще, а в данном случае продвигаться медленно и, как ему казалось, всё-таки верно, по пути, который он себе наметил сам.
Ещё ему понравилось сегодня то, что Наталия обратилась к нему с просьбой поменять доллары на рубли, или одолжить ей пять тысяч на всякий случай, так как ей не хочется (да и не осталось на это уже и времени) идти в обменный пункт, чтобы поменять там пять долларов на реальное платёжное средство. А она знала с его же слов, что он недавно получил пенсию, и у него есть свободные деньги. Он ей предлагал их, не все, а частично, уже тогда, когда они собирались к её родителям. И тогда она отказалась. А теперь, когда она сама обратилась к нему, он почувствовал то, что постоянно хотел чувствовать, как влюблённый в неё человек.
Он почувствовал, что он ей нужен. И это в его душу вселило такой поток радости, что он опять стал большим оптимистом в вопросе их будущих более близких отношений, о которых он всегда мечтал.
Он почувствовал себя способным добиться в жизни многого. И в том числе, и почти невозможного. Радость эта даже увеличилась тогда, когда он узнал, что совсем и не Глеб был причиной грохота, что разбудил его сегодня в последний раз. Это в маленькой прихожей, разделявшей большую прихожую и комнату Глеба, продавилась под неимоверным весом коробок с огромным количеством детских игрушек полка, на которой и стояли эти коробки, поставленные на лежащую на той же перекладине пластмассовую крышку стола, использованную вместо полки. Она же своим весом и продавила, в конце концов, эту перекладину, и загремел с таким шумом, что и стал причиной его тревоги сегодня утром. И хоть вся конструкция была довольно прочной, и вот уже на протяжении двух месяцев исправно служила своему предназначению, но пришёл по какой-то причине момент, когда она дала сбой.
Теперь же, когда Глеба нет дома, он может и должен пойти и привести её в порядок. А Глеб после телефонного звонка ушёл, видимо, на работу. Так как в разговоре по телефону, кроме прочего, упоминались и какие-то гвозди, и что он знает, где они лежат, и как туда проникнуть.
Но идти ремонтировать полку не хотелось, так как он знал, что малейшая внутренняя потребность сесть к компьютеру должна им использоваться незамедлительно, иначе он не справится с поставленной им же перед собой задачей: в кротчайший срок, который, пересмотрев его, он сократил ещё более, он должен написать семь томов о Наталии, по сто пятьдесят станиц каждый том, завершив всю работу к 3 июля 2004 года. Ко дню освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Хотя Белоруссия не была освобождена вся 3 июля. Но в Минск Советская Армия вошла именно в этот день. И вот этот день и стал условной датой освобождения Белоруссии. И был всенародным и самым главным праздником для белорусов вот уже на протяжении шестидесяти лет.
А он, наш герой, тот день до сих пор помнит так, как будто бы это было даже не вчера, а происходит вот сейчас, сегодня. И происходит ещё и в эти минуты. И помнит он его в таких подробностях, что мог бы, если бы стал сейчас описывать этот день, заполнить, по крайней мере, половину тома своей книги теми волнующими событиями, что и запомнились ему в этот день. Что он, может быть, и сделает вскоре. Или когда-нибудь позже, когда время будет подводить его к той дате, где он и наметил в лучшем случае, если так получится, завершить написание этой ?Саги о Наталии?.
Конечно, он не исчерпает, таким образом, всего, что волнует его и наполняет его душу теперь. И он надеется, что будет наполнять её и в дальнейшем. Но он получит удовлетворение оттого, что прожил этот миг, этот замечательный миг, не поленившись зафиксировать его хотя бы в той форме, которая доступна ему сегодня. А сегодня он ещё имеет возможность не только думать о ней, и переживать чувства к ней в своём воображении, но и быть постоянно, ежедневно, не менее одного или двух раз в сутки в близости с ней. Он просто счастлив. И не может позволить себе не сделать всего того, что, может быть, когда-то поможет и ему (когда он будет, не дай бог, больным и недвижимым, читая свои же строки) вновь переживать это счастливое время, которое он ценит так высоко теперь, за что и тысячекратно благодарен Господу Богу, если он существует и сделал это для него.
Надо бы пойти починить полку. Но он в нерешительности. Он колеблется между двумя желаниями. Одно - продолжать книгу. Другое - пойти не только чинить полку, но и прикоснуться душой и где-то и руками к тому, чего только что, вернее, недавно, касалась Наталия, и что окружало её и её детей. Пойти в их комнату и посмотреть на неубранную постель, в которой они сегодня спали. Или просто вспомнить тот взгляд, когда она смотрела на него тогда, когда он разговаривал с ней и о полке, и о съёмке, и о деньгах, что он в это время доставал из кармана, и с полной откровенностью, искренностью и душой предлагал ей на всякий случай больше, чем она его попросила одолжить. И делал он это не навязчиво и, как ему казалось, так же, как всегда поступала в таких случаях его мать, когда уговаривала собеседника, или собеседницу, взять у неё тот или иной предмет, которым она считала нужным поделиться с ней, или с ним, в этот миг по внутреннему побуждению и абсолютно бескорыстно, как всегда поступает порядочный человек, способный переживать чужое горе, а, следовательно, и способный помочь справиться с ним другому человеку. И это зависит не от материальной обеспеченности помогающего, а от его душевных качеств, или от отсутствия таковых, когда человек не помогает кому-нибудь, нуждающемуся в помощи.
А уговаривала она только тогда, когда давала, а не старалась взять. Взять она никогда не старалась. И вот теперь он любит в Наталии, видимо, больше всего то, что и она склонна чаще отдавать, чем брать. И только когда кто-то не оценивал по заслугам её душевную щедрость, это её глубоко ранило. Тут он уже говорит о своей матери. И в этом случае, о котором мы с вами говорили, когда его сын не способен был оценить, какой брильянт в его руках, он тоже был очень огорчён тем, что он, его сын, даже не замечал теплоты тех ярких граней и тихих щедрот, переливающихся в нёй, в Наталии, способной подарить и покой, и счастье, а не светить поддельным обманчивым светом искусственного камня, иногда выполненного довольно эффектно, но никогда не излучающего подлинного тепла.
Денис ударил вчера этот бриллиант по лицу только за то, что он не смог и не пожелал светиться фальшиво, а продолжал отражать в своих гранях всё то, что и окружает его. И в том числе неблаговидное лицо человека, в какой-то момент зазнавшегося и переоценившего свои силы. И, вообще, пошедшего вопреки и против законов природы, тем нанеся самому близкому человеку боль.
И всё-таки он решил дальше не писать, а пойти починить полку, и выключил компьютер.
Когда он его включил снова, прошло уже приблизительно полчаса. А за это время он успел и починить полку, что так тревожно его сегодня утром разбудила, и успел сходить в комнату Натальи. И даже попробовал там заняться сексом, наблюдая воспалённым взглядом за её верхней и неверхней одеждой, которая была частично сложена в открытых шкафах, и в не меньшей мере была развешена на дверцах этих же шкафов, или разложена на кресле-кровати, которую ни разу, или один только раз, использовали по назначению за весь этот небольшой период, прошедший с того дня, как она, Наталия, с детьми переехала сюда.
Но с сексом у него, как он почувствовал, тут может ничего и не получиться. Да и не захотел он этот акт совершать теперь с нею тут без неё. И ещё он мог не получиться и потому, что не далее как шесть часов тому назад он уже совершал его с ней в своей кровати. И уж слишком много впечатлений и воспоминаний возникало в нём оттого, что каждая единица её верхней, и не верхней, одежды, будь то кофта или платье, или брюки, или любые трусики, что лежали тут же, на полках рядом с бюстгальтерами и другими деталями женского ночного и не ночного туалета, включая и ночную рубашку подлиннее, и совершенно коротенькую (такую он любил в молодости видеть и на своей жене, и до неё такую же, на семнадцатилетней дочери доктора филологических наук); так вот, наблюдая всё это обилие вещей, что наводило его на эти воспоминания, не дававшие ему заниматься тем, чем он хотел заняться тут с Наталией сейчас, когда она была уже где-то в пути туда, где и должна состояться съёмка эпизода будущего сериала, что и была намечена режиссёром на этот весенний тёплый солнечный день. Ну, так вот. Он и решил отложить этот акт с ней без неё на другое время.
Сегодня 13 марта 2004 года. Завтра в России, которую он по старой привычке считал своей родиной, выборы президента.
И вот тогда он решил пойти в ванну. И там уже получить завершение наслаждения, которое он всегда получал от близости с Наталией.
Открыв душ, используя пахнущее летним лугом мыло, что было куплено Наталией накануне, он очень легко и быстро привёл себя в такое состояние, что он мог ему взамен возвратить те неповторимые ощущения, что появляются тогда, когда мозг ваш и любит, и лелеет, и бережёт то существо, что и
вызывает в вас это неповторимое
ощущение счастья.
Когда же дело стало доходить до того, что ему нужно было принимать трудное решение: продолжать ли сдерживать себя (что в этом состоянии делать очень трудно, но хочется) или сделать всё для того, чтобы приблизить эту ни с чем несравнимую радость оргазма и всё-таки получить его, и именно сейчас. И он, в конце концов, как и всегда в прошлом, конечно же, выбрал второе. И так как он знал, что в квартире никого нет (хотя до конца он в этом, конечно, не мог быть уверен; может быть, кто-нибудь пришёл тогда, когда он тут в закрытой ванне занимается, как теперь говорят, любовью с любимым человеком), то он не стал сдерживать себя и издал неимоверно громкий звук, напоминающий звук умирающего от нестерпимой боли человека где-нибудь в пламени пожара или на костре инквизиции. Крик этот сопровождался словами: ?Как хорошо, Натальюшка! Милая!.. Аа-а-а-а-а!..?
После окончания завершающей фазы процесса, посмотрев в зеркало, он увидел там довольно большой и достаточно красный предмет его вожделения, но уже полуопущенный в ванну и потерявший ту силу, упругость и стремление куда-то ввысь, какими он был исполнен всего несколько мгновений тому назад.
Переведя взгляд выше, он увидел в зеркале счастливое молодое лицо глубокого и небритого старика. И улыбнулся ему так искренне и правдиво, что лицо это стало ещё моложе, и одновременно неизмеримо старше, чем это бывает с его лицом, когда он не в ванне и не в такой момент смотрит на него. Не в момент противоречивых чувств, что и заполняли его душу сейчас.
После чего он стал обтираться полотенцем. И когда он поставил одну ногу на край ванны, а второй стоял в самой ванне, из которой уходила постепенно собравшаяся там от душа вода, так как он теперь открыл пробку на дне ванны и дал воде свободно уходить в трубу; так вот теперь нога его, стоящая на краю ванны, стала вдруг неимоверно интенсивно пульсировать со скоростью семь-восемь ударов в секунду. И ему даже понравилась эта пульсация. Она ему, как ни странно, говорила о том, что он ещё довольно живой человек, если нервы его не могут быть спокойными тогда, когда после завершения полового акта он пожелал бы отдохнуть от напряжения, в которое приводит его его же неспокойный и вечно ненасытный ум. И ему пришлось поставить ногу в более плоское положение, чтобы она перестала вибрировать.
А она стояла до этого на краю ванны на полупальцах. И, к стати сказать, в прошлом одной из его многочисленных профессий была и профессия танцовщика. И он привык вытягивать ногу так, чтобы большой палец её включал в себя всю энергию всего его организма. Этот принцип придуман ещё, видимо, тогда, когда в русских барских поместьях зарождался, в будущем ставший знаменитым на весь мир, российский балет. И для услады бар балетмейстеры тех крепостных трупп доводили тело балерины до такого совершенства, что и стали они, эти балерины, началом, или основой, развития этого вида искусства, который теперь включает в себя сотни и сотни тружениц сцены, добивающихся огромным трудом, и даже истязаниями над своим телом, таких результатов, что наблюдателю со стороны кажется порой, что у балерины такой природный талант, совершенно и не подозревая, что талант этот, это, прежде всего, изнуряющий труд и труд. И труд похлеще труда рудокопа даже ещё в те времена,
когда он, рудокоп, находясь под землёй,
месяцами вместе со слепой лошадью добывал уголь так нужный уже в то время для выплавки стали, из которой и ковалось оружие,
создавшее Россию могучей державой.
И, думая теперь об этом, он обтер себя полотенцем, оделся и направился к компьютеру. И начал сочинять.
*
Идя в сберкассу, чтобы оплатить за телефон и коммунальные услуги, так как принесли, наконец, извещение к оплате, он подумал: ?Ну что ты так упёрся в этом маниакальном желании попасть туда? Ну разве ты не получил пятнадцать минут тому назад третий раз оргазм за сутки? А ещё ведь и не прошло половины дня, как ты начал сегодня счёт этому движению к совершенству через неумолимый зов природы. И, тут можно сказать, и природы твоей психики. И достиг ты предела, упершись спиной в шкаф и, глядя то в окно на зарождающуюся там весну, то на картины, что развешены у тебя перед глазами, и в такой момент в совокупности дают гамму впечатлений своими пейзажами и обнажёнными фигурами натурщиц. И, кончая, ты так визжал, как не смогли бы визжать даже три недорезанных свиньи, если бы их вдруг отпустили на свободу бежать по широкой улице большого села.
Выйди ты лучше на воздух, где ты не был уже не менее месяца. Последний раз ты из дому выходил именно тогда, когда и ходил на почту, чтобы оплатить коммунальные услуги. Да посмотри ты на весёлое солнце. И обрати внимание на собравшуюся на сквере стайку молодых мам, что судачат о чём-то приятном, пока их чада, опьянев от весеннего чистого воздуха и пенья птиц, мирно спят в колясках. А мамы в это время рассказывают друг другу что-то очень приятное, живя, видимо, пока ещё безмятежными жизнями, лишёнными домашних неурядиц, раздоров и взаимных упрёков, так как ещё безумно молоды и сексуальны. И сексуальность в них ещё и дополняется материнским чувством. И это видно на их юных, по существу, ещё детских лицах. Или пройдись вот ты за теми школьницами, что идут после уроков домой и о чём-то, или о ком-то, весело смеясь, разговаривают. И в их речах подозрительно часто встречается слово ?он?, чтобы поверить, что они обсуждают домашнее задание по математике, или даже роман Пушкина ?Евгений Онегин?. Их стройные подростковые фигуры скользят по тающей мостовой, не замечая ни грязного пористого снега, что гибнет прямо у них на глазах под лучами весеннего полуденного солнца, ни весёлых первых весенних ручейков по существу первого по-настоящему весеннего дня. А навстречу им идут парни. Тоже школьники класса шестого-седьмого. И нарочито грубыми голосами показывают, что они не только шестиклассники, но ещё и самцы.
Вот так подумав, он подошёл к сберкассе и, увидел там снаружи здания достаточно большую очередь. А сберкасса ещё не открылась после обеденного перерыва. И, передумав стоять в очереди, он вернулся домой и записал эту тираду в компьютер.
Наталии ещё нет. А день уже почти завершился. Лучи солнца за окном косыми своими стрелами не могут окончательно побороть упрямство зимы и бессильно светят, не пополняя уже замерзающие ручьи влагой. Тишина за закрытым окном кажется ему космической. В доме тоже полная тишина, за исключением мерного тихого гуда ящика, в котором и содержатся все его чувства и мысли, записанные современным электронным способом туда, а ещё и в несколько дискет, которые он постоянно держит в кармане своего кожаного пиджака, и снимает его только на ночь. И то кладёт его рядом с кроватью, чтобы ощущать, что все его чувства и мысли он может в любой момент, если потребуется, например, в случае пожара, унести с собой. А потом уже опять ввести, может быть, в другой компьютер, если этот сгорит при пожаре, и продолжить свою работу над серией книг, что он задумал написать по существу для Наталии. И когда-нибудь, а желательно скоро, завершить её.
Больше всего он любит свои произведения видеть в форме хорошо изданной, но по его эскизам, книги. Пока, правда, ему ещё не приходилось держать сво. книгу в руках. Изданную старинным способом, что в наше время не у многих пользуется популярностью. В наше время больше любят посидеть часок-другой за Интернетом, и по причине его неограниченных возможностей рассматривать там какую-нибудь ерунду, совершенно, или почти совершенно, не имеющую отношения к тем неизмеримым богатствам культуры, которые можно было бы почерпнуть через Интернет, если бы в этом была потребность у тех, кто не любит читать книги. И только через книгу, через настоящую книгу, можно придти к Интернету, чтобы пополнить пробелы в знаниях. И сделать это гораздо легче, чем это можно сделать без него. Я бы допускал к Интернету не тех, кто без грамматических ошибок не может написать даже нецензурное слово, а тех, кто грамотно и талантливо может изложить самую изысканную брань. И изложить её так, что это не оскорбит чувств воспитанного человека.
Ближе к вечеру он сходил на почту и оплатил за телефон и другие коммунальные услуги. И уже идя домой, вдохновлённый наступившей весной, он вспомнил одно своё весеннее стихотворение, и прочитал его вслух. Вот оно:
*
Весна! Природы ликованье!
Пора любви, очарованья.
Ломя, кроша, взрывая лёд,
Весна идет, весна идёт.
А с берегов ручьи сбегают,
Траву и почву обнажают.
И вот уж снег, сползая с гор,
Несёт к реке и шлак, и сор.
Грачи, влетевшие во двор,
Шумят, над липами кружатся.
И тотчас совы спать ложатся,
Заслышав птичий разговор.
Дымит подтаявший навоз,
И земли дух его внимают.
И вот уж он летит на воз,
Его на вилах поднимают.
Потом его свезут на пашню,
И там он ляжет на поля.
И, вспоминая день вчерашний,
Зазеленеют тополя.
О, ты, природы ликованье,
Души прекрасная пора!
Ты раскрываешь дарованье,
Во мне стеснённое вчера.
Теплом и светом обновляясь,
Ты мне волнуешь душу вновь
И, вдохновением являясь,
Напоминаешь про любовь.
?Но хорошо всё-таки, что эти стихи я читал когда-то своему отцу, - подумал он. - И не только эти?.
Без Родины человек не может обрести покой. Даже такой гениальный художник, как Ростропович, мечется по свету в поисках счастья и покоя. И даже его великий талант не даёт его душе успокоения там. И жена его, Галина Вишневская, великая актриса и певица, потеряв корни, не приобрела ничего кроме тоски, что так и сквозит из её потускневшего взгляда. И, напротив, просидевшая не менее десятка лет в ГУЛАГе Анастасия Цветаева, весело бежит по дорожке в свои семьдесят с лишним лет, позируя перед камерой, и читая нам свои стихи, написанные ещё там, среди убийц и насильников, которые уважали её за искренность и ум не менее чем короли и президенты уважают за эти же качества Ростроповича и Вишневскую. Но в отличие от неё, от Цветаевой, они не имеют в душе того покоя, что есть у неё, разделившей со своей Родиной все её страдания и мучения в поисках истины.
Родина - это понятие более чем реалистическое. Родина - это всё. Это боль за всех. Включая сюда и тех, кто её предаёт и продаёт и оптом, и в розницу. И даже иностранные разведки, что разрушают нашу Родину, подрывая её устои, работают, как им, по крайней мере, кажется, на благо своей Родины. Кто же продаёт свою Родину, прежде всего, обворовывает себя, выбивая из-под себя стул, на котором сидит. Конечно, бывают обстоятельства, когда человек вынужден покинуть Родину. Но если есть хоть малейшая возможность вернуться, он должен сделать это незамедлительно. Не обращая внимания ни на какие материальные выгоды и на выгоды честолюбивого свойства. Иначе его душа и после смерти будет скитаться по свету, так и не найдя себе покоя. Родина это всё.
Любите Родину, подумал он, глядя на деревья, пока ещё не имеющие ничего, кроме голых веток и теней от них, падающих на мокрый снег этого только начинающегося мартовского вечера, который встречал он, идя в ближайший гастроном, чтобы купить там десять коробков спичек и хлеб.
Наталья последнее время так много курит, что он не всегда может зажечь газовую плиту, не находя ни одного не совершенно пустого спичечного коробка.
Вчера она вместе с детьми была на съёмке. Вернулись они не очень поздно. Но устали, конечно, изрядно. Особенно устала Наталья. Дети немного кашляют. И он подумал, что вот наступили времена, когда ей надо думать о том, как прокормить детей. И она вынуждена ходить с ними на съёмку даже тогда, когда лучше было бы их подержать ещё пару дней дома, так как они ещё не здоровы. Но зовут на съёмку не тогда, когда дети совершенно здоровы, а тогда, когда это нужно режиссёру. И она вынуждена считаться с этим положением вещей. Дети всё равно не усидели бы дома все эти четыре дня. И при малейшей возможности вышли бы на улицу встречать весну, хотя бы сопровождая Наталью при походе в магазин. Или сходили бы с ней в гости к кому-нибудь, где тоже есть дети их возраста, чтобы не сидеть целый день у телевизора. А тут ещё и неплохо платят. Всё-таки по шестнадцать тысяч белорусских рублей за каждого ребёнка в день, это немало. Если учесть ещё и то, что от Дениса теперь многого ждать не приходится. Да и вообще неизвестно как у него пойдут дела. Правда, мама с папой помогают тоже, и не отказывают ей ни в чём из того, что имеют сами, зарабатывая свой хлеб тяжёлым честным трудом сельских тружеников. Но ей и самой хочется не сидеть на чужой шее. И она бы, конечно, нашла себе работу постоянную. Но дети. И ей хочется быть почаще с ними. И им тоже она ещё более необходима теперь, когда отца практически рядом почти не бывает. А если и приходит он иногда к вечеру, так это не только радость, но и обстановка чреватая непредсказуемыми последствиями. И поэтому она не может допустить такого положения вещей, чтобы дети росли, не чувствуя постоянной заботы и внимания матери, и не идёт на работу, которая отняла бы у её детей самое главное: общение с ней. Она согласилась бы на любую работу, только если бы дети были рядом. А съёмки в кино, это и есть тот вариант, что устраивает и её, и в какой-то степени и её детей.
Слышны голоса Владика и Эвелины. Эвелина кашляет. Но кашель её поверхностный. Он не глубокий. И это говорит о том, что простуда не поползла в лёгкие, а, наоборот, выходит наружу. Ещё день-два и она, видимо, будет совершенно здорова. Или почти здорова. Потому что грипп иногда даёт и осложнения. Но надо надеется на то, что этого не случится. Да и вообще, тут всегда возникает дилемма. Опекать слишком детей и выдерживать их в тепличных условиях так же опасно для их здоровья, как и тот вариант, когда их небольшим простудам не придавать значение, и позволять организму приобретать иммунитет, способность самому вырабатывать лекарства, которые и нужны ему в том или ином случае. Ему, это организму.
Сегодня, видимо, съёмки нет. И хоть сегодня суббота, но он не чувствует, чтобы они собирались на съёмку. Детские голоса глухо слышны там, в глубине их комнаты с закрытой дверью. Иначе они не могли бы быть такими не звонкими. А это признак того, что они не собираются никуда уходить. Ведь верхняя их одежда висит в большой прихожей. И если бы они собирались на студию, они бы не изолировали себя от остальных помещений квартиры, а наоборот, бегали бы то на кухню, то в туалет, или заглядывали бы к нему, прежде чем уйти.
Вчера, когда они были на съёмке, особенно
под вечер, очень скучала их кошка Пати.
Но вот он вдруг слышит, что там громко плачет Эвелина. И он не может больше сидеть за компьютером и выходит туда. И узнаёт он причину её огорчений. Оказывается, её поцарапала Пати. И вот в этот момент она уже в Алисиной комнате. И, приоткрывая туда дверь, он видит её прекрасное заплаканное лицо. Маленькие косички на голове, удерживаемые в вертикальном положении цветными колечками, надетыми на них, торчат так мило вверх, что слёзы её ему теперь кажутся не столь трагичными. И он хочет верить в то, что через минуту она успокоится совсем и не будет плакать. И даже помирится с Пати, и будет её по-прежнему любить и ловить, бегая за ней по комнатам и стараясь снять её со шкафа, когда та, спасаясь от преследования, залезет туда.
Но с ним, с дедушкой, она в этот момент не захотела общаться. И прикрыла за собой дверь в комнату Алисы, и, оставшись там, перестала плакать. И он снова пошёл к компьютеру и попытался описать эту сцену. Но, как ему показалось, у него ничего не получилось. И он всё стёр. Вернее, не не получилось, а, как ему показалось, получилось чрезмерно сухо. Или с той степенью любви, которую, как он думал, может, он и не заслуживает, если он не сумел так воспитать сына, чтобы не случилось того, что и случилось. Но тут он, как и не раз в прошлом, углубился в размышления на тот счёт, что в воспитании детей не всё зависит только от родителей. Тут включаются и десятки других причин, которые влияют на формированье личности. И всё это так сложно и многогранно, что при желании можно придти к выводу, что в любом случае виноваты все, а не только родители, или не виноват никто, и жизнь развивается по своим законам, против которых нельзя бороться никаким воспитанием, тем более что все мы родители, и тоже не воспитаны до такой степени, чтобы не совершать ошибок при воспитании своих детей. Цепочку этих размышлений можно продолжать. И таким образом попасть туда, где человек ещё даже не ходил в шкурах. Если он, конечно, был уже тогда человеком.
В таких рассуждениях его и застал тот момент, когда в его комнату вбежал Владик и, спросив разрешение включить телевизор, и получив его, включил ту программу, где начинался какой-то любимый им мультик. А любимых мультиков у него было такое количество, что программу эту можно было бы безошибочно включать в любой момент. И вот, посмотрев на экран не долее трёх секунд, он убежал из комнаты, толкнув случайно дедушку в плечо. И тот написал на экране монитора какое-то бессмысленное буквосочетание. А через открытую при убегании Владика дверь он услышал телефонный звонок, и потом услышал приятный ему голос Наталии, снявшей трубку и ставшей разговаривать со звонящим. Разговор продолжался довольно долго и накладывался на что-то подгорающее на кухне на сковороде. И это был такой впечатляющий образ действительности, приносящий ему радость, что назвать его иначе как счастьем, он не мог. Потом он услыхал, как Глеб скребёт сковороду ножом, освобождая, видимо, её от остатков того, что только что подгорело. И он стал записывать эти свои переживания в компьютер, понимая, что не сможет даже сотой доли передать того, что он чувствует. Но это не имело для него теперь никакого значения, почувствует ли когда-то его читатель, если таковой будет, хоть что-нибудь из того, что чувствует он теперь. Он просто не мог не фиксировать то, что чувствовал, как что-то такое, что можно характеризовать как явление большее, чем жизнь. И только понятие вечность или счастье могли приблизиться как-то к тому, что он в эти минуты переживал. Голос Наталии перестал быть слышимым, когда она взяла телефонный аппарат и ушла в свою комнату. И там продолжила разговор. Но он, едва угадывая в обшей не очень шумной тишине отголоски её разговора с кем-то там, наслаждался теми интонациями, которые содержались в этом повествовании, несущем ему не понятия, связанные с самим содержанием разговора, а те закодированные вечностью послания, что в последнее время всё яснее и чаще открывались ему, и проникали в его душу при посредстве этого великого космического инструмента - её голоса. Душа его переживала такое чувство, которое сравнить он, конечно, не мог ни с чем. И только музыку Моцарта он ставил рядом не как отражающую это его состояние, а как равную ему по силе воздействия на его душу, и дополняющую его, это состояние, ещё одним счастливейшим состоянием некогда поселившимся в нём навсегда.
Он вспомнил Паустовского. Когда-то он прочёл всего, может быть, одну или полторы странички из его рассказов о природе, где в лесу он, Паустовский, встречает деревенских женщин. И описывает их и своё состояние в неразрывной связи с природой как что-то цельное, нераздельное, прекрасное и вечное. И то впечатление, которое на него тогда произвели эти строки, он вспомнил теперь как тоже что-то очень чистое и большое, достойное того чувства, которое поселилось с некоторых пор в нём, и растёт там и в количественном, и в качественном отношении. И он подумал о том, что бренность жизни, её конечность и неурядицы в пути, неимоверно маленькая плата за то счастье, пусть хоть однажды, пусть даже на небольшой срок, пришедшее к нему, чтобы не почувствовать себя частью чего-то настолько великого и прекрасного, что в сравнении с ним даже гибель миров не кажется ему трагедией. Так как, как думал он теперь, то, вечное, всё равно останется в этой видимой пустоте и будет благотворно влиять на неё до тех пор, пока она снова не приобретёт гармонию, что и будет достойна великого чувства, чувства любви.
Как он любит их голоса!.. Особенно голоса Эвачки и Наталии. Нет, конечно, он помнил и голоса своей матери и своего отца, и низкий гортанный голос своей двоюродной сестры Тамары, которая одновременно была родной сестрой супруги известного белорусского поэта Пимена Панченко. И все они, те голоса, по-своему прекрасны. И характеризуют их хозяев. И открывают чуткому слушателю этих голосов то, что не может раскрыть ни одно даже самое тщательное досье.
Но голос Наталии возвышался над этими голосами неисправимой искренностью и внутренней добротой, которую он смог сравнить только с голосом его матери. И отец его, правда, тоже великий мученик, всю жизнь стремящийся к истине, обладал неповторимым и неподражаемым голосом, который до сих пор звучит в его сознании, хоть отца его уже нет в этом мире почти двадцать лет. Но он не мог забыть ни одной нотки этого довольно резкого и почти всегда раздражённого голоса, и, вместе с тем, несущего в себе беспокойство достойное самого благотворного покоя, потому что оно, как ему кажется теперь, не давало уснуть тогда, когда это смертельно опасно из-за внешней тревожащей и, он бы даже сказал, подстерегающей тишины.
И вот этот букет голосов источал для него такое количество оттенков и ароматов, что в этом благоухании можно продолжать жить даже тогда, когда ты не только лишён всего земного, но и, например, попал под землю взорванную снарядом упавшим около тебя, и похоронившим тебя заживо, закопав твоё тело около образовавшейся воронки, присыпавшей твой изуродованный труп выброшенной оттуда землёй. Но ты ещё слышишь те далёкие голоса самых близких тебе людей. И ты не один. И это прекрасно. Воображение твоё в сочетании с памятью не даст тебе остаться одному даже под землёй. И ты спокойно уйдёшь из жизни туда, где будешь вновь общаться с обладателями этих голосов там, в вечности.
Пати опять тоскует, выражая своё неудовольствие жалобным мяуканьем, которое больше похоже на стоны, чем на кошачью потребность высказать что-нибудь вразумительное, что было бы понятно не только человеку, но и всем остальным обитателям этого мира.
Дело в том, что уже середина марта, а ей до сих пор не предоставили друга для любовных утех и потребности организма, что и возникает у представителей её рода весной. А породы она какой-то ценной. Не просто уличная кошка. И отдать её в объятия любви вот так просто бездомным котам нельзя. Породу принято содержать в чистоте. И это уже задача не самой кошки, а её хозяев. И Наталья планирует совершить этот нужный акт. И это, как она говорила когда-то ему, произойдёт на условиях взаимной выгоды. И она взамен за эту услугу отдаст потом хозяевам кавалера одного из котят, когда они родятся от любви.
Но сейчас он слышит раздражённый голос Наталии. Она, видимо, не довольна поведением Владика. Он чаще раздражает её чем Эва. Особенно когда нужно выполнять домашнее задание. А он никак не хочет, или не может, сосредоточится на нём. И всё время, отвлекаясь, делает ошибки. А потом снова переписывает неудачную запись. И на это уходят и силы, и время. И расстройство Наталии от этого только увеличивается. Да и он от этого ничего не выигрывает. Но рассеянность его как бы оправдана возрастом, а неусидчивость является одновременно и недостатком и достоинством. Потому что человек его возраста, если он вдобавок ещё и усидчив, то это человек добровольно лишающий себя детства. А детство, это та пора жизни, где закладываются все будущие составляющие её элементы. И к ним обязательно относятся и такие, как не только подвижность ума, но и подвижность тела, от которого зависит и сексуальная сила человека. А она уже в свою очередь, развивает в человеке и ум, и стремление к успеху. Она-то и зовёт rax на подвиг. И вот о ней и надо, как казалось ему теперь, в первую очередь заботиться, когда думаешь о будущем своего ребёнка. В общем, как говорят испокон веков в народе: главное, чтобы ребёнок рос здоровым. А наклон почерка во время выполнения домашнего задания по письму не столь важен. А если и важен, то больше для учительницы, чем для самого ученика.
И вот раздражение Наталии по поводу недостаточных, как ей казалось, успехов в школе её пока ещё единственного обучающегося ребёнка, его огорчало крайне. Но высказать свою точку зрения по этому поводу он не то, чтоб не хотел. Он и высказывал её как-то, но совсем в другой приятной для них обоих обстановке. Когда они беседовали на кухне после того, как дети уже уснули, а она пришла туда покурить. Теперь же он понимал, что раздражает её не столько невнимательность Владика, и из-за этого небрежно написанные им слова, а то, более существенное и для неё, и для всех близких ей людей, что в себя включало, конечно, и то, что отец её детей принес им столько огорчений. И ему оставалось только сопереживать тайно, или почти тайно, свои чувства к ней, и уповать на то, что время, может быть, когда-то решит многое из того, что их теперь беспокоит и огорчает. И, как говорится, время поставит всё на свои места. Но и само это понятие, поставить всё на свои места, ему казалось неправильным. И, прежде всего потому, что оно содержало в себе большой процент статичности. Жизнь же хороша, как он думал теперь и считал всегда, своей не статичностью. И хоть она несёт и радость, и огорчения, но тем она и хороша, что радость возрастает многократно, когда она вырастает из покидающих вашу душу огорчений. И в этих изменениях вечно неспокойной души он видел смысл существования. И благодарил судьбу за то, что она дала ему понимание этого. И он жил.
Зашла Наталия. Дети в это время смотрели мультики и ели жареную крестьянскую колбасу с хлебом. Она села на диван и стала ему что-то говорить о том, что, видимо, два или три дня ей придётся одной, без детей, поработать в съёмочной группе ?чайницей?, и ему тогда придётся справляться тут с детьми одному, то есть забирать Эвачку из садика и с Владиком выполнять домашние задания. Но она говорила, а он её почти не слышал, используя ту редкую возможность слушать её и одновременно видеть её так близко, любуясь нужным его душе её прекрасным лицом, таящим в себе и красоту, и доброту, и ум, и нежность, и ещё что-то близкое к этому, что порой называют родством душ. Но он не мог открыто выражать ей те мысли и чувства, что бушевали в нём в это время. И он смотрел на неё так, как будто он не наслаждался довольно редкой для него возможностью наблюдать её, а слушал её по сути вопроса. Но тут же он понимал и то, что его стремление скрыть от неё его настоящее состояние, конечно же, отражается на его лице с удвоенной силой, которая и говорит ей о том, как он относится к ней, и что он считает себя не в праве быть с ней до конца откровенным даже после того, как он ей в последний раз открылся в своих к ней чувствах где-то около месяца тому назад. И с тех пор вот и пишет свои романы, как искупление за это счастье, что подарила она ему. За счастье её любить.
Она же сидит перед ним и, рассказывает ему о чём-то. А он, конечно, ничего не упускает из её рассказа, но сам в это время где-то далеко и выше. И там он наедине с ней. И, значит, и она не только тут, в этой комнате, но и там, на таком же диване, может быть, как этот. Но совсем в других заботах. И там она, видимо, думает об этом разговоре, что и послужил поводом для того, чтобы попасть туда. И не потому, что она этого очень хотела. А потому, что он сейчас без неё не может жить. А в ней душа русской женщины. И вот она, душа, и не позволяет ей остаться равнодушной к его чувствам к ней.
И вот так думая, он одновременно отвечал ей на её слова, и даже уточнял детали, и задавал вопросы там, где их можно было и не задавать. Но для того он задавал их, чтобы она не сомневалась в том, что он её всё-таки слышит, хотя и одновременно находится где-то там, где и она его тоже слушает, но совсем по другой заботе.
Потом Владик нетерпеливо вклинился в их разговор. И тут она его довольно твёрдо прервала, сказав, что когда разговаривают взрослые, надо сперва дождаться, чтобы они закончили разговор, а потом уже выражать своё мнение по тому или иному поводу. Ему же показалось, что она была с ним слишком холодна. Хотя и понимал он, что с воспитательной точки зрения она должна была поступить именно так, как и поступила. Ведь Владик вклинился в их разговор тогда, когда услыхал, что ему, может быть, придётся с Эвай всё лето провести у бабушки Иры и дедушки Сергея в деревне, если её, Наталию, на всё лето, а это не исключено, возьмут в группу работать ?чайницей?. И тут она, поняв, что была с ним слишком строга, хоть и справедливо строга (заметим тут мы от себя), стала ему более мягко объяснять, что она вынуждена зарабатывать деньги. И спросила его, может ли он вместо неё заработать их. И тут же поправилась, вспомнив, что он тоже уже зарабатывает на съёмках, как и она. И сказала, что ты, Владик, ведь тоже уже зарабатываешь. Эти слова были адресованы не только Владику, но и Эвачке, которая тоже уже не менее четырёх раз зарабатывала своим талантом. А в её способностях к игре, или в таланте артистическом, уже никто не сомневался. Не хватало пока ещё, правда, случая, который мог бы помочь ей уже в дошкольном возрасте заработать и для мамы, и для себя довольно приличные деньги, если бы случай помог её таланту быть замеченным режиссёром, и она была бы востребована в съёмке какого-нибудь фильма для детей, где и сыграла бы сколь угодно главную роль. И сыграла бы хорошо. Но, к сожалению, теперь фильмов для детей не только снимают мало, но и не снимают вообще. Почему-то считается, что урбанизированных американских мультиков достаточно для формирования характера в современном мире. А такие драгоценные бриллианты, как Эвачка, не нужны уже, и не могут найти себе оправу в кинематографе. И в этом он видел противоречие между талантом и возможностью его проявиться в наше время для более широкого круга зрителей, чем тот, в котором она жила и росла, и радовала, конечно, окружающих своей непосредственностью больше, чем огорчала. А кого и когда она огорчала, и было ли такое вообще, он не знал. Такого он за ней не замечал.
И вот теперь стоит она возле стола и ждёт, пока он закончит записывать эту фразу в компьютер о ней, об Эвачке, и уступит ей место, чтобы она нарисовала новую заставку для монитора или выбрала одну из многочисленных игр, и поиграла в неё. И именно в ту, которую она больше всего любит. В ?Погоню?. И он уступает ей место у компьютера.
Уйдя на кухню, он увидел там, на табурете, детское и недетское бельё, выстиранное недавно Наталией в стиральной машине, и теперь лежащее большой стопкой на табурете. А сама Наталия после того, как приготовила пищу и поговорила с ним о перспективе ближайших дней, пошла в свою комнату и, кажется, там прилегла, чтоб отдохнуть. Он же, встав с табурета, и уступив компьютер Эве, пошёл на кухню и по обыкновению вымыл всю посуду. А этим он занимается с удовольствием уже на протяжении не менее тридцати или сорока лет. И этот процесс ему давал всегда возможность расслабиться, а заодно и смягчить ладони рук с помощью воды, содержащей в себе жир от пищи съеденной из этих тарелок, что вот теперь он и моет.
Помыв посуду, он захотел развесить выстиранное Натальей бельё на шнуры в ванне, где висело постиранная ею другая партия белья ещё два дня тому назад. И повешенная им же на те верёвки, что были натянуты там им по её просьбе тогда ещё, когда они только перебрались сюда, в эту квартиру, которую он почему-то иногда называл своей. Хотя она, конечно, принадлежала им всем не в меньшей мере, чем ему. И им в ней придётся жить, видимо, многие годы. А ему ровно столько, сколько позволит ему его здоровье и наметит ему его судьба. Правда, человек предполагает, а Бог располагает. И тем не менее.
И вот он пошёл в ванную и стал там развешивать бельё, среди которого была и ночная рубашка Наталии, и двое или трое её трусиков довольно сексуального свойства, специально для этой цели имеющих и наружные кружева, и мелкую розовую сетку в определённом месте. И всё это навело его на мысль о том, что все мужские фантазии, и те, что, может быть, он опишет в своей книге, давно уже известны не только его будущим читателям, особенно представительницам прекрасной половины человечества, но и каждому модельеру женского белья.
Но эта мысль не заставила его пересмотреть свои планы, планы быть в своих романах как можно более откровенным по поводу желаний и фантазий подобного свойства. Наоборот. Это его только раскрепостило. И он подумал: нету ведь закона, по которому считалась бы порнографией сеточка в женских трусиках. Почему же описание той цели, для которой служит эта сеточка в женской одежде на страницах книги, может считаться предосудительным. Ведь для того мы и живём, подумал он, чтобы видеть перед собой тот идеал, который нами принят за образец. А уж что это за идеал, это у каждого своё. И навязывать свои нормы другим людям, вот это действительно порнография в самой отвратительной форме.
Через некоторое время, когда он увидел, что Наталия уже встала и сходила на кухню и в ванную, он подумал о том, что она, видимо, видела, как он развесил уже постиранную ею одежду и, может быть, неоднозначно оценила его этот поступок. Но он готов был заочно принять любую оценку ею его поступка, хотя бы потому, что сделал он это искренно и спонтанно, не думая о том, что из этого выйдет в итоге, и к чему оно приведёт. Да и, вообще, он всегда (но, может быть, раньше в меньшей степени, чем его отец) не очень считался с мнениями других, если поступал, не преследуя какую-нибудь эгоистическую цель, а просто поступал так, как не поступать не мог.
Но к этому его двойственному чувству ?влюблённого юнца? во взрослую женщину с двумя детьми примешивалось и чувство его вины перед ней за то, что он плохо воспитал своего сына. И это принёсло ей столько боли и страданий, что он счёл нужным хоть частично искупить свою вину перед ней и совершенно откровенно и даже с радостью взял бы на себя все заботы по дому, с которыми смог бы справиться. Но, во-первых, такой нужды и не было. А во-вторых, он-то взял бы на себя эти заботы, но это ещё не значит, что ему их доверила бы она, если бы и появилась такая необходимость.
Он подумал и о том, что дети вообще, и в частности её дети, способны вырасти эгоистами. И понял он, что дело в том, что перед родителями всегда встаёт неразрешимая дилемма. С одной стороны родители понимают, что детей надо воспитывать. И делать это надо вовремя и строго по определённой системе. Но с другой стороны родительские чувства им подсказывают и то, что есть что-то не менее важное, чем воспитание. И это что-то это любовь. И вот она и заставляет их прощать детям такие вещи, какие со временем и делают детей эгоистами. Но почему человеческое сердце допускает такую не рациональную вещь? А потому, видимо, что человек, пусть даже подсознательно, всегда знает, что он существо несовершенное. И когда он состарится, или заболеет, то его дети отнесутся к нему так же, как теперь относится к ним он. И их эгоизм может превратиться в свою противоположность в том случае, если их в детстве любили, и прощали им некоторые поступки. И в подражание своим родителям, они будут так же снисходительны к ним теперь, как родители когда-то были снисходительны к своим детям. И наоборот, они будут к вам беспощадны, если даже с благородной целью вы не были терпимы когда-то к ним. Но теперь, когда к вам пришло понимание того, что вы были ранее не правы, стало уже невозможно что-нибудь
изменить.
А по отношению к Денису, к которому он в своё время был более чем снисходителен в сравнении с другими своими детьми, он испытывал сейчас двойственное чувство. В благодарность за прошлое Денис радовал и теперь отца своим отношением к нему. Но, вместе с тем, он приносил боль дорогому ему человеку, его снохе, Наталии. И это сказывалось на его душевном состоянии. И таким образом эгоизм, который он вольно или невольно поощрял в Денисе, в конце концов, вернулся к нему.
Скоро весеннее равноденствие. Дни стали настолько большими, что даже когда он сегодня проснулся, за окном уже было почти светло. Тишь и благодать. По-прежнему в Испании взрываются электрички, в Ираке убивают и своих, и оккупантов. Бен Ладан где-то в горах. Или, может быть, не существует вообще. И никогда не существовал. А просто является легендой, придуманной в ЦРУ для оправдания всех бесчинств американцев, и прекрасно существует в современном электронном мире.
В Москве сегодня самое рутинное мероприятие года, выборы президента. Давно он не видел подобного мероприятия. Ещё с тех далёких времён, когда ходил он на выборы Брежнева. И выборы были безальтернативными.
Так же, как и теперь в Москве.
Мир развивается по своим некогда принятым законам. Если он вообще развивается. И только у него в душе идёт постоянная работа, несравнимая ни с какими катастрофами, что происходят там, по ту сторону телеэкрана.
Прежде всего, он постоянно думает о том, что он будет завтра писать в свою книгу. Во-вторых, его волнует тот вопрос, будет ли это интересно его будущему читателю. И, в-третьих, вдобавок ко всему, почему-то сегодня утром с трудом ему удаётся пробивать на каретке своего компьютера букву ?л?. И вот сейчас, прежде чем заключить в кавычки абзац с обращением к читателю, ему пришлось держать палец на клавише в течение одной-двух секунд, прижимая его с гораздо большим усилием, чем это надо было бы сделать, если бы он захотел этим пальцем открыть наружную дверь их квартиры, которая не совсем легко открывается, так как она несколько перекосилась, как бы подражая пропеллеру. Или решил бы он войти в комнату к Наталии, хотя дверь туда открывается совершенно легко. Но в этом случае он имеет в виду то усилие души, которое потребовалось бы ему применить, чтобы туда войти. Ведь он себе этого не позволяет никогда, так как знает, что это, может быть, последний островок, где она себя чувствует независимо.
И вот он принимает решение выключить компьютер и попробовать через некоторое время включить его опять. В подобных случаях, когда он, компьютер, барахлил иногда и ранее, ему удавалось таким способом избавиться от поломки.
И он его выключает.
Отключив компьютер, он начинает колдовать над кареткой. Он не пытается разобрать каретку, хотя сделать это довольно нетрудно. Но он переворачивает её и вытряхивает оттуда пыль и какие-то волоски, и даже кристаллики сахара, и другие мелкие, и побольше, частицы. Конечно же, они не должны участвовать в процессе написания книги. Перебирая по клавишам пальцами, и держа в это время каретку по-прежнему перевёрнутой, он добивается того, что оттуда выпадает ещё некоторое количество этих посторонних вещей. Но потом выпадение практически прекращается. И он тут вытирает тщательно стол, на который они падали, и в надежде на положительный результат включает компьютер снова. Пока компьютер загружается, он ждёт, и в уме сочиняет ту фразу, которую он впишет после того, как компьютер позволит ему это сделать. В ней он скажет о том, что его действия дали положительный результат. Но на самом-то деле это оказалось не так. И буква ?л? по-прежнему не спешит появляться на экране. А если и появляется, то, как правило, не одна. А вдвоём или даже втроём, если подержать подольше прижатым плотно палец к клавише, под которым она и находится. Это настолько усложняет написание фраз, что не даёт ему возможности следить за мыслью. И он, в конце концов, решает попробовать писать, не обращая внимания на поведение буквы ?л?. Но в этом случае экран сразу заполняется таким количеством подчёркнутых красной чертой слов, показывающей, что слова эти написаны с ошибками, что он и
на этот вариант в душе не соглашается. Ведь потом ему придётся очень долго приводить текст в порядок. Но зато мысль он в таком случае сможет не прерывать для того, чтобы посмотреть на экран, и исправить там вкравшиеся таким образом ошибки. И, в конце концов, он сдаётся и поступает таким образом, что мысль ему не приходится прерывать в угоду правописанию. Пусть, думает он, и выглядит его текст некоторое время абракадаброй, но зато он всё-таки может сочинять. Так как пальцы его уже привыкли к определённому способу творческого процесса. А он до сих пор заключался в том, что хозяин этих пальцев подавал им какие-то условные сигналы, и они в свою очередь выполняли должные ему, хозяину, движения. Во всём этом процессе участвовали ещё и глаза. Но глаза смотрели только на каретку. Так как он не был профессиональным компьютерщиком, и не умел набирать текст, не глядя на клавиши. И вот таким образом, набрав текст, который и включал в себя вот эти строки, что вы только что прочитали, он взглянул на экран и ужаснулся. Экран весь был испещрён красными линиями, подчёркивающими те слова, в которые вкрались ошибки. И тогда он огорчённый и почти в отчаянии стал бороться с ними.
На это ушло минут семь-восемь. И это его расстроило. И огорчило настолько, что он решил ещё раз отключить компьютер и попробовать на это раз раскрыть каретку и заглянуть внутрь. Может, он там увидит и устранит причину его огорчений. Но в это же время вбежала в комнату Эва и принесла Пати. И ему стало настолько легко, что он не захотел больше вообще обращать внимание на букву ?л?, и стал писать о том, что к нему пришла его любимая внучка Эвачка. Она же в свою очередь попросила его позволить ей поиграть на компьютере. Но он ей не разрешил, так как видел, что он и так не вкладывается в те сроки, которые он сам себе наметил для того, чтобы написать обо всём том, что его теперь волнует. И тут Эва попросила его, чтобы он позволил ей сесть ему на колени, а он пусть продолжает свою книгу, если ему так хочется. И он согласился. И тут ему стало писать ещё трудней ещё и потому, что она всё время вертелась у него на коленях, и сбивала его пальцы с клавишей, и, вдобавок ко всему, она в это время ела семечки, и шелуху складывала тут же на стол, перед кареткой. И ещё периодически она просила его почесать ей спинку, и мотала игриво головой. И даже замечала, что в тексте, появляющемся на экране монитора, иногда возникает её имя. А она к этому времени знала уже много слов, среди которых, конечно, было и её имя, и имена всех её родных и знакомых. И вдобавок ко всему она, поворачивая голову всё время в разные стороны, щекотала ему подбородок, и он просто не мог этого больше терпеть, и постоянно чесал подбородок и щёки рукой, часто отрываясь от процесса, который и так шёл у него из рук вон плохо. Но его больше это не волновало. И не волновало его уже и то, что буква ?л? ведёт себя по-прежнему непредсказуемо. Но радовало его другое. Его радовало обстоятельство, в котором ему больше не надо было придумывать никакого содержания для своей будущей книги. И если бы вдобавок ко всему ещё и не барахлил его компьютер, подумал он, он бы мог сейчас написать достаточно много страниц, не задумываясь над тем, понравятся ли они когда-то его предполагаемым читателям, или нет.
Но тут мама Эвы включила пылесос. А ему показалось, что это Глеб включил сверло, так громко и мощно он заработал. И когда он усомнился в том, что это гудит пылесос, Эва слеза с его колен и убежала, чтобы проверить так ли это. Но оказалось, что это действительно пылесос. И Эва к нему больше не вернулась. А он к этому времени уже стал приспосабливаться к барахлящей букве ?л? и почти безошибочно вписывал её в нужное время и в нужное место, нажимая клавишу не сверху вниз, а несколько справа и под углом, надавливая пальцем на угол клавиши, и задерживая это давление до тех пор, пока злополучная буква не появлялась на экране. И, убирая одну из них, если их появлялось сразу две, он продолжал сочинять. От этого процесс замедлялся раза в три, но он не видел другого выхода, и всё больше и больше смирялся с подобным положением вещей. И во время нажатия злополучной клавиши научился переносить взгляд на экран.
Надежда на то, что эта буква, наконец, начнёт себя вести лучше, в нём таяла с каждой минутой. Но появлялась надежда, и это он знал из прошлого опыта всей своей жизни, что он со временем привыкнет к этому дефекту, и практически перестанет его замечать. И он, этот дефект, перестанет мешать ему в работе. А он сам автоматически научится принимать нужное решение тогда, когда злополучная буква будет представать пред его внутренним взором как объект повышенного внимания. И он научится вписывать её в слова так быстро и безошибочно, что не только текст его перестанет быть испещрённым красными линиями, но и сама эта буква сдастся, наконец, и станет себя вести так, как ей и подобает вести себя, то есть нормально, ничем не отличаясь от других букв.
И тут он прервал свои рассуждения на этот счёт, увидев, что он уже действительно справляется с буквой ?л?, как он только что и писал об этом. И его, понял он, не раздражает уже она, и почти не мешает ему появляющуюся мысль вписывать в текст.
К тому же, рядом, на другом столе в его комнате, Эва так бойко стучала большой ложкой по тарелке, в которой было что-то съедобное, что он не удержался и спросил у неё, что она кушает, не макароны ли с молоком. И она ему ответила, перестав на время подносить ложку ко рту, что нет, это не макароны, а кукурузные сладкие хлопья с молоком. И ещё она рассказала ему, что они скоро пойдут в гости, где живут две чёрненьких девочки, одну из них она даже может поднять, такая та лёгкая, и что они возьмут с собой и кошку Пати туда, в гости.
И потом, поев, она пошла бродить по комнатам в то время как Владик справлялся где-то не совсем охотно с математикой.
Через некоторое время Эва вернулась
вместе с Пати.
И вот Владик, на время освободившийся от уроков, тоже пришёл сюда, в его комнату, где уже находились Эва и Пати. И они стали дрессировать её. Не Эву, а Пати, заставляя её прыгать через пояс от маминого тёплого халата. Потом мама опять позвала Владика, видимо, продолжать выполнять уроки, накопившиеся за эти дни, когда он не ходил в школу в связи с ангиной.
Но вскоре, покончив с уроками, она, Наталья, собралась вместе с детьми, и они пошли в гости, сказав ему, что они будут дома часов в шесть. И если кто-нибудь будет ей звонить, чтобы он сказал звонящему об этом. И он сказал ей в ответ, что он уже знает от Эвачки, что они идут в гости, и пожелал им всем всего хорошего.
Когда они вышли, он не удержался и быстро пошёл в Алисину комнату, чтобы там, через окно ещё раз увидеть их в том положении, когда они его не видят.
Сначала появилась Эва. А за ней Владик. И когда появилась в поле зрения Наталья, душа его
затрепетала как овечий хвостик.
Он наблюдал её довольно стройную фигуру абсолютно молодой ещё женщины, которую он с высоты своего возраста принимал за школьницу старшеклассницу, и волновался оттого, что движения её вызывали в нём что-то большее, чем любование любимой им женщиной. В ней было что-то иное, что говорило ему о том, что в ней бушует какая-то неимоверная сила страсти, почти стихийная, и далеко не удовлетворённая ни в её довольно бурной молодости, ещё до замужества, и ни потом, когда она вышла замуж за его сына Дениса. И эта в ней скрытая сила любви наполняла все его сексуальные порывы к ней, и он был растворён в этом чувстве, наложенном ещё и на бушующую вокруг них раннюю весну. Бушующую не в том традиционном в русской литературе смысле, когда деревья уже налились соком или полны первой молодой листвы, и под тёплым весенним ветром рождают, особенно по вечерам, приятный шум. А в том смысле, что зима уже окончательно сдалась, и где-то бушуют потоки проснувшихся, или просыпающихся рек, не устоявших перед силой солнечных лучей, падающих в них уже с такой высоты, что наблюдателю приходится высоко поднимать, или запрокидывать вверх, голову, чтобы видеть солнце.
И вот, провожая их взглядом, пока они не зашли за угол дома и не стали для него не видны, он размышлял подобным образом. А потом он не пошёл к компьютеру, хоть ему и очень хотелось это сделать, и записать своё впечатление и от её голоса, когда она обращалась к нему (а он всегда с большим желанием ждал такой минуты), и от её походки рвущейся к какой-то неизвестной ни ему, ни ей цели. Но, видимо, цель эта не была известна никому. А была только неумолимая потребность в движении вперёд. А может быть, ничего этого и не было вообще, и всё это только плод его болезненной фантазии. Но это не меняло сути. Фантазия бывает намного реальнее самой реальности, если она рождена чувством любви.
И вот он опять на кухне. Всё здесь дышит ею, Наталией. И озарено её заботой о физическом и нравственном здоровье её детей.
Вот в чашке недоеденная Эвелиной каша из кукурузных сладких хлопьев высшего качества, размоченных в молоке или в сливках, что Наталия недавно привезла от мамы. Вот лежат на большой прозрачной тарелке обжаренные ею небольшие рыбки. Видимо, салака. Некоторые из них полу съедены и соединены головами через объединяющие их объеденные туловища. Большинство же из них ещё целы, и источают приятный запах подсолнечного масла. И всё это ему так дорого, что он просто чувствует физическое присутствие Наталии в каждом хвосте и в каждой голове салаки, смотрящей на него её большими и круглыми газами. Потом он обращает внимание на стиральную машину, что прямо здесь, на кухне, почти вмурована в стену и в пол, и видит, что дверца в неё уже приоткрыта. А там он видит через прозрачное окно этой дверцы очередную порцию постиранного белья. И он, как и позавчера, только на этот раз уже не задумываясь, делать это ему или нет, вынимает бельё из машины, и несёт его в ванную комнату. И там, сняв предыдущую порцию белья с верёвок, что уже высохла, и отнеся её в комнату Наталии,
развешивает новое бельё на верёвки.
В его руках то брючки Эвелины, что вызывают в нём нежное чувство, то очередные, ещё более нежные, прозрачные и поражающие его своей сексуальностью, трусики Наталии, что в нём опять же вызывают нежное чувство к ней, но уже не к Эвелине, а к Наталии. И он тут думает о том, что для одного этого, что он сейчас чувствует в своей душе, стоило и родиться, и пройти через всё то, через что ему пришлось пройти. А там было и плохое, и хорошее. А вот уже он держит в руках красные лёгкие брюки, в которых ещё вчера она, Наталия, сидела в своей комнате у телевизора в кресле в такой позе, что он, проходя из кухни в свою комнату, и мельком увидев её, не может до сих пор забыть ту, запечатлённую в его сознании, картину в форме цветной фотографии. И как ему теперь кажется, где-то рядом тут и сейчас находится она, но без этих брюк. А он их, влажные и прохладные, в это время вешает на верёвку. И делает это так старательно, так бережно и долго, чтобы продлить нежную радость общения с ней. И ему кажется тут, что он сливается с Наталией взглядом и телом посредством прикосновения к тем предметам, к которым недавно прикасалась она. И которые хранят в себе ту информацию, что, попадая к нему, обретает уже почти ощутимую сущность в форме Наталии, если так можно сказать об этом. Затем он заглядывает в холодильник, из которого вчера ещё кормила Эвелинку Наталия домашним творогом, что тоже привезла она от мамы. А он, творог, хранился в морозильнике, положенный им же в тот день туда для хранения и употребления в пищу с горячим чаем. Но его на днях Наталия достала из морозильника. И из части его, предварительно разморозив весь кусок, сделала сырники. И постепенно они были съедены. Или их почти съели. Несколько последних доел только что он.
Но творог, что стоит уже несколько дней в холодильнике размороженным, хоть перемешан он с определённым количеством сахара, всё-таки стал уже немного горчить. И когда вчера Эвелина не доела всю порцию, что он щедро положил ей, когда она попросила его чего-нибудь поесть, а мамы дома не было; так вот, когда она не смогла доесть этот творог, и он помог ей доесть его, он понял, что его, творог этот, больше в таком варианте держать нельзя. А он был человеком патологически не выносившим гибели продуктов, потому что всегда чувствовал (и это чувство у него сохранилось с детства), что где-то есть люди умирающие в это время от года. И вне зависимости от стоимости продукта и его количества он глубоко переживал, если продукт портился. И вот тут он взял этот творог, добавил в него муки и сахара и, приготовив тесто для сырников, поджарил их на двух больших сковородах, заполняя сковороды, дважды этими полуфабрикатами, которые он только что изготовил из начинающегося портиться творога. И когда он съел один сырник, он не почувствовал больше никакой горечи. И эту большую тарелку свежих сырников он поставил на самое видное место одного из двух кухонных столов; рядом с газовой плитой, где он их и готовил. А жареную рыбу он поставил в холодильник. Ещё в холодильнике в трёхлитровой банке было определённое количество домашних небольших и очень вкусных огурчиков, тоже привезенных Наталией из дому. Но они сутки или двое простояли на кухонном столе открытыми. И хотя он их потом поставил опять в холодильник, рассол, в котором они плавали, уже забродил. А потом и покрылся пищевой плесенью. А это чревато тем, что и сами огурцы могут потерять свою твёрдость, а вместе с ней и качество. А могут даже и начать загнивать. И тогда он вынул из холодильника эту трёхлитровую банку, что по высоте с трудом залезала на полку, и под проточной водой из крана промыл огурцы и порезанные ветки укропа, и кусочки сырой морковки, и кусочки лука и чеснока, слив предварительно старый рассол. И потом переложил их в две чистые литровые
банки, одна из которых была даже с завинчивающейся крышкой. И, приготовив новый соляной раствор в холодной кипячёной воде, взятой им из чайника, залил огурцы этим рассолом, добавив ещё туда чуть-чуть пищевого уксуса. И поставил обе банки в холодильник. Кроме того, он выбросил из холодильника, один пакет с остатками молока, открытый настолько мало, что из-за отсутствия в самом пакете достаточного количества воздуха молоко это задохнулось так, что им можно было бы и прилично отравиться, если бы выпил его даже он сам. Хотя желудок у него был железный по сравнению с нормальным желудком средне статистического человека-едока. А из второго пакета с молоком отравиться ни в коем случае ещё было невозможно. И вот его он, это молоко, и перелил в пол-литровую стеклянную банку, и поставил тут же её в холодильник на полку. Кроме того, там, в более низком участке холодильника, находились три двухлитровых пластмассовых бутылки, как принято их называть, от кока-колы. А в них соответственно были сметана, свежее молоко и свежие сливки, тоже привезенные Наталией от мамы. Но и они не могут храниться вечно в таком состоянии. И это его тоже тревожило. Но тут он ничего не мог поделать, кроме как предлагать детям иногда горячий чай с молоком или со сливками. И когда они соглашались на его предложение, он в чай старался влить столько молока, что это уже был не горячий чай с молоком, а тёплое молоко, или сливки, с сахаром и водой. И таким образом он споил им часть скоропортящегося продукта. Правда, иногда он и сам прикладывался немного к этим бутылкам ещё и потому, что в них были любимые им с детства продукты, и потому, что он знал, что испортятся они гораздо быстрее, чем будут съедены детьми, если даже он будет им их навязывать и подсовывать, и предлагать ещё более активно, чем он это делал сейчас. Да и не уверен он был в том, что они употребят их, этих продуктов, больше, если он чаще им будет их предлагать. И это случится ещё и потому, что еды им, в общем, всегда хватало. И если им чего-нибудь из еды и не хватало, или в чём-то они видели перебои, так это, к примеру, в каких-нибудь жвачках, или ещё в чём-нибудь, что и едой назвать в обычном смысле этого слова нельзя. В его детстве такого почти не бывало. В то время такие вещи, о которых тут идёт речь, назывались не едой, а недоступной и недостижимой роскошью. Но это уже совсем другой разговор.
Вчера вечером, ложась спать, или, вернее, когда он уже лёг. И лёг не спать. И он это знал. Хотя спать ему, конечно, тоже хотелось. И это он обычно остро чувствует, когда ложится довольно поздно даже по его меркам. Так вот, задремав на мгновение-другое, чтобы нервы его, получившие определённое напряжение за день, расслабились, он ушёл в забытье. И таким образом привёл себя в состояние, которое и является состоянием, предваряющим половую радость.
И тут, поспав минуту-другую, он проснулся и постепенно приступил к так милому его душе занятию. И надо сказать, что и так необходимому ему занятию, так как, как мы уже неоднократно писали ранее об этом, он нуждался в постоянном ежедневном удовлетворении этой функции его организма, если говорить нарочито казённым, а не изящным языком о предмете величайшей силы и радости из всего того, что удалось создать природе в человеке и для человека. А проще говоря, он нуждался в сексе. И вот он подумал уже вторично (первый раз он подумал об этом на днях), что если после удовлетворения этого чувства с женщиной мужчине не лучше, чем до удовлетворения его, или во время удовлетворения, то это не любовь.
Кроме того, постепенно распаляясь, и всё яснее чувствуя на себе взгляд Наталии, которая производит те же действия и те же движения с ним, какие производила буквально полчаса тому назад какая-то актриса в каком-то неплохом фильме, показанном по телевизору, он подумал и о том, что если бы он поступил иначе, и не спал каждую ночь с Наталией в своём воображении, когда она в это же время находится тут, рядом, за стеной, у которой он и лежит, а как ему пришло в голову на днях, дал бы объявление не в газету, а разместил бы его на троллейбусных остановках их района, которое содержало бы в себе соответствующие слова, не дожидаясь того счастливого времени, когда Наталья, в конце концов, придёт к нему сама, то он бы был, как ему думалось, обеспечен каждую ночь настоящим сексом, а не сексом с воображаемой партнёршей. Но, правда, он не был уверен в том, что для него было бы лучше. А объявление он хотел дать следующего содержания:
?Жду каждый вечер женщину очень желанную и желающую близости со мной. Возраст не имеет значения. Фигура имеет значение. Мой адрес: ?гор. Минск, ул. Чайлытко, дом 16, кв. 142?. Приходить в 11 часов вечера, когда внуки уже спят?.
Мысленно развесив это объявление на троллейбусных остановках, он стал ждать первую посетительницу. И она пришла. Это была женщина средних лет. Довольно крупной фигуры. Озабоченная, конечно же, как и он, в этом смысле.
И вот она разделась в полутьме, или явилась к нему уже раздетой, этого он не помнит. Но помнит он, что он её не встречал, а продолжал лежать на спине, и на нём сидела в это время Наталья и производила продольные движения по
его члену своей нанизанной на него прекрасной фигурой. Но, вместе с тем, он в это время мысленно и воочию наблюдал пришедшую к нему женщину, стоящую недалеко от его кровати на фоне окна, за которым, как он теперь видел, висела полная круглая луна. Мысленное и зрительное виденье чёрного пушка волос чуть-чуть выше того места у Наталии, где он, как говорят, не мог быть бесстрастным, вызвало в его голове желание и необходимость сочится. И, сочась, он окутывал себя в непостижимо гладкую плазму, от которой поверхность его становилась настолько гладкой и скользкой, что в свою очередь вызывала прилив небольших порций подобной плазмы там, где всё больше и больше приближалось мгновение, когда он уже не сможет следить ни за собой, ни за той женщиной, что стояла обнажённой рядом с его кроватью и ждала своей очереди. И вот подошёл тот момент, когда он уже не знал (и не мог знать, так как в этот миг всё для него исчезло, и сознание его, как говорят, затуманилось). Так вот, не знал он теперь, с кем он сейчас, с Наталией или с той женщиной. И не знал он этого ещё и потому, что никак не мог представить себе подлинную Наталию столь страстной и неуправляемой, какой была та Наталия, с которой он сейчас и завершал процесс. Но пока женщина, что стояла перед ним, не была с ним близка, она была им желанна. А когда всё закончилось с Наталией, и он только представил себе, что на нём сейчас будет не Наталия, которую он безумно любит, а эта вот крупная и только что как бы желанная им женщина, как он захотел, чтобы она быстрее ушла. Да и вообще в такие мгновения, после полного удовлетворения, над ним тяготело обычно чувство, увы, противоположного свойства в сравнении с чувством, что было в нём до удовлетворения страсти, или в момент его. Вернее, в момент получения самой вот этой радости. Ему теперь стало даже думать страшно, что он должен после всего, что произошло, ещё и провожать вот эту женщину, пусть даже только до двери их квартиры. Провожать женщину далеко не близкую ему, как близка ему Наталья. В такие минуты он признавался себе, или почти признавался, что женщины ему, видимо, совсем не нужны. Но тут он вспомнил тело его жены Ларисы, которое отзывалось в нём на каждое прикосновение его к нему, к этому телу. И пусть не всегда положительно, но всегда неся большую информацию о себе. И он понял, насколько это всё было богаче даже самого страстного и прекрасного онанизма, пусть и с воображаемым до мельчайших подробностей дорогим тебе человеком. Но это всегда подделка. И она только тогда терпима, когда нет реальной взаимной близости любящих друг друга людей.
Сегодня уже пятнадцатое марта. А у него набрано только тридцать три страницы печатного текста второго тома. Правда, страницы гораздо большие по площади, чем в первом томе. И для написания всей книги их ему понадобиться не сто пятьдесят, а только сто двадцать. Но всё равно он должен торопиться. Ему не терпится написать хотя бы три тома, чтобы в случае чего представить их себе, а может и Наталии, как маленькую трилогию. Ну, уж брату он, конечно, даст их почитать, если у того найдётся свободное время для этого занятия. И так круг его читателей увеличивался в худшем случае до двух человек, что, конечно, с удовольствием примут от него его книги, но прочесть их в ближайшее время сможет, может быть, только Наталия. И то это будет в том случае, если Владик закончит свой первый класс, и она освободится от части забот связанных с детьми, отвезя их на лето к родителям. Но всё равно он собой доволен хотя бы потому, что ему уже удалось буквально на пустом месте написать один том, который он пока не хочет перечитывать как цельное произведение и старается даже забыть, о чём там идёт речь в подробностях, и полностью теперь сосредоточен на написании второго тома. И если ещё позавчера его по утрам волновал вопрос, о чём писать, то теперь его больше волнует вопрос, как писать, пропуская неправильно написанные слова с буквой ?л? или сразу приводить их в надлежащий вид. И он выбрал второе. И вот уже на протяжении, может быть, пятнадцати минут пишет эти строки, что вы и прочитали с того места, где он начал писать с ближайшей красной строки. И указал он там на то, что сегодня пятнадцатое марта 2004 года. Понедельник.
Наталии дома нет. Детей тоже. Вчера Наталия, готовя с Владиком математику, очень нервничала, и позволяла себе громко и даже оскорбительно на него кричать за то, что он, как всегда, был во время выполнения домашнего задания рассеян. Но злилась она, видимо, больше не потому, что он был рассеян и допускал ошибки в тетради, а потому, что она сейчас в таком состоянии, что самой ей нужна, прежде всего, помощь, или просто деньги, которые Денис должен давать на детей. А он их или не даёт последнее время совсем, или даёт так мало, что ей самой нужно искать пути решения этой извечной проблемы - где взять деньги. Киногруппа, которая пригласила её в качестве ?чайницы? на два дня, пока отсутствует основная ?чайница? в связи с похоронами кого-то из её родственников, не решает проблемы. А если и решает её, то на какую-нибудь неделю, не более. И то вряд ли. Так как ей нужно ещё платить и за спутниковый телефон, к которому она и привыкла, да и Владик привык звонить ей по своему телефону, беспокоясь за неё, когда ему покажется, что её слишком долго нет, и ему нужно удостовериться в том, что с мамой всё в порядке, и можно продолжать дальше смотреть мультики в присутствии дедушки и Эвелинки, и небрежно выполнять домашние задания, не придавая почему-то учёбе должного внимания, не поддаваясь ни на какие уговоры и увещевания взрослых. А учится он в экспериментальном классе, где собраны дети с некоторыми повышенными способностями. И там даже нередко приходится что-то платить, что не делается родителями в обыкновенных классах. Но и обучение, правда, там такое, что при всей небрежности выполнения Владиком домашних, да и классных заданий, дедушка видит, что Владик уже обладает такими знаниями, какими не обладал он, дедушка, в своё время даже в четвёртом классе, а не в первом, хотя и был тогда почти круглым отличником.
И вот, думая теперь о том, что Наталия вымещает всю свою досаду на ни в чём неповинном сыне, он вспомнил те слова, что она на днях говорила его сыну и своему мужу, когда тот поднял на неё руку. Она говорила, что он этим только показывает свою слабость. И вот так же и она теперь от слабости ведёт себя с Владиком так, как вёл себя с ней её муж, его сын. Более того, его, дедушку, огорчает и то, что она не понимает всего того, что в своё время не понимал и он, когда, занимаясь со своим старшим сыном Глебом, хотел решить проблему волевым способом, если тот также был порою, и, даже тут будет уместно сказать, часто бестолков. Но это ведь не помешало ему, Глебу, когда он подрос, и особенно когда для этого появились соответствующие условия, то есть необходимость, показывать в учёбе, да и в работе, достаточные результаты, чтобы не иметь упрёков со стороны старших.
Наталия же этого не учитывает, чего в своё время и не учитывал он. И не понимает она этого теперь, когда по возрасту и по жизненному опыту ей и полагается этого ещё не понимать. Но ей кажется важным то, чтобы Владик уже теперь готовил себя к жизни. Ему же, Владику, так не кажется. Ему чертовски хочется нагуляться. Как, между прочим, и его дедушке хочется этого и до сих пор, И хочется всё больше и больше. Да и Наталии хочется того же, чего хочется и им. И вот как у неё не стало такой возможности, гулять, она и стала теперь предъявлять к Владику повышенные требования. Но добиться она хочет своей цели, к сожалению, не теми методами, какими можно её добиться, этой цели. И вообще в жизни ничего нельзя добиться без терпения. И в этом случае тоже. А не криками и, что постыднее всего, оскорблением и унижением того, кто слабей тебя, и не может тебе ответить тем же.
Но сказать об этом Наталии он, дедушка, не решается потому, что любит их всех, и в данном случае ещё и щадит её самолюбие. Да и сама она, конечно, понимает, что она больше не права, чем права. И, чувствуя это, Владик ей прощает многое. И всё-таки, когда, сделав, наконец, уроки, он играл или баловался с Эвачкой, он чувствовал, что внутренне он подавлен и унижен тем, что он как бы тугодум или слюнтяй, каким его в один из своих последних приходов назвал его отец и дедушкин сын Денис. И тогда, в тот раз, Наталия не на шутку обозлилась на Дениса, и высказала ему всю правду по этому поводу. Она сказала, что поступает он так потому, что чувствует себя растерянным, и проявляет, таким образом, только свою слабость. И дедушке, беседуя с ним на эту и другие темы, она тоже тогда сказала об этом. И рассказала, что раньше и она злилась на Владика за его несерьёзное отношение к учёбе. Но потом пересмотрела свою позицию, и теперь старается как-то ему помогать в этом вопросе, а не просто требовать результатов. И дедушка с ней был в этом согласен. И сам при случае занимался с Владиком не только терпеливо, но и с предельным, как ему казалось, уважением к внуку, как к личности. И Владик, видимо, это чувствовал, и отвечал ему тоже повышенным вниманием к изучаемому ими в это время предмету. И Наталье это нравилось. Но одновременно она видела и то, что дедушка взялся за очень трудную и ответственную для него работу, взялся он за написание десяти романов за очень короткий срок. И поэтому, как он стал последнее время замечать, не очень позволяет детям мешать ему это делать. Сперва ему даже показалось, что она к нему, может быть, охладела и как к дедушке её детей, и как к её одному из ближайших родственников. Но он быстро отогнал от себя эту мысль, прежде всего потому, что и дети тянулись к нему, и он тянулся к ним. И, как она видела, в таком случае у него всё меньше оставалось времени для написания того, что он задумал. Тем более что она видела, что и по ночам он больше не спит, чем наоборот. И она, видимо, думала, что делает он это потому, что днём, особенно во второй половине дня, когда Владик приходил из школы и включал в его комнате телевизор, ему не хватало времени для творчества. Но это было не так. Дело обстояло иначе. Дело обстояло так, что только при условии, когда жизнь в их семье будет идти произвольно, ему будет о чём писать. И только в этом случае его книги будут восприниматься будущими его читателями как жизненные, а не как дешёвая подделка под жизнь. А по ночам он не столько занимался творчеством, сколько занимался просматриванием телевизионных любимых им передач, смотреть которые так часто не разрешали Владику. И вот таким образом и развивались события. И сейчас, когда он стучит по клавишам, он замечает, что буква ?л? всё чаще и чаще выбивается правильно, без излишних стараний с его стороны, чтобы она появилась на экране монитора одна, а не вдвоём, или даже втроём. Или вчетвером. И это его настроило на оптимистический лад.
И он решил, что сразу как Владик придёт из школы, он прекратит своё печатанье, и попробует с ним как можно безболезненней и как можно лучше выполнить хоть часть домашнего задания. И постарается он проявить педагогический такт. Ведь он теперь понимает, как нужно воспитывать детей. А своих детей он воспитывал, наивно считая, что дети видят как он живёт, и будут ему во всём подражать. А они и не видели этого, и, тем более, не подражали ему, а жили и воспитывались так и тем и там, где влияние на них было таким, каким оно им и подходило по их внутренним наклонностям к тому или иному роду деятельности в тот момент их жизни, а не навязывалось как что-то очень важное, а предлагалось как игра, в которой, конечно, должен содержаться и элемент соперничества, и элемент риска, так необходимые душе молодого человека, в том числе и душе ребёнка. И они выросли такими, какими выросли. И Наталия в этом смысле, как он думал теперь, была тоже не исключением.
За окном весна. Но уже не та весна, что была вчера. Солнца нет и в помине. И грустная задумчивая осень вполне сравнима с этим состоянием сегодняшнего дня. Снег лежит молчаливым убывающим и тяжёлым пластом на готовой уже проснуться земле. И она, земля, ждёт, когда он окончательно, но теперь уже в отсутствие солнца, незаметно медленно растает. И пойдут процессы. И, как говорится, земля оживёт.
Но описывать дальше природу ему расхотелось. И, выдав такую, в большей степени шаблонную картину природы, чем прочувствованную, он, как ему казалось, вовремя остановился, чтобы не доводить дело до смешного, так как не был сейчас в том состоянии, в каком иногда бывает, когда ему действительно хочется любить каждый ручей и каждого ползущего вдоль него жука, спасающегося от стихии. Правда, вчера, когда он делал сырники, и после завершения процесса убирал со стола, стирая его от слоя муки, в котором раскатывал тесто для сырников, он частично просыпал муку на пол. И когда он протирал эту часть пола половой тряпкой, он нечаянно раздавил там микроскопическое насекомое, что появилось неизвестно откуда, и не успело скрыться под днищем кухонного шкафа. И ему стало обидно и больно оттого, что он вот в такую минуту, когда душа его пела от счастья, лишил это существо жизни. И вот описание этого момента теперь, а не вчера, связано с тем, что вчера он не мог даже себе позволить по следам своего преступления описывать его. Сегодня же, немного успокоившись, и в связи с этим взглянув на проблему философски, он может об этом писать. Но описывать грусть природы за окном он не будет. Хотя в своих стихах он не раз уже её воспевал, находясь в то время действительно в состоянии грусти и подлинной любви к такому чувству в себе и в природе.
И тут он вспомнил одно из менее удачных, как ему казалось тогда, но искренних, своих стихотворений о природе.
Осень.
В тихий осенний вечер,
Перед осенним дождём,
С трепетом первой встречи
Все мы чего-то ждём.
Листья с холодным хрустом
Падают на тротуар.
Сердцу взволнованно грустно,
В сердце осенний пожар...
С трепетом первой встречи
Перед осенним дождём
В тихий осенний вечер
Все мы чего-то ждём.
Дальше он не стал вспоминать. Ему хватило и этих строк, чтобы возродить то состояние души, в котором он когда-то писал это стихотворение. Он любил иногда возвращаться в ту обстановку и в то настроение, в которых он был тогда, когда писал то или иное стихотворение, если он его вдруг вспоминал или перечитывал из своей книги уже теперь, по прошествии, может быть, тридцати, а то и сорока лет после того, как оно было написано им.
В подражание лучшим поэтам он тоже стал лучшим поэтом. Но, к сожалению, к этому времени закончилась эпоха изящных искусств.
Сегодня ночью, наконец, к нему пришла Наталия. И первое, что она попросила, так
это чтобы он сперва сходил в душ. Но он принял противоположное решение. И сходил туда после. И сходил туда после вместе с ней. И там они, увидев друг друга после, пришли к выводу, что совсем и не зря они встретились тут обнажёнными и не насытившимися ещё друг другом в достаточной мере. И тут они после и во время душа повторили то, что они сделали до того в постели. И оказалось, что и этого мало. И тогда уже они, наслаждаясь друг другом, стали намыливать те места, которые сами намылить себе не могли, так как находятся они, эти места, не там, а совсем наоборот. Они мылили друг другу спины и одновременно не могли быть безразличными и ко всем остальным частям их одинаково молодых, как им казалось теперь, тел. И это было так хорошо и так неожиданно для него, что он подумал, не сон ли это. Но, ощупав себя, и даже легонько ущипнув за руку, он понял, что это не сон. И тогда он стал целовать её в её прекрасные влажные губы и обнимать её далеко не осиную талию. Но ниже талии он нащупал то, что, как ему казалось в этот миг, теплее и прекраснее, чем та часть её тела, что называется талией. Если не считать, правда, её губ, которые были не менее прекрасны, чем её бёдра. И он снова подумал о том, не сон ли это.
И тут он проснулся.
И каково было его удивление, когда он увидел в полумраке ночи, что она действительно стоит теперь перед ним, но одетая, и не предлагает ему пойти в душ, а спрашивает его, не сходить ли им сперва в душ, а потом уже... И тут он подумал, что и это всё тоже как-то странно. Но на этот раз он уже не сомневался в том, что это не сон, и привлёк её молча к себе и стал целовать в губы, одновременно помогая ей снимать с себя верхние одежды. И когда дело дошло до трусиков, он на ощупь понял, что это были как раз те из них, что он буквально вчера держал в руках, когда развешивал в ванне постиранное ею бельё. И он удивился тому, что трусики эти столь же прохладны теперь, какими они были в тот момент, когда он их взял из общей стопки постиранного белья и вешал на верёвку. И тут подумал он, что, может быть, и никакой Наталии с ним сейчас нет, а это просто память, сохранившаяся в виде ощущения, повторяется в его задремавшей руке. Потому что он очень желал этого. Но рука его тут же потянулась к её уже обнажённой груди и почувствовала совсем другое, более тёплое тело. Она, его рука, чувствовала что-то настолько упругое, и в то же время мягкое, что он прижал эту роскошь к своим губам. И потом, нащупав сосок, стал его сжимать и перекатывать губами, от чего вся она, Наталия, а не грудь её, ожила и устремилась к нему с ещё большей страстью. И прижалась к нему тем местом, о котором он здесь и не стал даже рассуждать, так как был уже во власти и этого места, и всей её роскошной (пусть и не очень большой по размерам в сравнении с той другой женщиной) фигуры. И проник он в неё так легко и естественно, что Наталия, ещё больше прижавшись своими губами к его губам, выразила тут полное согласие с ним, и со всем тем, что сейчас происходит между ними. И как бы сказала ему таким образом, что она никогда не откажется от него в угоду каким бы то ни было обстоятельствам или рассуждениям на тему нравственности. Для них сейчас не существовало никаких понятий, кроме одного. Они любили в эту минуту друг друга. И пусть пройдёт ночь и ничего подобного никогда больше не повторится, но отнять у него это ощущение, ощущение обладания ею, никто уже не сможет никогда.
И здесь он, наконец, действительно проснулся и ничуть не удивился этому двойному сну, подобные которому, между прочим, он, но, правда, на другие темы, видел и в прошлом, и не однократно.
А за окном была глубокая ночь. И ему теперь ещё предстояли минуты счастья, но уже не во сне, а наяву. И опять же всё с той же его снохой и любимой им женщиной, и матерью его внуков, Наталией.
?Преуспевающие бизнесмены, это ограниченные люди. Они не видят второго варианта. Варианта сохраниться порядочными людьми?. - Эта мысль, которая пришла ему в голову вроде и не кстати теперь, поразила его своей простотой. И он подумал, что он может её забыть. И поэтому сразу записал в компьютер для того, чтобы потом вписать в будущие страницы его книги.
Когда-то в моде был джаз. В его время джаз был всепоглощающим. Или он был тогда молод, и поэтому ему казалось что это так. Но и голодное время не омрачало праздника души, приносимого настоящим джазом. Конечно, не совсем настоящим. Не тот вариант, где ещё не знали постиндустриального общества, и джаз исполнялся исключительно чёрными и исключительно так, как его некогда исполняли на африканском континенте. Но это ещё и не был джаз, который уже рассказывает о том, что он был когда-то в расцвете и неимоверно популярен и любим и в Европе, и в Америке. Это был тот джаз, который был первоисточником оптимизма после второй мировой войны, когда и он, и мир были ещё полны чувств и надежд на лучшее будущее. Тогда ещё в душе его (и на теле) не было лишнего жирка, и голос его, и голос джаза, звучали открыто и доверительно. И порою с невольной слезой. Но с такой нежностью и с открытым забралом, что не влюбиться в него было невозможно. Тогда не мог так стоять вопрос: ?Любите ли вы джаз?? Такой вопрос не мог бы быть понят. Это то же самое, что и спросить у живого существа, любит ли оно дышать. В то время девушки были девушками. И если одна из них кого-нибудь полюбила, или вы полюбили её, то это обязательно кончалось свадьбой. Или, вернее, надо сказать тут так: начиналось свадьбой. А заканчивалось уже в наше время, лет через пятьдесят-шестьдесят, а то и семьдесят. И заканчивалось разлукой. Но вынуждённой разлукой, когда один из них умирал. Разлукой на то мгновение, пока второй не завершит все неотложные дела и не последует за ним. Чтобы там уже не расставаться никогда. И это тоже был джаз. А джаз это, прежде всего, труба. А трубач это душа джаза, если не больше. Трубач это всё. И только кларнет или саксофон могут ещё соревноваться с трубой в свободной импровизации, так как они - оба мужчины, и ухаживают за ней, за трубой. Она же всегда ведёт себя так, как будто она никого из них так и не выберет никогда. На самом же деле она давно уже влюблена. Но влюблена она в дирижёра джазового оркестра. И влюблена в него в знак благодарности ему за то, что он позволяет ей на публике вести себя так, как она этого хочет. Но и за то ещё она ему благодарна, что после выступления он предъявляет к ней повышенные требования, и не даёт ей расслабиться и считать себя звездой. Тут нужно сказать и о том, что тогда ещё не было на эстраде столько звёзд, сколько их появилось теперь. И из-за их совокупного света на тёмном фоне времени не видно теперь ни одной настоящей звезды. Они поглощены этим светом. А новые звёзды пребывают в состоянии любви лишь к себе и в постыдном равнодушии к
окружающим.
Нет, джаз это всё. И ему не надо возрождаться. Он вечен. Но только в одном варианте. Тогда, когда он влюблён. И не в
себя, а в публику.
И тут он задумался о себе и о Наталии.
?Его лирическая эйфория постепенно отошла на второй план под грузом забот?.
Так сказал он о себе мысленно.
А по поводу победы социалистов в Испании на парламентских выборах он сказал: ?Дураки! Приходят к власти и радуются тому, что теперь смогут убивать других, и умирать сами на законном основании?.
?В душе был мрак от мелких и не мелких огорчений бытового характера. И в ней же, в душе, была потребность писать и много, и плодотворно о Наталии, о себе и о детях. Но душа не могла справиться с трудностями и тянула его в болото уныния. Руки его не поднимались на что-то такое, что могло бы вывести его душу из этого состояния?.
Перечитав эту тираду, только что сочинённую им, и вписанную в книгу, он увидел, как она противоречива с точки зрения нормальной логики, и как она просто неграмотна с точки зрения построения мысли. И вот теперь, критикуя предыдущую фразу, он опять сбивается на что-то несуразное. А почему? А потому, что одно дело сочинять вымыслы лирического свойства, и совсем другое дело писать, хоть в малейшей степени приближаясь к действительности, которая чаще настолько сложней любого вымысла, что действительно руки опускаются. Но писать надо, оглядываясь хотя бы просто на прошлое, и веря в будущее. И как можно меньше надо замечать то неприятное, что всегда бывает в жизни и, по сути, является ею не менее чем на восемьдесят процентов. Но те один-два десятка процентов радости надо ценить, и не бояться здесь фантазировать, и даже врать себе и окружающим о том, что жизнь прекрасна, и что она бесценна и стоит того, чтобы жить, страдая, сомневаясь, приходя в отчаянье, переживая беды и огорчения близких вам людей, опять радуясь и огорчаясь. А главное бороться с унынием. И только в этой борьбе иногда вас будут посещать минуты удовлетворённости. А сама борьба будет вас отвлекать от огорчений. Идите. Не стойте на месте. Всё равно всё когда-то кончится. Так научитесь ценить дорогу. И полюбите её. Оглядитесь вокруг. Вон там небольшое озеро засветилось под лучами тёплого солнца, и засеребрилось перед грядущей грозой последними вздохами настроения. Вон там, вдалеке, почти голубой лес. А тут прямо перед вами вдруг из-за холма выросла деревня. Идите. Не стойте. И знайте - это ваша жизнь. Пройдите свой путь по возможности достойно. И в конце пути вспомните все пейзажи. Вспомните погоду, что сопровождала вас в пути, не всегда будучи к вам благосклонной. А чаще наоборот.
Сегодня он окончательно понял, что настоящей сексуальной близости у него с Наталией никогда не будет. И он понял это по едва заметным признакам не только для него, но и для постороннего наблюдателя. Но весьма заметным, если смотреть на вещи обыкновенным не предвзятым взглядом, и не так, как смотрел он, и свои фантазии принимал за реальность. А сегодня он увидел, что даже в минуты душевного смятения по поводу его неурядиц с Глебом, да и с Алисой, она всё равно не позволила ему её по-отечески поцеловать, чтобы облегчить и её душевную тяжесть, которая овладевала в это время ею. Она, видимо, поняла его порыв, как желание ещё больше заманить её в сети прелюбодеяния, а потом и затащить в кровать. Он же, понимая её заблуждение, не только не стал убеждать её в обратном, но и обрадовался такому положению вещей. И, конечно же, промолчав, не выдал ничем своё предположение по этому поводу. Потому что понимал он главное. И она не может лишить его этого главного никаким отношением к нему. А главное заключалось в том, что он её, да и её детей, любит. А что касается постели, то постель с ней, пусть в виртуальном варианте, ему, слава Богу, обеспечена каждой ночью. Да и не только ночью. И вот он стал чувствовать постепенное отступление в его душе уныния и хандры. И на смену им тут же пришли чувства прямо противоположные тем чувствам, о которых он только что написал. То есть пришли на смену им оптимизм и вера в себя. А они уже и помогли ему повести себя правильно и в вопросе претензий Алисы к нему в прошлом, да и в этом конфликте Глеба с Пати по вопросу сосуществования людей и животных, в подробности которого, конфликта, он здесь не хочет вникать на страницах его книги. Дело в том, что Пати обписяла постель Глеба, и ковёр его тоже, который он недавно купил, и любил им покрывать свою постель. Да и в Алисину комнату Пати любила заходить с целью и поспать там, а иногда и отправить естественные надобности. А куда отправить? Это она иногда решала сама, не смотря на то, что на должном месте стояла специальная посуда, куда она традиционно ходила для этой цели в прошлом. Но последнее время там не стало специального ароматического песка, и регулярные её походы туда перестали быть регулярными. А газетная бумага, порванная на мелкие куски и положенная туда дедушкой, не очень её привлекала, чтобы посещать сие место для отправления этих самых естественных надобностей. И вот в связи с этим и назрел момент, когда настроение испортилось и у Пати не только по этому поводу, но и ещё и потому, что и март уж ближится, а ?Германа? всё нет.
Наталия держалась внешне, но в душе у неё в это утро было хуже чем... И ей было, конечно, не до его сомнительных поцелуев. И, в конце концов, она всё-таки ушла, чтобы ехать на киностудию или куда-то в другое место (он этого не знал), где уже, видимо, идёт съёмка, и члены съёмочной группы ждут чая и кофе. Или ещё чего-нибудь в этом роде. А больше всего он понимал и то, что между ними, как говорят, и в прямом, и в переносном смысле этого слова пробежала кошка. Но, поговорив с Алисой, которая достирывала в машине обписянное одеяло Глеба, а потом и развесила его над газовой плитой, он почувствовал, что настроение его улучшилось уже настолько, что будто бы и проблемы никакой не было. И отношение Алисы к нему было теперь столь доброжелательным, что он позволил себе, сперва очень осторожно, перевести разговор на тему оплаты за коммунальные услуги, которую он, оплату, а не тему, уже произвёл со своей пенсии, насколько её, пенсии, хватило для этого. Но оставалась оплата за электричество. И вот, заведя разговор об этой трудности в его делах по дому, он довёл его, разговор, в конце концов, до того, чтобы она, уже не проблема, а Алиса, из своего небольшого карманного бюджета выделила ему часть суммы для оплаты за свет. Хотя бы половину. И когда он пошёл на почту, он лишний раз убедился в том, что весна это такое мероприятие, когда никакие, или почти никакие огорчения не могут убить душу нормального (а к таким он относил и себя) человека. Идя по улице, он продолжал писать свою книгу в таких превосходных тонах, что ему было даже обидно, что он сразу не может переводить эти чувства и мысли, возникавшие в нём, в формулировки. Вокруг всё было преисполнено какой-то неистребимой энергии любви и величия чего-то, что и нельзя было назвать конкретно. Но что, как говорят, переполняло его душу. И не давало ему не замечать того, что в почти каждой проходящей мимо него молодой женщине есть то, что и делает её существом неземным. И на губах одной из них он прочёл информацию, сообщившую ему о том, что душа его молода и прекрасна, и только для маскировки нарядилась в этот шутовской наряд возраста, отразившегося больше на лице его, чем на теле. И, тем боле, не на той части тела, главной части, которая у него была, может быть, и моложе, чем у каких-нибудь нескольких молодых людей вместе взятых. И он подумал о том, что Наталия всегда будет с ним. И богатство её души он видит даже теперь в этом внутреннем и тайном, или почти тайном, конфликте с ней. И от этого становится он сам богаче, чем без него, без конфликта. А она, подобно его сыну в прошлом, не замечает бриллиант, который подарен уже теперь ей судьбой в лице его персоны. Сын его, наконец, видимо, понял, что он потерял. А она кроме доброго дедушки в нём ничего пока не видит. А дедушка этот совсем и не дедушка. А если он и дедушка, так только в том смысле, если считать бабушкой её, которая любит его так же, как и пятьдесят лет тому назад любила бы, если бы они встретились тогда. И им чтобы тогда было поровну лет, хоть это и не возможно.
Вот ещё идёт одна молодая женщина с таким же складом молодых прекрасных и чувственных губ, имеющих ещё вдобавок и такую непостижимую форму, что он не может не фантазировать на этот счёт. Вот они, эти губы, нежно касаются его губ. И она, будучи существом возвышенным, чувствует и понимает в нём ту силу исключительности, которая и даётся Богом подлинным талантам. И он вспоминает примеры из жизни некоторых людей, когда молодая жена обожает, например, своего немолодого и гениального супруга. И не за то, что он способен обеспечить её материально (это он с высоты своей исключительности сразу бы заметил, и не был бы с ней ни дня), а просто любит его за талант. И, прежде всего, за талант любить её. К таким примерам он относил и Отелло, Чарли Чаплина, Кончаловского и ещё нескольких известных ему людей такого же склада ума и с таким же сердцем. И он считает, что и он достоин бриллианта в лице Наталии.
Но его радовало и другое. Его радовало то, что вдобавок ко всему, она ещё и просто земная женщина. Да и на руках у неё двое детей. И он понимал, что, может быть, не будь у неё ни детей и ни трудностей, она не могла бы быть тем бриллиантом, в который он так влюблён. Но он всё равно, как и во всех прежних случаях из своей жизни, был уверен в том, что когда-то она пожалеет, если недооценит его достоинств теперь. Хоть относится она к нему и с уважением и даже предупредительно. Предупредительно в том смысле, что явно не выражает свое неудовольствие по поводу его притязаний. Но удовольствие от этого, как он видит, она тоже не получает. Эвелинка же, наоборот, хотя и была как бы копией мамы, но к нему относится крайне хорошо с неподдельной лаской и полным доверием и откровением. И это наполняет его душу нежностью к ним обеим. И ему было немного обидно только из-за того, что она, Наталия, человек проницательный, и столько раз прощавший его сына и отца её детей, не может простить ему его возраст. Вернее даже не возраст, а официальную дату его рождения, которая отстоит от даты её рождения на сорок четыре года, включающих в себя столько же и таких вот вёсен, как и эта весна. Весна, что бушует в его душе. Весна чувств, мыслей и сомнений по поводу того, что такое любовь, и с чем её едят.
Но ничего, думал он, вернётся вечером Наталия, купит специального песка для Пати, Глеб ляжет под чистое выстиранное одеяло, к тому же Наталия увидит и возьмёт те пятьдесят долларов, что принёс час тому назад Денис и положил в её комнате на полку, и ей станет легче. А завтра не нужно будет идти на съёмку. Два дня прошли. И, видимо, завтра возвратится на работу основная ?чайница?. И Наталия сможет уделить больше внимания детям. Вот жаль только, что она не придёт в его комнату, когда дети в ней, в комнате, будут весело играть, мешая ему в это время сочинять за компьютером, доброжелательно участвуя вместе с ними в процессе творчества, как это было ещё какой-нибудь месяц тому назад. Но ничего. Он будет благодарен Богу не только за то, что дети её, его внуки, ему никогда не изменят, но и за то, что Наталия изменила своё отношение к нему в худшую сторону. Ведь, значит, было её отношение к нему в какой-то момент и другим, а не только казалось таковым. Не может измениться то, чего не было. Может меняться только то, что было или есть. И вот это его радовало. Значит, он прожил, и проживает, ещё кусок своей жизни. Пусть с душевными муками. Но ведь и в прошлом его душевные муки побеждали тех, в ком были по-настоящему чёрствые сердца. А у Наталии сердце доброе. И он всё-таки, в конце концов, по прошествии времени, каждый раз торжествовал победу в прошлом. А не признававшие его заслуг люди, и ранившие его сердце женщины, потом сами, вопреки своей воле, испытывали к нему приблизительно те же чувства, что и испытывал ранее он к ним. Но уже ничего нельзя было изменить. И не потому, что он охладел к этим женщинам. Отнюдь. Он их по-прежнему любил. И любит и до сих пор. Всех. Без исключения. Тех, кого любил прежде. А потому, что в сердце его уже эта страничка была перевёрнута. И, видимо, так угодно было Богу, чтобы вместе с радостью любить, человек способен был и прощать, и забывать. И ещё Бог наградил его свойством страдать. И только чередуя эти состояния, его душа и выдавала тот результат, что и называется жизнью. А в ней уже и искусство, где всегда, или почти всегда, старался он отразить весь её, жизни, процесс. И надеется он на то, что это кому-нибудь пригодится. И сослужит хорошую службу. Как служат ему душевные переживания поэтов. Пушкина, Блока, Есенина, Шекспира и других великих людей своего времени.
Он понимал, что он опять безоглядно погрузился в любовные переживания, и теперь чувствует себя так, как чувствует себя человек после безудержной вчерашней пьянки. Когда не только во рту, но и на душе такое уныние и печаль, что хоть ты опять начинай всё сначала. А потом уже пусть будет что будет. Но в эту минуту надо чем-нибудь полечиться.
И он пошёл в ванную.
Когда он вёл из детского сада свою четырёхлетнюю внучку Эвачку, она ему говорила, что она любит ветер и холод, и солнце. И что она любит всё. И любит, когда он говорит ей что-то и в нос, и в ухи. Она имела в виду тут ветер, который ей это говорит. А когда они пришли домой, и она взяла на ручки свою любимую кошку Пати, то она стала ей рассказывать о том, что когда у неё, у Пати, будут маленькие котятки, они будут тянуться к её сисичкам и кусать их, чтобы напиться оттуда молока. И тут она добавила, что это не смешно. Хоть Пати совсем и не смеялась над нею в это время. И даже и не улыбалась, а со всей серьёзностью слушала её рассуждения и урчала, как урчат очень умные и очень добрые коты. Но она, видимо, понимала и то, что это всё-таки смешно.
Говорил он с ней долго на кухне и чувствовал, какое примитивное существо мужчина в сравнении с женщиной. Он имел в виду тут не себя, а большинство мужчин. Себя он не считал просто мужчиной. И просто примитивом. В половом смысле, конечно, он был, как и другие, прост. Так думал он, и таким и остаётся, если половую потребность, созданную в нём Богом, считать примитивной. Но это же чувство и жизненный опыт героя нашего повествования в этом вопросе, да плюс прибавь сюда его почти безграничную фантазию, да и ещё его влюбчивость, если так будет позволено сказать, помогали Наталии понимать с её кругозором и внутренним волнением, которое и в нём отражалось, как в зеркале, в итоге то, что получалось, как будто бы и не такой уж он примитив, этот мужчина, который всё чувствует, знает, не говоря уже о том, что он видит и замечает, и отмечает в себе и в ней такие вещи, как, например, то, что в разговоре с ним, тут на кухне, она довольно часто отлучается в туалет. И почему?
После долгого разговора с ней на кухне о том, как она по существу позавчера вечером прощалась с его сыном навсегда, ставя по возможности все точки над ???, они пошли все вместе в его комнату. А к этому времени Владик уже вернулся из школы, и ещё к этому времени они все вместе, в конце концов, успешно спасали ковёр Глеба от запаха котячьей мочи. И вот в его комнате они не стали ни о чём таком говорить, что детям её желательно было бы и не слышать, а просто сидели в такой обстановке, о которой после вчерашнего холодка, пробежавшего, как им обоим показалось, между ними, он уже и не мечтал когда-нибудь посидеть с ней. Но судьба переменчива. И когда человек влюблён, она дарит ему минуты облегчения. А в данном случае он имел в виду не только себя. И вот она ему делает драгоценный подарок. Он опять полон надежд. И великое чувство семьи, в которой все любят друг друга, переполняет его душу. И пусть нельзя это их единение назвать чувством любви каждого каждым. Но зато она, эта семья, даже иллюзорная, или виртуальная, обладала всё-таки такими качествами, которые и бывают в нормальной счастливой семье. И одно из этих качеств - это ожидание того, что жена его по судьбе, Наталья, когда-нибудь станет и его супругой в жизни. Или наоборот. Не станет ею. Но и это далеко не точно. Сформулировать те чувства и то состояние, в котором он себя ощущал, ему не удавалось. Да это и не важно, думал он. Важно то, что в его душе, благодаря, казалось бы, такому ?пустяку?, как её внимание к нему, происходило то, что превращало её, Наталию, из снохи в невесту. А его из свёкра в жениха. И столько необычного и прекрасного он видел в этом положении вещей, что всё мгновенно изменилось в свою противоположность. Даже во что-то новое и высокое по своим качественным характеристикам, если можно так несколько путано сказать о том, что переполняло и его душу, и его мысли. И ему хотелось писать об этих ощущениях в вопросах любви и семьи, как он её понимал теперь, не будучи в состоянии разделить эти понятия: любовь к внукам и любовь к ней.
Он вспомнил о первобытном строе, когда в ?семье? никто не различал, где мать, а где дочь. И люди жили и размножались (как ему прежде казалось, и как об этом явлении говорили и другие) как скоты в самом примитивном смысле этого слова. Но теперь он в такой характеристике первобытных отношений сомневался. И понимал, что, видимо, часто это было не так. Ведь до сих пор считается, что важней всего в семье любовь. Так что же тут плохого, если он любит. А что семью полагается создавать по определённым правилам? Так на то и существуют они, правила, чтобы были и исключения. Нет правил без исключений. Особенно тогда, когда они, правила, мешают любить. А, значит, и мешают созданию
нормальной в данном случае семьи.
Когда они разговаривали на кухне, она в духовке запекала две пиццы, те, что как-то вместе с некоторыми другими продуктами принёс его старший брат Роман в качестве небольшого подарка по случаю женского дня 8-е Марта. И вот теперь она, вынув из морозильника их, запекла их в духовке. И в этой комнате впервые ела вместе с детьми в его присутствии. Если не считать тех случаев, когда они неоднократно закусывали все вместе за каким-нибудь общим праздничным столом, а не в таком тесном кругу их теперешней семьи. И он понимал, что это делает она и для него. По крайней мере, ему хотелось, чтобы это было именно так. Конфликт её с Глебом заставлял её общаться с ним, со свёкром, теснее и откровеннее, и чаще советуясь, и стараясь найти в нём определённую опору, прежде всего, как у старшего и любящего их всех человека, как у отца. И это было так. И он её, пусть не всегда в совсем ей доступной форме, информировал об этом: о его желании, и даже мечте, чтобы у них отношения стали таковыми, чтобы она и к нему, когда это нужно, предъявляла такие же требования, какие можно предъявлять к человеку, который повинен в появлении Владика и Эвачки на свет. А это ведь было именно так. Пусть через поколение, но он, и никто другой, оплодотворил её. И только поэтому и родились её дети. Не будь его. Или, вернее, не будь некогда полового акта с его стороны с Ларисой, с его женой, и не было бы у неё ни Дениса, ни их детей. А если бы и были у неё дети, то это была бы совсем другая история. И она никак не могла бы быть описана им в этом романе. И вот, благодаря всем этим нетрадиционным рассуждениям, он лишний раз почувствовал, как он любит её, и оправдал в этом смысле себя и свои претензии по поводу счастья именно с ней. Не мог он считать её не своей. Ведь, как мы уже говорили в первом томе, влюбился в неё он раньше, чем в неё влюбился его сын. И с тех пор ни одного дня не изменял ей в чувствах и в мыслях.
Метки: