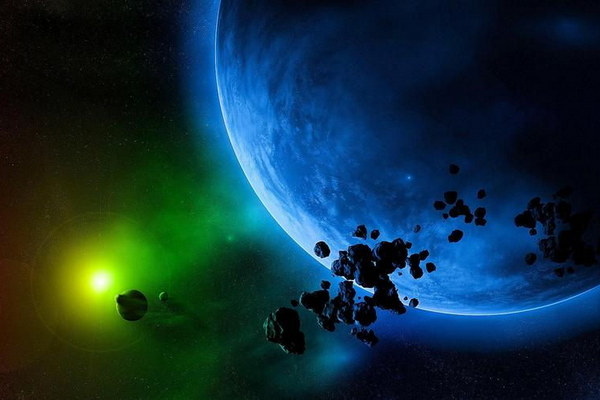Сестрорецкая тетрадь ч. 1
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ
***
Помню о тебе, Клер.
Двадцать лет ты выпутываешься из круговерти,
где, сменив язык, понимают ложь слов;
сменив веру - ложь вер.
Но я ничего не менял с самой твоей смерти.
Чужестранка в модном тулупчике,
сестра,
француженка, заметенная вьюжной Русью,
как след последнего бивуачного костра
армии, в чьих рядах еще бьюсь я.
Двадцать лет я слышу твое парижское ?р?:
- Не религия,
а нежность и нежность спасут друг друга.
С этой,
самой простой и бесстыжей из вер,
ты умерла от стыда.
И замела тебя вьюга.
***
Последнее, что дано убить -
зов, обращенный к трепету,
чью весть
невозможно ни высказать, ни расслышать -
слово тех, кем мы могли бы быть
к тем, кто мы есть,
звучащее тем отчетливее, чем тише.
Мы теплимся на сквозняке миров,
под куполом,
где дух свистит, исходя из цирка,
и шевелимся,
сданные в гардероб,
откуда нас черт выменивает на бирки.
***
Каждая женщина здесь тюрьма
в которой нет места двоим.
Она говорит, что прежде была многолюдным жильем,
поительницей стад.
Но теперь она вычерпанный водоем,
засохший сад.
Я видел:
крики ее над ней кружили,
будто била в колокола
ее темная хрупкость, переломанная чужими
***
В темноте переложу слабые ангельские предметы,
светящиеся от нежности друг к другу.
Света стыдятся они,
ведь это слова любви
испорченных и грешных святых,
слова упрека,
а не молитвы.
Они говорят:
все сотворенные находят жалость у человека -
пес со сломанной лапой,
ворон с перебитым крылом,
дерево, засыхающее от зноя,
больной злак.
Человек собирает вокруг себя беззащитных,
учит сущее миру,
мечтает о времени,
когда лев и ягненок возлягут рядом.
Даже ангелов человек учит милосердию,
но только не Бога.
Они враждуют с давних пор -
отец и сын,
любящий и любимый.
Мир - колыбель их извечных ссор,
поэтому смерть в нем жестока,
а жизнь едва выносима.
Но я прошу только об одном:
не уноси свою боль в угол паутин,
не укладывай в сор тлена,
не пеленай рядном,
пыльным как изнанка картин,
не стягивай в тюк, придавливая коленом.
Человеческую боль надо расстилать на солнце,
чтобы она кричала.
Это ее стыдиться должны небеса.
Мир заброшен ими как поле,
что от ужаса одичало.
Пусть же лицо их разрубит
кровавая полоса.
***
Тронутый дуновением,
перешептывается мыслящий тростник,
уподобленный человеку:
- Не забыты, - шелестит, - не забыты...
Ветер ласкает папирус будущих книг,
или это пальцы того,
кто умеет дважды войти в одну и ту же реку?
Выпадает снег, и спрашивает тростник:
- Господи, за какие провины?
В ответ безмолвие тяжко слетает к нему на плечи.
Он гнется, вглядываясь в тонкий лед,
которым до половины
уже закованы мысли его и речи.
Остановленная, засыпает река,
трижды, четырежды войди в нее и выйди.
Легко дыхание мыслящего тростника,
прерванное на словах
о его обиде.
***
Книга и автор
в переплете из собственной кожи,
человек не бывает окончен,
но бывает дочитан.
Его голос становится громче.
Расставаньем встревожен,
словно лебедь кричит он,
роняющий писчие перья.
Он бы начал сначала,
но нет ему в смерти доверья.
Разве Бог не услышит?
…Человек не окончен,
хлеб познанья его не искрошен.
Почему же он больше не дышит?
И куда
силой легкости страшной подброшен?
Оттепель
Сохнет земля в испарениях боли,
вопль ее страшен, хоть грех ее мал.
Небо очистилось не для того ли,
чтобы глаза мои стыд подымал?
Что же с того, что истлело от пота,
сгнило на теле рядно пелены?
Смерть и рождение – только работа,
и от усилий работники злы.
Не разыщи наших пятен и скверен,
в илах и глинах, где плотью кишим.
Господи-сеятель, будь же нам верен
жатвенной верностью,
и не спеши.
Разве не Ты замешал эту муку,
не от Тебя ли сбежала квашня?
Выпек Ты мир беглецам на разлуку,
И потому наша встреча страшна.
***
Школьница записывает мечты на листке в полоску,
пока чистота ее вьет гнездо меж преисподней и бытом.
Время придет,
и как Рублевская богородица на картине Босха,
она сосцы протянет
и млеко
нечисти даст несытой.
Когда же ты возопишь, земля?
Чад твоих
губят чада.
Почему не пена на устах твоих,
а слякоть?
Виевы веки свои разлепи,
залей в них свет, будто чашу яда.
Может быть это
заставит тебя заплакать.
***
Мы стая раненых,
нам в каждой ране память
и не для нас
отчаянье,
ведь нам исчезнуть некуда.
Весь воздух – их.
Они на крылья опираются,
а мы на раны.
Нам опора
от умершего Бога пустота.
Наш мир погиб,
но где-то
Господь творит другой.
Там, может быть, мы встретимся.
Тогда не отвернись.
***
Помню о тебе, Клер.
Двадцать лет ты выпутываешься из круговерти,
где, сменив язык, понимают ложь слов;
сменив веру - ложь вер.
Но я ничего не менял с самой твоей смерти.
Чужестранка в модном тулупчике,
сестра,
француженка, заметенная вьюжной Русью,
как след последнего бивуачного костра
армии, в чьих рядах еще бьюсь я.
Двадцать лет я слышу твое парижское ?р?:
- Не религия,
а нежность и нежность спасут друг друга.
С этой,
самой простой и бесстыжей из вер,
ты умерла от стыда.
И замела тебя вьюга.
***
Последнее, что дано убить -
зов, обращенный к трепету,
чью весть
невозможно ни высказать, ни расслышать -
слово тех, кем мы могли бы быть
к тем, кто мы есть,
звучащее тем отчетливее, чем тише.
Мы теплимся на сквозняке миров,
под куполом,
где дух свистит, исходя из цирка,
и шевелимся,
сданные в гардероб,
откуда нас черт выменивает на бирки.
***
Каждая женщина здесь тюрьма
в которой нет места двоим.
Она говорит, что прежде была многолюдным жильем,
поительницей стад.
Но теперь она вычерпанный водоем,
засохший сад.
Я видел:
крики ее над ней кружили,
будто била в колокола
ее темная хрупкость, переломанная чужими
***
В темноте переложу слабые ангельские предметы,
светящиеся от нежности друг к другу.
Света стыдятся они,
ведь это слова любви
испорченных и грешных святых,
слова упрека,
а не молитвы.
Они говорят:
все сотворенные находят жалость у человека -
пес со сломанной лапой,
ворон с перебитым крылом,
дерево, засыхающее от зноя,
больной злак.
Человек собирает вокруг себя беззащитных,
учит сущее миру,
мечтает о времени,
когда лев и ягненок возлягут рядом.
Даже ангелов человек учит милосердию,
но только не Бога.
Они враждуют с давних пор -
отец и сын,
любящий и любимый.
Мир - колыбель их извечных ссор,
поэтому смерть в нем жестока,
а жизнь едва выносима.
Но я прошу только об одном:
не уноси свою боль в угол паутин,
не укладывай в сор тлена,
не пеленай рядном,
пыльным как изнанка картин,
не стягивай в тюк, придавливая коленом.
Человеческую боль надо расстилать на солнце,
чтобы она кричала.
Это ее стыдиться должны небеса.
Мир заброшен ими как поле,
что от ужаса одичало.
Пусть же лицо их разрубит
кровавая полоса.
***
Тронутый дуновением,
перешептывается мыслящий тростник,
уподобленный человеку:
- Не забыты, - шелестит, - не забыты...
Ветер ласкает папирус будущих книг,
или это пальцы того,
кто умеет дважды войти в одну и ту же реку?
Выпадает снег, и спрашивает тростник:
- Господи, за какие провины?
В ответ безмолвие тяжко слетает к нему на плечи.
Он гнется, вглядываясь в тонкий лед,
которым до половины
уже закованы мысли его и речи.
Остановленная, засыпает река,
трижды, четырежды войди в нее и выйди.
Легко дыхание мыслящего тростника,
прерванное на словах
о его обиде.
***
Книга и автор
в переплете из собственной кожи,
человек не бывает окончен,
но бывает дочитан.
Его голос становится громче.
Расставаньем встревожен,
словно лебедь кричит он,
роняющий писчие перья.
Он бы начал сначала,
но нет ему в смерти доверья.
Разве Бог не услышит?
…Человек не окончен,
хлеб познанья его не искрошен.
Почему же он больше не дышит?
И куда
силой легкости страшной подброшен?
Оттепель
Сохнет земля в испарениях боли,
вопль ее страшен, хоть грех ее мал.
Небо очистилось не для того ли,
чтобы глаза мои стыд подымал?
Что же с того, что истлело от пота,
сгнило на теле рядно пелены?
Смерть и рождение – только работа,
и от усилий работники злы.
Не разыщи наших пятен и скверен,
в илах и глинах, где плотью кишим.
Господи-сеятель, будь же нам верен
жатвенной верностью,
и не спеши.
Разве не Ты замешал эту муку,
не от Тебя ли сбежала квашня?
Выпек Ты мир беглецам на разлуку,
И потому наша встреча страшна.
***
Школьница записывает мечты на листке в полоску,
пока чистота ее вьет гнездо меж преисподней и бытом.
Время придет,
и как Рублевская богородица на картине Босха,
она сосцы протянет
и млеко
нечисти даст несытой.
Когда же ты возопишь, земля?
Чад твоих
губят чада.
Почему не пена на устах твоих,
а слякоть?
Виевы веки свои разлепи,
залей в них свет, будто чашу яда.
Может быть это
заставит тебя заплакать.
***
Мы стая раненых,
нам в каждой ране память
и не для нас
отчаянье,
ведь нам исчезнуть некуда.
Весь воздух – их.
Они на крылья опираются,
а мы на раны.
Нам опора
от умершего Бога пустота.
Наш мир погиб,
но где-то
Господь творит другой.
Там, может быть, мы встретимся.
Тогда не отвернись.
Метки: