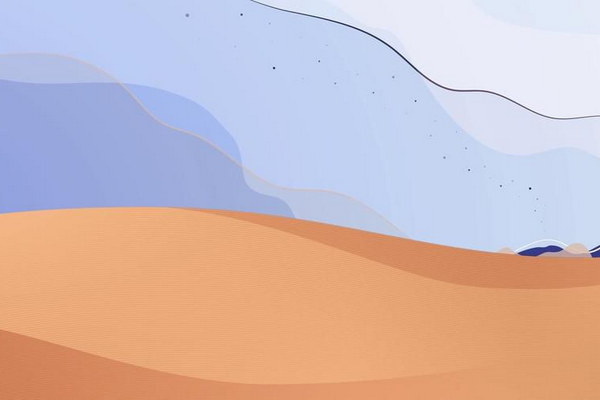Новая семейная хроника
НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА
стихотворения
АНДРЕЯ ДРАГУНОВА
2009
* * *
Мы пили чай из бледно-синих чашек
и как-то нехотя смотрели мы на сад,
что крепко спал в ногах у старой башни.
И выспавшись после гостей вчерашних,
мы пили чай, смотря на старый сад.
1989
* * *
Осьминог, опускаясь на дно морское,
средь коралловых зарослей ищет покоя.
И найдя, зарывается в теплую тину
и вспоминает женщину, что звали Ниной.
Нина – владелица прибрежного кафе.
Здесь по утрам встречают постояльцев,
здесь с иностранцем объясняются на пальцах
и здесь седой полковник в галифе –
с утра...
Море, как всегда безмятежно штормит.
Восемь с четвертью балов. Над ухом шумит:
толи шелест волны о прибрежный песок,
толи дула железо о вспотевший висок...
А может это просто упавший птенец
серой чайки
кричит под ногами прохожих.
Может быть...
- Вы с ним чем-то очень похожи,
Нина.
А может – это просто конец.
?И пора под венец,
да не пустит отец...?, -
размышлял осьминог
зарываясь в песок.
1989
ЭНТОМОЛОГИЯ
Яркое созвездие знакомых –
по учебнику еще, еще из детства.
Длинное гуденье насекомых
вечером под фонарем. Одеться
не мешало бы – в прохладный вечер мая
ветер еще холоден и резок.
Воробьев растрепанная стая
бьется в купол фонаря. Отрезок
времени с подлета до съеденья,
что падение звезды с небес на землю.
Майский жук за радостное пенье
захлебнулся кровью. Кровь на землю
пролилась и растворилась в пыли.
Шум умолк под фонарем и крылья
разметались в небе. Жили – были...
1991
НАТЮРМОРТ
1
Стоваттная свеча под потолком
сжигает тонкий ситец абажура
и стены комнаты вбирают хмуро
свет в воздухе разлитый молоком.
Разбрызганный по стульям и цветам
в горшках на подоконнике горбатом
на швабру переходит, что солдатом
стоит в углу, на первобытный хлам
по комнате разбросанный то там,
то тут, на сломанный светильник,
висящий над кроватью, на будильник,
стоящий рядом. Снова по цветам.
По тонкому сплетенью их стеблей,
переходя от пестика к тычинке.
По выцветшей давно уже картинке,
по девочке смеющейся на ней.
По выпитым когда-то на троих
бутылкам под газетой, по пластинкам,
по одиноко брошенным ботинкам –
давно уже не надевают их.
2
Сломавшийся когда-то патефон,
пустой аквариум, разбитая посуда,
газет истлевших собранная груда,
давно не говоривший телефон,
залитый чаем стол, раздавленная муха,
на два разломленная корочка батона,
три лепестка упавшие с бутона...
И звук не различаемый для слуха –
с той стороны оконного стекла.
А с этой стороны все как всегда:
разбитая посуда, пустой аквариум,
газет истлевших груда,
сломавшийся когда-то патефон,
залитый чаем стол, раздавленная муха,
давно не говоривший телефон,
и звук не различаемый для слуха...
Немой будильник, сломанный светильник,
горбатый подоконник, швабра, пол,
стол, стулья, девочка, распитые бутылки,
окно, кровать, стена, опять окно
и лампочка под потолком, и тонкий ситец абажура
мотыльком
прильнул к стеклу –
все тянется к теплу...
Все, как всегда:
разбитая посуда...
И голоса, что могут без труда
сказать: ?Смотри, как падает звезда...?
ноябрь 1991
ПЕСНЯ ДОРОЖНОЙ ПЫЛИ
1
Находясь в трех минутах ходьбы от родного порога,
отдаешь должное полету мысли и восторга.
Сознаешь себя слагаемым учения Пифагора
и классических статуй.
Но слова типа – Здравствуй –
уже не являются причиной радости
и застолий.
2
Отряхнув пыль с обветшалого платья,
стараешься быть похожим на человека,
освободившегося от чужих объятий
не без пользы для дела.
С успехом измерив окружность земного шара,
переступаешь порог знакомый –
так и надо.
3
Не видишь изменений в четырех стенах,
перегороженных занавеской,
только у сына в гостях будущая невеста
напоминающая дрожжевое тесто
на подходе.
Жена на взводе из-за раннего возвращения –
ничего не готово к встрече.
4
Уместней было б оказаться проездом,
случайно. Заскочив на часок,
попить чаю, взять бутерброд и раствориться
в дорожной пыли,
как сказал бы сказочник: ?Жили –
были?, и хотя постель давно остыла –
жаждет новых свершений, а мне не мило.
5
И журчанье воды напоминает ставни –
поздней осенью журчат так же,
аж мороз по коже, когда один.
Но и рожа в зеркале. Соскрести охота
ноготком с кости... У всех заботы до
десяти. А потом охота за водой из крана –
до рвоты.
6
Застолбить дорогу верстовыми ухабами,
чтобы телега рассыпалась на подъезде к дому – от страха.
Соседская сваха
предлагает жениться (при живой жене)
на своей сестрице. Обещает, если
хватит ума согласиться, полцарства
в приданное –
7
куда мне столько, разве что для походов,
да и то на долго его не хватит.
Придется лопатить под огороды,
а это значит – прощай свобода и т.д.
Начнутся баталии с соседями из-за
курей, свиней и жен (у меня их может быть две)...
Нарожон лезть кому охота.
8
По мне уж лучше болото
с островком посреди – вот и все
полцарство. Метр на два и брод
для близких, чтоб носить продукты
и с работы записки по вопросу получки
в связи с отлучкой
моей надолго.
9
Кукарекать некому, когда спать охота,
на краю дороги, посреди болота.
Ну какой же прок от дорожной пыли?
Разве что опять сказать: ?Жили –
были?, и, поставив точку, разойтись по свету.
Я пойду в ту сторону –
ты в эту.
10
Что слова для песни, если музыки нету,
разве что междометья вдогонку ветру.
?Ну и глупый ты, дядя, никакому ветру
не нужны междометья, если денег нету,
чтобы ехать в поле, где он витает
вперемежку с травой, а впрочем, ерунда ведь
все это, если не больше.
11
Как сказал прохожий по дороге из Польши:
?Там жить можно, но и не больше
этого?, - все возможно. Я там не был
мне с чем сравнивать, только
?х? и ?у? и то уравнивать надо,
подогнать к ответу, чтобы сошлось
с результатами опыта.
12
Хотя все это мало похоже на правду,
все ж расстояние в длину лучше, чем в глубину
лужи, пусть и очень большой.
И зачем к тому же создавать институт
для изучения стужи.
Она ведь все-таки –
зима!
1992
IN THE COOL OF THE DAY...
Игорю Кучину.
1
Я мальчика увидел, он смеясь,
бежал навстречу - нет, немного мимо.
Разлаживал сандалей ниток вязь,
подобьем шестикрылым Серафима
на берегу - столетий тонких связь.
2
Прозрачный день. Рука скользит к виску -
боль головная раздражает...Вечер.
И непрерывной ниткой по песку
танцует тень - огонь немногих свечек,
дань отдавая мокрому песку.
3
День был как все - за исключеньем лет,
когда мы вместе жили у фонтана.
Страна уже настроила ракет,
открыла атом, кран, лицо Ивана
и бесконечно дальний Новый Свет.
4
Литовский вариант сошел на “нет”.
Сошлись соседи. “Призрак” не уехал.
По истеченье очень многих лет -
дорогу переходят не по вехам,
а по скопленью стареньких газет.
5
Война закончилась еще до сентября,
и дети поспешили чинно в школу -
учебники, цветы, блеск букваря,
учителя, цветы! и тост за школу.
Распевки под баян и под “ ля-ля”.
6
Желанье выпить. Мокрый календарь -
истории уходят за друзьями.
Попытка перейти из “ныне” в “старь” -
обычно завершается слезами
и возвращеньем слова “жизнь” в словарь...
7
Глагол “уйти” - возможность ничего
не понимать и оставаться дома.
Не возникать без дела и всего
один лишь раз попробовать другого
глагола - “умереть”. И ничего...
8
Смерть наступает будто бы зима...
И, кажется, словесная отвага
не стоит ровным счетом - ни черта!
Глаза подслеповаты - будто влага
размыла тень - прозрачная черта.
9
Оконный силуэт слегка размыт:
дождем? слезой? - не расторопность зренья.
И, кажется, из мрамора отлит
прошедший день - наказанность забвенья.
Из радио оркестр не звучит.
10
За дверью ветер воет на трубе,
стучит в окно, замочками играет...
Напоминает чем-то о тебе...
Стучит еще и...улетает,
сыграв “прощай” на каменной трубе.
1993 .
* * *
Когда-нибудь, когда пройдут года
и возвращаться повода не будет -
останеться лишь талая вода
и перекрестки старых улиц.
Строений старых мокрые дворы -
после дождя. Банальные качели.
Картавый крик соседской детворы -
теперь уже совсем не те соседи.
И отраженье в зеркале не то -
последнее уже удел старенья...
И утром с тонкой пенкой молоко
напоминает лучшие мгновенья.
Когда-нибудь, уже в других краях,
в другом таком пространстве вспомнишь это -
все, что осталось разве что в мечтах
и на бумаге, только без ответа...
Когда-нибудь...Наверно - никогда.
И поезд в этом больше не помошник...
Из времени осталось лишь - всегда,
как город, дом, фонарь, аптека, площадь...
1995 .
* * *
И.З.
Перепрячь мои письма подальше и карандаши.
Бельевою веревкой свяжи мне судьбу напоследок
в этих птичьих конвертах - на память. Хватило б души
пережить это время, как раньше далекий мой предок.
Сохрани на листах, может быть, беспросветные сны,
время года, погоду, тоску и мои вспоминая
о тебе поздней ночью. Черней до рассвета листы,
перепутав уже не страницы, но только названья.
Сохрани написание букв, но не с новой строки,
может быть, предложенье, где все из значков препинанья -
многоточье сильней, даже просто - длинней...Коротки
наши встречи с тобой. Сохрани, сохрани мне дыханье.
1996 .
СЕНТЯБРЬ 1997 года.
Вечер дня в городе с траченным небом -
облаками, как молью пиджак в шкафу.
Автомобили с извечным - где бы
пристроится на ночь, заполнив собой пустоту
проезжей части. Звуки старых мелодий
из репродуктора... Что-то еще из вещей
давно забытых, впрочем, совсем не многих -
из тех, что, найдя случайно - теряешь быстрей.
Несколько пар неспешных - к своим подъездам
через туже проезжую - правилам вопреки,
досужим сплетням старушек, вполне серьезно
рассудивших о будущем, но пальчики коротки,
как и память. Кто-то, немного пьяный
недоволен погодой и вечером после шести -
в шумной компании... Резкий звук фортепьяно
из открытой форточки. Кто-то кричит - Прости!
Старик на стуле под окнами после солнца
млеет в тени. Соседка с сухим бельем
проходит мимо, толкуя, что вот британцы
будто очень злые. И связано все с дождем...
Вечер дня. Я за закрытой дверью
в своей квартире. Мысли о завтрашнем дне,
о погоде утром, о том, что уже неделю
нет из дома писем... Кто-то стоит в окне.
Скоро полночь. Колокол на часовне
пробьет двенадцать. Кто не успел уснуть
вздрогнет привычно, или о чем-то вспомнит,
что было однажды... Чего уже не вернуть.
сентябрь 21 1997 .
ОКОНЧАНИЕ ПЕРЕЧНЯ.
И уже не спросишь - ни птицу, ни дровосека
о прохожем, что был здесь - тому пол века
как пролетело. Не спросишь белку,
потому что погибла в ту перестрелку,
в ту весну, когда ты носила платье
под цветным плащом и дарила объятья
на право и лево своим знакомым,
считая их каждый раз по-новой
системе счета. Не спросишь ветер,
потому что он все равно не ответит
и не дослушает до конца вопроса -
сгинет быстрей, чем сгорит папироса
и уронит пепел на лист опавший -
все равно его считает пропавшим -
ветка, дерево - дуб, осина...
У соседа вырастут еще два сына -
впику твоим, да еще девчонка,
на которой короче любви юбчонка...
В этих краях не любят долго -
все равно от любви никакого толка -
в этих краях...В таком селеньи
считают столетия на поколенья,
на колличество каши и щей в кастрюле.
И из ласки - детское: “Люли-люли!”
Баю-баю - кошачьи сказки...
Только кошки мышкам не строят глазки,
как не строят глазки и все соседи -
здесь добрее голодной зимой медведи...
Даже волки добрее в дремучей чаще,
отпуская с богом совсем пропащих...
Ночью в этих краях замерзнуть -
как “два пальца”. Такие звезды!-
снятся стынущему в сугробе:
супчик, женщина...что-то вроде.
Что-то вроде последней встречи -
с дровосеком, птицей, как “Добрый вечер,
со свиданьицем - свиделись, слава Богу!
Не прошло и пол жизни, как я в дорогу...”
Снятся дети, жена, соседи -
не эти, что хуже и злей медведя.
Снятся пряники - нет - баранки.
Снится как в детстве катался в санках.
Снится как отпустил синицу
в синее небо - не пригодится!..
Может быть кто-то еще поймает -
нет - так и лучше - пускай летает.
Может быть журавлем родится,
ну а нет - так и так сгодится
новым рукам и еще живому -
не ушедшему далеко от дома...
Снится еще как в последний вечер
были с женой и детьми на речке.
Как на нее вдруг туман слетает!...
Снится - авось, до весны откопают...
1997 .
ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ.
...голубой цвет лагуны. Немного нервный...
Я, в неброском костюме, свои наблюдаю черты -
в потускневшем от влаги зеркале, в пости что сером
варианте неба, в его отраженье. В варианте воды.
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Я пишу тебе снова из этих чужих широт.
Для тебя не знакомых - ну, может быть, по открыткам.
От того тоскливее строчки и больше длиннот
в описании местности, уподоюляясь свиткам.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Здесь все также, как я писал тебе. И народ
так же глуп и несчастен в своем понимании жизни,
так же мерзок, как первый утренний бутерброд
после пьянки вечером, но это всего лишь мысли,
правда - мои. И тебе ни к чему сюда
приезжать и писать...Какие уж тут затеи
или хлопоты встречи, когда лишь одна вода
к пониманью способна - вполне...И я ей верю.
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Ни к чему вспоминать, что ты мне еще жена –
столько прожили врозь, что теперь лишь считать убытки
от почтовых расходов...Но в том не твоя вина -
просто нам было легче писать на песке... и открытке...
…………………………………………………………….
Здесь неважное пойло и кофе здесь, в общем, гавно!
Ах, прости за сравненье - какие с меня реверансы!
Я совсем разучился манерам...Почти что кино...
Жаль, что здесь нет тебя...и кругом одни иностранци...
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
...ах, приехала б ты. Я б тебя познакомил с подругой...
Да, прости - времена. Одному здесь не выжить с тоскою!
Я наднях повстречал (перечеркнуто) - встретился с другом,
но и он восвояси...Теперь вот сижу над строкою...
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Перечел тот роман, что ты мне подарила когда-то...
Кто ж там автор? Ах, впрочем - какая в том будет заслуга..
Я не помню уже...Да - я скоро умру, вероятно...
Вот тогда и сочтемся за все, что писали друг другу...
1997 .
ЯНВАРЬ.
Он исчез в тусклой стуже...
Уистен Оден.
Опять январь...О, сколько января!
И рыбьих фонарей со струйкой дыма
внутри стекла. Уже не говоря -
про снег, мороз...и вообще про зиму.
В который раз Эвтерпа - сирота -
в бумаге дело здесь, или в погоде
начала года? Или же места
распределили раньше боги? Боги! -
не так же часто...Улица пуста.
Аптечный цвет замерзших тротуаров -
как можно кстати...Ветерком с куста
срывается снежинок покрывало...
Опять январь! Кто едет по зиме?
В какую даль загружена повозка,
кто пассажир? Но кто ответит мне?
Кто стелит мягко так, что спать так жестко...
февраль 17. 1997 год.
* * *
Вдох не ровняется выдоху… Эхо
где-то внутри раздражает гортань
шелестом звуков, ломая помеху
пению и, преступая за грань
голос, не в силах держаться, взлетает –
выше, где, может быть птичий Рай,
до облаков и у них затихает,
как бы теряясь, но это за край
облака, звук растворясь, залетает
и поднимается выше – за край!
Звук, не сорвавшись до птичьего крика
сквозь раздраженную эхом гортань,
вдруг растворяется, трогая грань
облака, шорохом, но только – тихо!
апрель 17. 2001 год
* * *
Я родился и вырос не там, где, наверно, умру
Отпусти же мне, волжский суглинок, грехи напоследок,
чтобы вспомнить в другой географии эту траву,
что горчит на губах и становится в памяти следом
за неспешной водой… География в сумме вещей —
лишь желание выжить, не сгинуть за облачным краем,
поселившись однажды в империи, где без затей —
затеряться среди поселенцев с имперских окраин.
Океанский простор, птичий клекот и облачный край —
дополнение к жизни истории, смысла к бумаге,
новых карт к географии… Где там потерянный Рай?
До которого выжить хватило бы сил и отваги!
Я родился и вырос… и ты отпусти мне грехи!
мне не выбрать уже ни страны, ни погоста, ни даты
окончания перечня, чтобы закончить стихи,
не сорвавшись до крика, с которого начал когда-то!
август 20.2001 год.
ПОЧТИ ЧТО ПЕСЕНКА
…и город плыл под краску тусклую
заката, моя грязь и изморозь
по тротуару. От безумства ли,
иль — так вся жизнь моя случилася.
Но от тоски и невеселия —
соображаешь, что осталося
от проживания похмельного,
от буйства давешнего радости.
Остался этот город маленький
с оконцами в размер скворечника,
где душу дьяволу — за валенки!
И, где любимая не встречена…
Где роза алая с гвоздикою,
с каким-то листиком засушенным —
в дырявой банке с паутинкою —
в пространстве, в общем-то, разрушенном.
Но радуется люд по праздникам,
столы сколачивая новые —
они, конечно, очень разные —
до первой даже незнакомые…
сентябрь 19. 2001
НАДПИСЬ НА КНИГЕ
Яне Джин.
На кофейной гуще — где-нибудь в Амстердаме,
в досентябрьском Нью-Йорке, в Москве морозной —
погадать на будущее, но увидев свое отраженье в стакане,
про себя подумать — не поздно ли?..
Но какая музыка в древнем городе! — в любом на выбор —
Только б от счастья не перепутать местами…
Кто-то, приезжий, картавит названья, чертясь на выговор,
дополняя несказанное — стихами.
И в кафе на площади, где-то в одном из лучших
городов — хозяйка кофейни придержит столик
для желающих погадать на кофейной гуще
и чего-нибудь выпить — за имперский стольник!
октябрь 6. 2001
* * *
Я слушал пение сегодня, в понедельник,
какой-то девочки — за мелочь или булку…
Подземный переход на Комсомольской
был полон, как всегда в такое время —
обеденное время. Кто-то деньги
бросал в коробку и спешил уйти
от места слабости своей подальше…
Никто не слушал — как она поет!
Был понедельник, я спускался вниз,
в подземный переход на Комсомольской
за свежим номером газеты, кто-то пел.
Из-за угла я никого не видел…
Пройдя чуть дальше — девочка стояла
и пела — голос выходил из подземелья…
Испачканное, милое лицо… и звук,
дробивший стены подземелья на мелкие куски.
Я слушал и заслушивался — эхо
кружило меж людей в подземном мире,
не выходя из темного пространства — на верх,
боясь само себя разрушить… Я стоял,
как вкопанный и плакал. Понедельник
мне показался самым лучшим днем…
И девочка, что пела в подземелье, и жизнь,
что так не любит чистый звук,
что поднимаясь из глуби пространства,
уходят дальше — к облакам и звездам!
октябрь 8. 2001
* * *
Регине Дериевой.
Ни чернил, ни февраля —
только шариковый стержень,
ночью строчку выводя,
по бумаге буквы режет…
Ни расплывчатых картин —
в небе — облаком летучим…
Кто-то машет средь руин,
но от этого не лучше! —
ноет клапан выходной,
сердце давит — на погоду?
Мне от этой неземной
жизни — хуже — год от года.
Мир не лучшее из мест,
где родиться стихотворцу,
но в отсутствии небес —
строчки, как ножом по сердцу.
И струится красный след
по бумаге, между строчек —
вслед за шариком — во мгле —
этой ночью. Этой ночью.
октябрь 17. 2001
ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ
В. Д.
Она была подругой алкоголика.
он был женатым на ее подруге —
любовный треугольник возле столика
с вином и водкой, и с закуской — в круге
настольной лампы. Полные стаканчики
граненые — по правилам гранения.
И вкруг стаканов переплетье пальчиков
искуренных и с пятнами старения.
Он был стахановцем, точнее, был забойщиком,
но не скотины — каменной истории,
в которую, как пальцами закройщика
впивается игла, но ткань не новая.
И он, страдая от убийства каменной
истории, глотал все, что горящее
под руку попадалось, жидким пламенем
сжигая жизнь свою не настоящую.
Подруга стала дивным сочетанием
его мечты с банальной бытовухою.
И славилась на косточках гаданием,
хотя еще и не была старухою…
В ее судьбе не получилось главного —
ни мужа, ни детей, ни продолжения
какого-нибудь боле-мене славного…
И жизнь текла почти что без движения.
Подруга, муж, жена — любовь до коликов —
бутылка на троих делилась правильно.
Она была подругой алкоголика,
он был женат… — а впрочем — все по правилам,
по полочкам, по списку… Жизнь — обманщица! —
отца подруга задушила в день рождения,
в начале августа… И скуренными пальцами —
по крышке гроба, задушив волнение.
октябрь 20. 2001
РЕЧЬ
Звук осторожный и глухой…
Осип Мандельштам.
Если слово от Бога, то что же у глухонемых?
Перекрестие пальцев? И речь их ветвисто-корява —
в этих самых ветвистых руках? Но покуда в живых
перекрестиях рук — речь звучит, как ни в чем ни бывало,
и длиннее слова, и понятен их смысл — без слов —
значит что-то в ветвистых руках — не доступное звуку.
Может что-то в сплетении пальцев? — но выбор суров —
между звуком и знаком — и напоминает разлуку.
Чем беззвучнее речь, тем чернее от знаков листы.
Продолжение речи — в чернильно-бумажном укладе —
мне милее, чем крик, что доходит до той высоты,
где теряется звук, растворяясь в пространстве, как в яме.
Мне милей говорящий руками — их жестче язык
в выражении чувств, в написании слов на бумаге.
Говорящий руками — не лжет, как кричащий привык —
тем длиннее ветвистая речь, как деревья в овраге.
Чем чернее листы, тем понятнее голос и звук,
доходящий до шепота. Речь — в перекрестии пальцев,
что сжимают перо, переходит от лиственных рук
к почерневшей бумаге и строчки уносятся дальше,
где беззвучней язык в перекрестии крыльев немых.
От того ли черны небеса? От того ли печали
предостаточно в речи ветвистой глухонемых?
Или все от того, что беззвучие было вначале?
ноябрь 9–11. 2001
* * *
Я в небесный сумрак хочу заглянуть — живым,
чтоб увидеть тени возлюбленных поселенцев
среди дивных сосен. Услышать из тишины
их не громкий голос — может не ухом — сердцем.
Но услышать сердце больше не может их.
Только старое эхо гудит, возвращаясь обратно,
дочитать пытаясь чей-то последний стих,
досказать историю — последнюю, вероятно.
Я хочу увидеть молчащий от боли лес. Лес,
где, спустя полжизни, селятся наши души.
Там, где кроме эха — нету других чудес —
и оно последнее, что можно оттуда слушать.
ноябрь 12. 2001
INTEREGNUM.
1.
На границе Империи, где кончается Волга и степь —
начинается смерть и курганы хоронят все золото грешного мира —
умирает история, чтобы уже не смотреть
как вдогонку летит, разогнавшись, со свистом секира.
Край заброшенных диких степей, где от конских копыт
и от конского пота дурман над травою витает —
век спустя, от чего человеческий голос дрожит —
не способный ни петь, ни кричать. И навек замолкает.
Область бывшей орды, область свиста и диких людей,
горьковатой полыни и редкого запаха мяты.
Область выжженных трав и сожженных, мочой лошадей,
очень редких цветов, что так часто копытами смяты.
Часть Империи, где только вымысел больше любви,
и где сны продолжают все то, что любимо людьми —
2.
здесь, где гибнет история и где Стенька мочалил княжну,
здесь, где тень от травы покрывает могилу солдата,
здесь, где Волга не гонит уже на песчаник волну —
ударяет о камень и с шумом уходит обратно.
О, поволжский суглинок, растоптанный в грязь сапогом,
перемешанный с кровью и потом на пыльных дорогах.
О, разбитая жизнь, что кидала страна напролом —
замерзать по колено в грязи и в глубоких сугробах —
здесь приют и покой, среди выжженной солнцем травы,
под которую лечь и уснуть, и не помнить о жизни,
среди, потом пропахших, цветов, среди этой жары —
в этом длинном, степном варианте любимой Отчизны.
Здесь, где свет преломляется только о мертвый зрачок —
о любви к песнопеньям и к жизни короткой — молчок.
3.
Я, потомок нездешних, приехавших с дальних земель,
но с такой же реки — сын бездомного головореза,
в просторечье — разбойника, пережившего свой юбилей
лишь на пару часов, поспешив на свидание с дедом,
что прошел две войны под приказом — ни шагу назад,
но за хлесткое слово разжалован был в рядовые —
завсегдатай немецкой культуры, российский солдат,
лейтенант-губернатор, спаситель — теперь в вестовые.
В этом мерзлом суглинке тебе, как под Божьим крылом —
рядом с сыном, оставив в наследство — о прожитом жалость
и семь слоников — белого, карского мрамора, что за стеклом
хоронятся от пыли, но какая же все это малость —
ты же знаешь, что нам предстоит еще встретиться вновь,
чтобы снова найти для беседы — слова и любовь.
4.
Здесь, где речь, как трава — прорастает сквозь мертвый пейзаж
и деревьев не встретишь — лишь в виде крестов и ограды,
и домов повалившихся набок — все лишь антураж
в оформленьи степи. С небесным строением рядом
облака проплывают, теряясь у кромки воды —
у великой реки и делов-то — топить чужестранцев —
инородцев в другом варианте, смывая следы,
чтобы чистый песок лишь сочился меж высохших пальцев —
здесь, где речь, как вода — завершает течение лет,
отражение множа ветвистым рисунком из листьев,
из прожилок их тонких, что видно, когда на просвет,
дополняя рисунок расцвеченной облаком выси —
здесь, где речь, проплывая за облаком, тонет в воде,
дополняя пространство — мне шепчет о новой беде.
5.
А вокруг ни души — пара сусликов, брошенный дом.
Ни раскосого взгляда татаро-монгольского хана,
ни тягучего пения, ни собачей игры за окном —
ничего вообще — в ожиданьи "грядущего хама".
Мне отсюда не видно уже — ни коней, ни копыт,
мне не слышно отсюда зековского пьяного мата,
что в своих вспоминаниях бережно память хранит —
также бережно, как охраняет травинка солдата.
Мне отсюда — туда дотянуться, как в старом кафе
дотянуться до соли, но пальцами не дотянуться
до прожитого кем-то в угаре на санной софе,
на соломке в избушке… Как в прошлое не окунуться! —
здесь, где смысл имеет лишь то, чем чернеют листы
и лишь то, что скрывают от смерти слова и мечты.
декабрь 2001
* * *
В бокале ржавого вина —
передержали слишком долго —
одна вина — на всех одна,
как страшный суд, как речка Волга.
И страшный ежедневный суд
с бокалом перезревшей мути… —
"смотри, покойника несут…" —
"и о спасении забудьте…"
И хриплый окрик: "Вы куда?" —
не остановит пешеходов —
одна вина — на всех одна.
Единолична — лишь свобода
перемещенья бренных тел
во времени и по чужбине,
где кто-то, бывший не у дел,
лепил свои портреты в глине,
стараясь скрыть оригинал,
но скрыл лишь смысл и тайну жизни.
И тот, кого оберегал,
сам оказался вне отчизны,
свершив тем самым страшный суд
над пережитыми годами… —
"смотри, покойника несут…
и, там глядишь, придут за нами…"
январь 15 2002
ПАМЯТИ ДЕДА.
ОТКРЫТКА ИЗ КЁНИГСБЕРГА.
Полковнику уже давно никто не пишет.
Почтовый ящик в длинной паутине
увяз, как дом в траве увяз по крышу,
и адресата нет давно в помине.
Ты переехал, не оставив новый
почтовый адрес. С видом Кёнигсберга
открытка — вид тебе знакомый —
спешит обратно, сообщить — уехал.
И тень твоя меж старых стен блуждает,
при ярком свете зарываясь в камни,
историю которых каждый знает,
где птица бьется, как о стены ставни.
Где на окраине старинный дом с верандой,
с почтовым ящиком в громоздкой паутине,
которую, еще будь жив, ты сам бы
смел веником, как раньше на картине.
май 8 2002
АВГУСТОВСКИЙ ЛИСТОПАД.
Сорваться с дерева. Слететь в ночную мглу,
как в омут кинуться. Свести с природой счеты
в начале августа. Разрушить синеву
ветвистым остовом. Придать земле работы.
Свести на нет всю летнюю игру
в садах и парках. Желтые с зеленым,
с коричневым — земельным — на ветру
слетают, отдавая дань газону
с его неброской выцветшей травой,
с его, до времени увядшими, цветами,
с его, изрытой временем, землей
и лейкой, что дырявая, как память.
Слететь, отправиться на длительный покой
среди травы заснеженной. Разрушить
своим отсутствием пейзаж над головой,
где в летних листьях обитают души.
В начале августа — до времени… Сентябрь
остался без наследства и работы.
И ветки голые, сгребая календарь,
не ждут — ни новых листьев, ни кого-то.
август 1 2002
1 МАЯ 1873 ГОДА.
1 мая 1873 года, в небольшой деревушке Читамбо
умер Давид Ливингстон, путешественник и исследователь
Африки. Там, в Африке и было похоронено его сердце.
Тело его было доставлено в Англию и похоронено
в Вестминстерском аббатстве. К числу его многочисленных
открытий принадлежит — водопад Виктория,
который он обнаружил и описал в 1855 году.
I
Кораблю не скажешь — Плыви по волнам туда-то —
не способен добраться сам к означенным датам —
ни по воле волн, ни гонимый порывом ветра.
У капитана зудит в глазу. И закат фиолетов.
Отправляясь в путь, не думаешь, что вернешься —
карты часто врут, обещая дорогу обратно.
Лишь бутылка способна, что из дома с собой берется,
как лекарство от боли или тоски — вероятно —
с письмецом вернуться, путаясь в координатах.
II
Вода помалкивает, вгрызаясь в корму корвета,
отмывая солью остатки темно-зеленого цвета,
добавляя соли в, и без того соленный,
быт путешественника. Далеко от дома
только волны знают как плыть, не глотая соли.
Но когда один, и вокруг — только море, море —
одиночество — суть продолжения чьей-то злой воли —
у волны не спросишь совета. И только горе
продолжает плескать в насыщенном морском рассоле…
III
… и когда позади остается уже полмира,
и месяц над головой маячит, как та секира,
и вода со щеки смывает слезу отчаянья —
вдруг видишь чайку, что на туже корму причалила,
но ее не спросишь, как человека — откуда?
Куда? Где искать спасения? —
среди этой бездны, где веришь не столько в чудо,
сколько в то, что доктор назвал бы — везением.
Но чайка взлетает и исчезает в облаке, похожем на горб верблюда.
IV
Ищешь глазами тень — хотя бы намек на землю —
что-нибудь, что можно потрогать: песок и зелень,
что-нибудь, чья жизнь не зависит от силы ветра,
что имеет твердые формы и суть предмета.
(Ничего на свете нет хуже соленой рыбы! —
на обед и ужин, на завтрак и вместо оных.
И гнилой капусты, которой пытать могли бы
в древности, но у моря свои законы…)
Никто не кричит — Земля! И вообще — сиротливо.
V
Возвращается чайка, а значит, спасибо Ною —
в обозримом будущем вода станет иною,
если верить ученым из института —
светлее — с точки зрения абсолюта.
Но чайка уже не спешит обратно —
толи долгий путь, толи ошибка в расчетах.
И ее желанье — спастись — вероятно,
сильнее страсти к ночным перелетам…
И команда опять спорит о координатах.
VI
И когда впереди замаячил берег —
за облаками — никто не поверил.
И волна, выкатывая корабль на сушу —
спасала не жизнь, а скорее душу.
Ибо лучше сгинуть где-то в помойной яме,
лучше гнить с червями в холодной, сырой могиле,
лучше смерть от пули, чем где-нибудь в океане
кормить охочую до людей скотину…
Лучше нищим здесь — с последним грошом в кармане.
VII
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Лишь один пассажир всю дорогу не ведал страха —
тезка Царя, однофамилец чайки,
приплывший с другой стороны воды под звуки Баха…
Его сердце спокойно, но увы, не крикнет — Встречайте!.. —
никому — жена там, где сердце, а остальное — по миру прахом.
P.S. из, так и не отправленного, письма.
Разговоришься с волной и тебя не дождутся дома:
ни к завтраку, ни к обеду… Вообще никогда больше.
Не увидишь пейзаж, до боли в глазу, знакомый —
рядом с, согретой солнцем, дворцовой площадью.
И сольются в один клубок, приходящие по две,
иногда по четыре — волны — с песком и гравием,
наливая карманы холодной соленой волей,
пополняя припасы странным морским гербарием…
август 2002
ПОПЫТКА БИОГРАФИИ.
Родиться бы не рядом с опьяненным —
вином и водкой пыльном Волгограде,
а где-нибудь в Голландии — среди
корабликов бумажно-деревянных,
что заплывают в дальние края
и растворяются среди таких же, бумажных, ангелов,
чьи крылья при пожаре
сгорают первыми, спасая душу, уснувшего патрона…
Родиться бы и жить там, где вода
без спроса заплывает в стих — для рифмы,
где улицы, между домов петляя, уходят в воду,
чтобы скрыть следы существования —
ботинок, ног, сандалий, машин, велосипедов,
прочих, прочих вершин прогресса…
Там, где тихий звук тревожит память,
где лицо подруги увидишь среди ангелов
бумажно-пожарных — в облаках.
Где эти облака, почти у ног, ночуют в,
специально приспособленном для сна, канале.
Родиться бы и жить там, где идти —
почти что тенью, вдоль закрытых окон,
почти незримым, видимым для глаз лишь тех же ангелов,
ступая по асфальту — уже считаешь счастьем. Раздобыть
на барахолке старую одежду, найти листок бумаги, карандаш,
какой-нибудь окурок сигареты — на завтрак, выпить чашку кофе —
на деньги, что хранились за подкладкой чужой одежды,
проводить какой-нибудь корабль в дальний путь —
за грузом: кофе, сигарет и чая, каких-то безделушек, нарядов модных,
старых добрых книг, картин, посуды…
……………………………………………………
……………………………………………………
… процесс писательства завел так далеко
от дома, что теперь в другую реку — невозможно —
не то, что дважды — просто окунуться, смыть летнюю жару,
степную пыль, что на зубах (оставшихся) скрипит,
как та телега, что мечтает стать паровозом
и мчать на всех порах в другую даль, в чужие города,
где знать не знают — кто ты и откуда.
Где сличить пытаясь твое лицо, в почти истлевшем паспорте,
с оригиналом, "начальник" соломинку предложит, что ко дну
утянет лучше камня — в одночасье — под гром "Прощания славянки"…
И в летний полдень — ветер
дополнит музыку двумя-тремя потерянными звуками.
август 6 2002
СЦЕНАРИЙ ФИЛЬМА (набросок)
Воспользуйся нечаянной поблажкой —
судьбы — узреть изнанку неба с самолета,
почувствовать, как все сильней рубашка —
дороже телу, с высоты полета
увидеть землю, как Его глазами —
сквозь облака, протиснуться к другому
созвездию, что там над головами —
все дальше и все ближе к голубому —
небесному. Небесные картинки —
земли и неба — рая или ада?..
В иллюминатор — белые снежинки
в начале августа! Небесная прохлада —
сквозь самолет, сквозь тонкую обшивку,
как сквозь рубашку, что милее телу…
Вдруг в самолете — яркое затишье —
звук улетает к дальнему пределу.
И дальше только долгое молчанье,
небесный сумрак, одинокий клекот…
И ангелов негромкое роптанье
в холодном небе — вслед за самолетом —
попытка неба объяснить о жизни,
(что так длинна), что там за облаками —
в совсем другой, еще не зримой выси —
минуты исчисляются веками.
август 9 2002
* * *
Между пиш. машинкой и листом бумаги — полжизни.
Из нее половина — поиски лучшей доли
или места под солнцем, чтение Кришны,
Библии, Торы, заданий в советской школе.
Между ними — все, как "между собакой и волком":
и последняя радость, и первое впечатление,
и возможность сгинуть, растаять в сырых потемках…—
между ними все, что началось с рождения.
И теперь, когда все сложилось и мне за тридцать,
и искусство поэзии требует — лишь отваги —
ожиданье того, что может еще случиться,
добавляет к уже случившемуся лишь соленой влаги —
ибо хуже не будет! Плыви по волнам кораблик,
иногда застревая на островах отчизны —
между прошлым и будущим там, где заводов, фабрик
еще тлеют трубы в ожидании новой жизни.
Плыви по волнам и порукой попутный ветер
тебе будет в море, как мне твой белесый парус
на горизонте – спасенье на этом свете —
от того, что было, от того, что еще осталось.
август 10 2002
ГОЛЛАНДИЯ.
Страна воды и чистых простыней.
Тюльпанов, мельниц, книг, марихуаны,
волнений моря, красных фонарей —
волнующих собой в округе страны.
Страна любви — художников страна —
но не ищи с любой картиной сходства —
вода смывает память. И волна
среди камней играет превосходством.
Страна забытых у воды вещей,
велосипедов, мокрых рук, сандалии
(забытых там же)… Время все быстрей
старается лишить пейзаж реалий
обычной жизни. Повседневный быт
кафе, прокатов лодок, магазинов —
из прошлой жизни… От того знобит.
И речка пахнет не водой — бензином.
Здесь потеряться в пене прошлых дней,
по памяти ища знакомый дворик —
с годами легче, как вода быстрей
смывает память. Сев на подоконник,
гляжу вперед и думаю о ней…
август 14 2002
* * *
Владимиру Каратаеву
Вновь я вижу тебя в сугробах в родных широтах.
Птичий профиль скользит по снегу, по мерзлой пене
облаков — над тобой, надо мною, над ним — каково там —
в сумме мелких вещей — не подчиненных лени?
В этой местности сгинуть в снегах и пропасть — не новость.
В мерзлой фразе — Ау — слышится голос предков
или тех, кто кроил пейзаж и осваивал область,
оставляя следы от сапог на снегу и ветках.
И сюда возвращаться — только когда не в силах
не увидеть руины… И голуби, как прощение
за отсутствие почты. Проще — письма любимым
за все время странствий. Или же отпущение
грешным делам? Сметенные в снег дороги —
больше — вехи жизни, нежели километры —
Бога! Но для жизни, все же, достаточно строги
местные зимние песни и зимние ветры.
Вновь я вижу тебя и слышу твои напевы —
в унисон синицам, что снежную мелют кашу,
отыскать пытаясь хотя бы немного хлеба…
Вновь я вижу тебя… И ты стал немного старше.
1994-август 2002
* * *
Маленькие города,
где вам не скажут правду.
Иосиф Бродский.
Безразлично уже — куда заведет дорога.
Этот город в степи горячей — размером с садик —
отпускает грехи не дальше сваво порога,
обрамляя пейзаж полынью, как в театре задник
обрамляет актера. Куда ни гляди — пространство
упирается в стену дома. Пейзаж напротив
навевает мысли о том, что куда ни странствуй —
все дороги кончаются где-нибудь на повороте,
у светофора, который, как раньше камень,
не сулит хорошего. И, сбросив одежду, витязь
ковыляет обратно, туда, где огонь и пламень
возвращают к жизни, где звать его — просто Витя.
И кому здесь выжить — так только сухой полыни
перетертой с пылью, как пепел в руках скитальца,
что вернулся домой, туда, где о нем забыли,
а из тех, кто помнил — уже никто не остался.
И порукой — лишь почта, что ты пересек границу,
и таможня дает добро на письмо в конверте,
и тебе достается только в руках синица,
а журавль кормится, где-то в другой части света…
… безразлично уже — куда приведет дорога,
но покуда скрипит перо и чернеют строки,
и покуда известье о смерти не несет сорока —
солнце утром взойдет, как принято, на востоке.
август 15 2002
ИЗ РОБЕРТА ФРОСТА
(Перевод с английского)
Все о чем я прошу — чтобы только не эти деревья
Обо мне позаботились после того, как старенье
Мне предложит на выбор сырую древесную маску —
Пусть не эти — в окне — будут ближе ко мне за развязкой.
Сквозь глухую ограду из этих, меня переживших,
Обнимавших меня и мой дом, возле них, стороживших —
Мне идти по опавшей листве во владения смерти,
Как письму, что летит в никуда в деревянном конверте.
Мне уже не вернуться сквозь эти деревья обратно…
И песок, что в часах, занесет этот дом — вероятно.
И меня пропуская в свои дорогие владенья,
Пусть деревья не видят того, что подвержено тленью.
Мне — оттуда — милее увидеть, что эти деревья
Научились прощать все тому, кто при жизни им верил.
31 АВГУСТА 2002 ГОДА
Крылышкуя золотописьмом.
В. Хлебников
Пока еще мы слышим пенье ос.
И звук еще пронзает "крылышкуя"
слоенный воздух. Время, стрелки, ось —
в часах застыли, как бы утонули,
как крылья в воздухе. Еще висит листва,
как паутина в брошенной квартире,
но слышатся осенние слова —
погода, дождь и что-то там о мире,
что утопает. Новая вода
стекает с крыш. В домах холодный мрамор —
теплее слов осенних, вся беда
которых в том, что пишутся на право,
а не наоборот, черня листы,
сводя с ума бумажное пространство
еще идущей впереди зимы,
что думает — все это — от лукавства,
и заметает летние следы.
2002 ГОД. ВОСПОМИНАНИЕ
I
1
И я ходил когда-то в детский сад.
Слагал слова из кубиков. Учитель
-еврей, на слух все пробуя, был рад
глядеть на нас на склоне дней — родитель,
своих детей не видевший, как раб
был предан нам — уроков сочинитель.
2
И мы ему платили за тепло,
наверно, тем же… Мелкою монетой
за счастья миг, за старое кино
на простынях, за длинный хвост кометы
в ночном окне. Показанный давно,
он все еще летит, летит по свету,
3
Так камень, брошенный в глубокий водоем,
дает воде возможность не вернуться
к исходной точке, где они вдвоем
и есть исход, но дважды окунуться… —
т.д. т.п. И лишь дверной проем —
всегда на месте, если обернуться.
4
Он был женат, но, кажется, война
(которая из них — не помню, право)
его лишила счастья и жена
осталась где-то в прошлом, под Варшавой,
в одном из мест, где жителей вина
всего лишь в том, что не имеют права…
5
Он отдавал нам все — и день, и ночь,
стараясь жить и больше не прощаться —
ни с кем уже. Заведующая прочь
его гнала, но утром возвращался
он к нам и, чтоб ему помочь —
мы не смеялись громко — он смеялся.
6
Казалось — он всю жизнь нас сторожил,
своим вниманием, казалось, согревая —
зимой и осенью… Сказала как-то — Жид —
заведующая, но не понимали
еще мы смысла… Что-то там бежит,
казалось нам. За нами, подгоняя…
II
7
Осенним вечером, гуляя вдоль цепей —
ограды здания, где, будучи подростком —
уже — я слушал маленьких детей —
их смех и плачь в одном многоголосье,
где птичий дом на древе, средь ветвей
им отвечал, иль задавал вопросы…
8
Где каждый метр изведан и знаком,
где тень знакомая почти как — продолженье
давно прожитого… Но тень вдруг стариком
мне показалась… Тихо, без движенья
он наблюдал за звездным косяком —
и только так его узнал теперь я.
9
Ловец созвездий — даже сквозь года
он сохранил о месте этом память,
где жизнь его прошла — текла. Текла,
как та вода, которую руками,
как звезды не поймать, увы — она
всегда меж пальцев — частыми кругами…
10
… его почти истлевшие черты
и немигающий, пытливый взгляд на звезды —
как будто ждет чего-то с высоты,
но по лицу я вижу — слишком поздно
менять орбиту — жизнь у той черты,
когда все звезды — это только звезды.
11
Он наблюдал почти, что не дыша…
Он точно знал — где что на этом небе
и не спешил. И также неспеша
и жизнь вокруг текла. И в лунном свете
он мне напомнил Иова — душа,
которого за все, за все в ответе…
12
Он тихо встал, прошел мимо меня,
стуча тростинкой — зрение наверно
его покинуло! Стуча ей по камням,
он, кажется, выстукивал, но скверно,
какую-то мелодию — хотя
все это так не нужно — совершенно.
13
Седой и старый. Старый и седой —
всех переживший, знавший о комете —
так много, что, казалось мне — рукой
ее поймал бы — если бы не дети…
Он шел во тьму, не ведая другой
судьбы — он просто знал — где что на этом свете.
сентябрь 4 2002
* * *
И кровью тоже пишутся стихи,
как шариковой ручкой, как чернилами,
как черте чем еще, когда шаги
все явственней на лестнице с перилами,
как дождь — все заунывнее в окне,
впиваясь в стекла крохотными каплями,
жизнь дополняя яркими — во сне,
скупыми наяву — цветными пятнами.
сентябрь 12 2002
ЭЛЕГИЯ
Яне Джин, с любовью
Ничего не осталось, помимо воспоминаний.
Груда сношенных тряпок, такая же груда посуды —
все богатство от жизни. Даже место, где я назначал свидание
тебе когда-то выглядит, как утратившее молодость чудо.
И вокруг за годы твоих и моих скитаний —
не прибавилось ни на йоту — ни деревьев, ни квадратных метров построек,
ни чего-то другого, что привлекало б вниманье
издалека приехавшего — увидеть как жизнь проходит.
И в чужих объятиях местность — читай — пространство —
трепыхается, как вновь пойманная пичуга
в холодную пору в местности, откуда — Здравствуй —
долетает уже после того, как утратил друга.
И куда ни гляди — вокруг лишь степное братство —
подорожник, полынь, чертополох и немного мяты.
Да бесконечный простор для зрения — то пространство,
где путешествие, если один ты — всегда чревато.
Но, уж если выжил, то воспоминание — лучше
и вернее будущего, чей незнакомый профиль
маячит в облаке, куда, как на всякий случай,
залетает птица, сжимая сильнее коготь.
сентябрь 28 2002
* * *
Яне Джин
Мысль удаляется, как разжалованная прислуга.
Иосиф Бродский
Ничто никуда не удаляется: ни мысль, ни прислуга.
Ни военная тайна из уст военных.
И то, что богу однажды шепнула подруга –
оказалось правдой и навсегда, наверное.
И куда ни глянь – теперь лишь все время – завтра,
т.е. то, что делается сегодня.
Т.е. те слова, что оказались правдой –
продолжают жить и после, где тьма господня.
И глядишь в потрескавшееся отражение,
как в ту бездну, откуда – ни вздоха, ни крика – Здравствуй,
ни любого другого слова, ни продолжения...
Как сказано у поэта – Куда ни странствуй!..
март 11 2003
НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА
Мне было два года, когда посадили отца.
И все ****овитое всплыло в похабных соседях.
И пара окурков упали в то утро с крыльца.
И мать прокричала во след - Не прощу подлеца!
И был в том году этот день, как сейчас - понедельник.
И холодное лето в тот год проронило слезу
не просто по факту погоды, а как на прощанье.
И то, что еще предстояло изведать отцу,
хранило до срока в тайге гробовое молчанье.
И ангел бумажный
слетел со стены,
что впрочем - не важно,
когда до весны -
под стук топора
и под скрежет пилы
твоя голова
рождает лишь сны...
Я рос какой-то промежуток без него.
Он нам писал, но мать не отвечала,
стараясь позабыть, что самого
она любила, но начать сначала
жизнь заставляла.
И когда возник в квартире нашей химик -
означала такая перемена для меня
и для отца - отсутствие причала.
Мы переехали в куда просторный дом
из нашей комнатушке в коммуналке,
оставив тосковать ее о том,
что новому хозяину не жалко -
ни дома, ни отца, ни долгих лет:
всего того, что оставляло след
в моей душе.
Но он всего лишь химик -
наука точная, лишенная истерик
и представлений точных о душе.
Скорее Н2О в заляпанном стакане
ему милей. Скорей в оконной раме
ему милее вид дымящих труб,
чем облака, что так к себе зовут.
Так шли года -
казалось мне века.
Отец освободился и уехал на крайний север,
к вечной мерзлоте, стараясь заморозить чувства к дому,
к тому, что было так ему знакомо,
но что осталось где-то вдалеке.
И все, что оставалось - деньги слать,
как банковский кредит на возвращенье.
Но слишком часто говорила мать,
что он не помнит дня ее рожденья,
что мог бы иногда он приезжать,
чтобы ее и сына повидать...
Но слишком тягостно к руинам возвращенье.
Она его любила и потом,
мне кажется.
Но жизнь не часть романа
о превращенье рыбки за бортом
в волшебницу для дурака Ивана.
Пока отец скитался - умерла
его мамаша.
Мы похоронили ее на старом кладбище.
Она
так и не дождалась, что он приедет.
И горсть земли - последнюю на гроб
я тоже бросил маленькой ладошкой -
и за себя, и за отца. Я на него
смотрел куда-то в даль,
как в некое окошко, закрытое до времени - а жаль!
Мы встретились, когда мне восемь лет
исполнилось.
Он постарел.
Мать нам не запрещала
с ним видеться.
Но если на обед не успевал я, тихо замечала,
что у меня теперь другой отец
и мне всегда об этом нужно помнить...
Отец опять уехал в те края,
где из друзей медведи и олени,
где кажется, что небо за края
земли цепляется - от невозможной лени
себя держать, но круглая земля.
И угловатость - круга не изменит.
Мне было мало лет и всех причин
его отъезда мне не говорили.
Так видно водится у брошенных мужчин -
что с глаз долой и сердце, как в могиле,
но все же бьется.
Тугоухий мир
едва способен различить созвучья,
как кем-то утром занятый сортир
не примет больше одного - и не конючте.
И писем не было... Лишь банковский квиток
на алименты - дань монгольским ханам
за право жить еще какой-то срок,
надеясь, что когда-нибудь и рана
на сердце заживет
и даст росток
другой любви. И он по возвращеньи
женился на толстушке из РАЙПО.
Мы виделись все реже и о нем
все реже заходили разговоры.
Все чаще, что пора построить дом -
мать с химиком уже разбогатели.
Какого цвета должен быть забор
и, что с зимовья птицы прилетели,
и нежен от вредителей раствор -
он все же химик...
Жизнь дачная с вареньем и салатом,
с гудением шмеля по звуку вороватым,
с квадратною дырой окна за занавеской,
с соседской дочерью - на выданьи невеста,
с медлительным процессом забыванья
того, что может вызывать рыданья.
Я переехал в тихий городок,
"гордящийся присутствием на карте".
И прожил там довольно долгий срок,
пока не понял я, наверно в марте,
что нежно двигать дальше, на восток
или на запад... И уехал в Польшу,
в страну панов, церквей, свечей и водки.
Но жизнь моя в чужих краях была короткой.
И я вернулся.
Пасмурное утро встречало крупным затяжным дождем.
Казалось, что погода виновато
мне говорит, что мы тебя не ждем...
По возвращении я навестил отца.
Он много пил, страдал от ожиренья.
Такая жизнь - в преддверии конца,
что может наступить в одно мгновенье,
мне показалась лишена лица,
но он сознательно не делал продолженья
существования. Вот так для мертвеца
жизнь не имеет смысл без сожаленья,
когда жена и сын, как в третьем измереньи...
Отца похоронили слишком рано -
ему бы жить и жить, но жизнь не по карману
вдруг оказалась.
И когда осталась
от всех скитаний только рана
незаживающая - он пошел ко дну,
измерив вдоль и поперек всю глубину
той стороны,
не чувствуя вины,
он сократил свой срок наполовуну,
от жизни получив глубокие морщины,
и номерок над маминой могилой.
А все, что от него осталось мне -
семь слоников, хранящихся в буфете,
да фотография на письменном столе,
где мы вдвоем. Одни на целом свете.
Да тот бумажный ангел, что слетел
с некрашеной стены, когда уехал
он слишком далеко -
он прилетел
теперь обратно с птичьим косяком
из дальних странствий, как и он когда-то.
Жизнь продолжается. Судьба в сою дуду
все дует, наполняя голосами
свободное пространство. Ерунду
порой нашептывая, или лабуду,
о том что смерть уже не за горами,
а где-то рядом ждет нас на углу.
май 2003 год.
ПАМЯТИ АНТОНИО ГАУДИ (1852 – 1926)
Его называли гением архитектуры,
новым первостроителем, старым пройдохой.
А он строил дома, как лепил с натуры:
с дерева, с облака, с первого и с последнего предсмертного вздоха.
Как одержимый выкладывал из опавших листьев –
толи окна, толи глаза любимой женщины,
как на портрете. Толи пытался ?дурные? мысли
передать на хранение грядущей вечности,
но был обманут прорабом и поставщиками –
умер раньше, чем наступила вечность
и теперь неизвестно чьими руками
будут закрыты глаза любимой женщины.
И семья распалась, лишившись ?дурного? сына.
Не его часть природы весной по-прежнему расцветает…
И та, которая его так любила,
о нем даже больше не вспоминает –
удел прощания. Глаз не хранит портреты,
как фотопленка – копии дней ушедших.
И Святое Семейство, скрывая свои секреты
от посторонних, его вспоминает все меньше
и меньше. И даже когда созвездья
поздней ночью спускаются в центр зала
им не обжитого, пытаясь услышать – Здесь я ... –
Семейство молчит, как немая фильма с дырявого полотна экрана.
И холодное облако, проплывая сквозь окна дома,
как на память об авторе, чертит на стенах крылья,
чья структура только ему и была знакома,
о которой, как и о нем, все давно забыли.
август 28 2003
* * *
Сны наши ярки в бендежке у сторожа,
в пункте приема стеклопосуды…
Кто-то крадется в ночи остороженно –
свой ли, чужой ли, греки ль с посулами,
данайцы ли с яйцами, иль просто с подарками?
Кто там стучится в полночную форточку –
то мотылек, или женщина жаркая,
срывая на входе желтую кофточку?
О, мотылек, на желтую лампочку –
знаешь ли чем эта песня закончится?
Впиваясь в стекло раскаленными лапками,
на миг ты спасаешь от одиночества.
октябрь 7. 2008 г.
ИВАНОВ. ПЕТРОВ. СИДОРОВ.
Сергею Васильеву.
Реклама в аптеке – Да минует вас чаша сия
со спасительным ядом... - И дверцу аптекарь закроет.
Васильевский остров весь в белом скрывает меня,
как черную ветку под снегом – холодной любовью.
Как черную курицу в длинных подвалах своих
скрывают подземные жители от любопытных,
от глаз посторонних, чтоб только осталась в живых –
пусть даже на белых страницах, сегодня забытых.
Гляди на листву. Снова осень ворует тепло,
как старый карманник ворует последний билетик
при входе кондуктора, чтобы его пронесло
от встречи с мужчиной в погонах… Ну, кто там ответит
какая там станция. Или опять проездной
фальшивый показывать даме с сумой и в фуражке –
почти почтальон, что приносит мне письма домой –
с такой же сумой, и с моей родословной в бумажке.
И черная роспись, как ветка на белом снегу,
блестит на бумаге. Брось листик, чтоб больше не помнить –
оранжево-красный, который в суму и в тюрьму
способен доставить, уставший за срок уголовник,
что срок коротает, как птенчик заброшенный на
чужую границу. Смотри его перья в помаде.
И пусть надзиратель, мужик, наблюдает всегда –
ему не успеть перекрыть пару дырок в ограде.
И только в аптеке на острове – свет и тепло
от белых халатов, спиртовки и запаха мыла,
с которым все чисто, все чисто, все чисто, все чисто… - Петров,
опять ты продал за бесценок ведро керосина.
октябрь 21.2008 г.
DEUS CONSERVAT OMNIA
* * *
Начинается все с пустозвонного крика младенца —
это первое, что сохраняет Всевышний и память,
и душа, что черствеет потом, за ударами сердца,
сохраняя лишь крик пустозвонный — годами, веками.
Это первое, что услыхали волхвы через бурю,
по дороге в пещеру — с подарками и бубенцами
для младенца в яслях. Как объевшись какой-нибудь дури —
надрывается вол в унисон с новорожденным. Сами
надрываются: мокрая, снежная вьюга, сквозняк, что в пещере,
в перекличке — солдаты, царя матеря и Иисуса,
что не мог тот родиться на следующей, теплой неделе —
и теперь им страдать: полуголым, голодным, безусым…
Лишь звезда молчалива в своем безграничном пределе.
июль 12 2002
* * *
Сохраняется все: и дорожная черная слякоть,
и перо, и бумага, и цокот копыт ундервуда,
что достался в наследство от тетки — поклонницы Кафки
и французской истории — в жизни ханжа и зануда.
Сохраняется все, что хранимо — за пылью — вещами:
и следы от ладоней с недлинною линией жизни,
и короткая надпись на старой, изъеденной раме:
"изготовлено в тыща таком-то году…". Но не мысли
откопать слишком много — кому есть до этого дело,
что хранимо под пылью. Что Бог сквозь века сохраняет! —
прибирая до лучших времен, как любимое тело
непутевого сына, который и знать-то не знает
кто ему нашептал: "Сохраняется все между делом!..".
июль 13 2002
* * *
Возвращается музыка в шелесте воздуха в листьях,
в перекрестии веток, чей скрежет до слуха доходит,
как какое-то пение. И уже сокровенные мысли
продлевают звучанье, что долго потом не проходит.
И среди этой музыки — в шорохе листьев и веток
речь звучит продолжением чьей-то далекой беседы:
"Deus conservat omnia", — как бы сливаясь с ответом
на извечный вопрос: "Что идет за рождением следом?".
И покуда слова долетают сквозь скрежет и шорох,
сквозь древесную азбуку, через глухую морзянку
постекольного стука, покуда за каменной шторой
городского квартала заводится тихо шарманка —
речь не стихнет и слух различит чей-то голос знакомый.
июль 8 2002
* * *
От бумаги, увы, остается лишь пепел. В начале:
скрип древесный и шорох листвы — с ветром вечная тяжба.
Или мокрая жизнь на безлюдном холодном причале
в виде лодок и бревен, что, в общем, не так уж и важно.
Но когда из бумаги выходит известье о смерти,
или просто записка о том, как немыслимо тяжко
продолжение жизни — пейзаж оживает в конверте…
И становится ближе — от пота — родная рубашка.
И в пейзаже — уже не скрипит, но рыдает от горя,
проливая смолу, как слезу, сквозь ветвистую память.
И бумага в чернильных отметинах, возгласам вторя,
сохраняет, сгорая, звучанье, что длится веками,
как река сохраняется, сдавшись соленому морю.
июль 9 2002
* * *
Ко всему привыкаешь: к погоде, к отсутствию дома,
к мертвой фразе в ответ на вопрос, к продолжению жизни
не смотря ни на что. К тому, что любовь — по закону
доказуема смертью — в прямом и естественном смысле.
Привыкаешь смотреть из окна, наслаждаясь пейзажем,
ограничив его деревянной некрашеной рамой,
как пространство стиха ограниченно массой бумажной,
что была до его появления лишь деревянной.
Ко всему привыкаешь, как к вымыслу или к виденью:
к облакам за окном, к редким птицам, к засушенной ветке,
что стучит по стеклу. К наводнению, к хляби весенней…
Привыкаешь к тому, что уже различимы отметки
окончания жизни. К тому, что и ты не последний…
июль 4 2002
***
Ожидаешь всего. И того, что уже не случится.
Птица воет в ночи, как собака, на месяц медовый,
накликая беду. Городская полночная птица —
перелетная птаха с маршрутом до боли знакомым.
Как старательна жизнь в забывании речи и шума.
Лишь ракушка речная хранит шелест волн с криком чаек,
остывая в руках, ожидая прилива и чуда.
И кипит на плите, задыхаясь от копоти чайник.
Ожидаешь всего… И когда в одночасье случится
разглядеть среди звезд, что твоя не мигает оттуда —
вдруг увидишь, что та, городская полночная птица —
лишь твое отраженье. И больше: ни речи, ни шума.
Лишь твое отраженье — все длится, все длится. Все длится.
июль 5 2002
***
О, словесная память — как азбука, но ниоткуда
сочетание букв, доверивших смысл бумаге.
Чем длиннее строка, тем быстрей наступление утра,
тем черней написанье чернильное знаков — в итоге.
Но светящийся вымысел в ярком неоновом свете
добавляет абсурдности. И до строки дотянуться,
как, с годами, запнуться на фразе в коротком ответе,
как устав от ночного кошмара — в итоге — проснуться.
Чем чернее строка, тем длиннее ее написанье,
тем доверчивей голос, звучащий уже отовсюду.
И длиннее ночное, в неоновом свете, молчанье,
что горчит на губах, как немытая утром посуда,
освежая водой постаревшее за ночь дыханье.
июль 6 2002
***
… все равно остаешься один среди облачной пены,
с птичьим шумом сличая словесную музыку жизни.
Как неспешны в своем продолжении, как неизменны
сочетания звуков — и в этой заоблачной выси.
И когда отлетает последняя птица к ночлегу —
только эхо еще продолжает звучать многократно,
продлевая звучание — где-то за облачным снегом,
возвращая в ночное молчание звуки — обратно.
И когда остаешься один, глядя в звездное небо,
различаешь уже не шуршание крыльев, но клекот,
среди прочих созвучий, что кормятся облачным хлебом,
но звучат слишком глухо, рождая не эхо, но рокот,
застревая меж звездами, тая невидимым светом.
июль 7 2002
***
Погружаются в ночь разогретые за день деревья.
Остывает расплавленный, солнцем раздавленный город.
Затихает, пропахшая кофе и потом, кофейня,
провожая последних гостей — лишь заученным sorry.
И о чем ни глаголь в это время — все выйдет паскудно,
как нежданный ребенок, но хуже — в сплошных многоточьях.
Прав был кто-то сказав, что родиться здесь, право — не трудно —
пережить эту жизнь и не сгинуть какой-нибудь ночью…
Кто-то шепчет — Прости, засыпая в зловонной квартире.
Одинокая женщина молча слезу вытирает —
день прошел бесполезно, как жизнь в засыпающем мире…
Где-то день наступает и чья-то звезда догорает,
добавляя пробелов в сплошном телеграфном пунктире.
июль 16 2002
***
Просыпаешься утром и чувствуешь — скоро осень.
Перелетные в путь и никто не осудит пернатых
за желание выжить, когда их скворешни заносит
и светило горит, остывая в своих киловаттах.
Чем длиннее дорога — туда, тем короче обратно.
И, сумевших вернуться к скворечникам, долгая память
заставляет кружить над пустыми — с тоски, вероятно.
И кормежка за выбывших делится поровну. В мае —
маета с обустройством и с поиском нового хлеба —
кто накормит пернатых в заброшенном, мертвом поместье,
где лишь память живет о былом процветании? Где бы
поселиться и жить с невернувшимся выводком вместе?..
И оттуда глядеть на обещанный краешек неба.
июль 11 2002
***
Кто привел нас сюда, но забыл, что мы все еще живы
среди выжженных солнцем равнин и мелеющих речек?
Кто закрыл нам глаза и замазал — для верности — глиной,
кто сомкнул нам уста, ограничив течение речи?
Кто прошел, как огнем и мечом, ограничив словами:
не люби, не желай, не живи?!. Кто любитель нотаций?
Кто нам так нашептал, что за всеми земными делами
лишь стоит ожидание смерти с горой деклараций
о заплаченной подати? Кто нам отмерил недлинную
беспросветную жизнь, рассчитавшись за детские шалости,
округлив пребывание в доме часами старинными,
чья минутная стрелка — быстрей с приближением старости
и короче часы ожидания встречи с любимыми?..
июль 17 2002
***
Если, вдруг, повезет и в глубокую реку забвения
доведется не кануть, не сгинуть в колхозной больнице —
посреди перегноя, где вымысел больше везения
в пересохшее лето и, где ни журавль, ни синица
не спасают от смерти — узнаю, что звездное небо
помещается в бочке с водой за прогнившим сараем,
что в деревне страдание движет прогрессом. И хлебом
называют не то, что обычно мы все называем…
А когда наступает тоска по прекрасной эпохе —
на границе империи режут свинью и гуляют,
заливая бессмертной водой все тоскливые вздохи,
округляя часы, о которых и знать-то не знают,
ожидая, что старый погост всех их примет в итоге.
июль 20 2002
***
Жизнь короче судьбы и, тем более, черных отметин
в целлюлозном ландшафте исписанной ночью бумаги.
Так изнанка вещей сохраняется лучше, при свете
разглядев подноготную — видишь, что дольше в итоге.
И тогда понимаешь, что только в чернилах спасение —
речь куда долговечнее памяти, дольше страдания.
И когда разбираешь пожитки — с дороги — последние,
узнаешь вдруг, что жизнь продолжается лишь забыванием.
И дорожная пыль оседает на вещи — последнее,
в чем старательна жизнь… Кто-то тянет за нитку суровую,
уводя из запутанных улиц, минуя забвение,
добавляя чернил в написание, пробуя новую
неразрывную нить, улучшая увиденным зрение.
июль 17 2002
***
Наступление вечера так же как смерть — неизбежно.
Отражение пялится на мой дряхлеющий облик
в полутемной квартире. И, даже, на завтрак надежда —
не надежнее, чем до получки оставшийся стольник.
И пока не стемнело совсем, и совсем не затихла
жизнь в рассеянном свете — ногтем поскребу амальгаму —
отыскать отраженье — лишенное всякого смысла
и надежды занятье, как выть на оконную раму,
за которой луна. И спокойные к ночи деревья
дополняют картину, лишь изредка ветру кивают,
отражаются в окнах, как в речке небыстрой селенья
отражаются вечно и дальше теченья не знают
своего продолженья, минуя тем самым забвенья.
июль 23 2002
***
… лучше жить в глухой провинции у моря.
Иосиф Бродский.
Мрачноваты под вечер не только деревья и мысли.
Жизнь вообще — меж собакой и волком — сплошная разруха.
И жильцы побережья страдают не меньше, но в смысле
продовольствия — больше других не довольна старуха.
Побережье молчит, ожидая прилива ночного.
Молчаливый старик невод свой, как монетку бросает —
на удачу, крестясь, ожидая улова другого,
чем обычно, но с чем он вернется — и рыбка не знает.
И волна, подплывая к ногам, лишь тоскливо лопочет
о несбывшейся где-то в столетиях бабкиной сказке,
но старик, в ожиданье улова, и слушать не хочет —
жизнь короче судьбы и все ближе и ближе к развязке,
и все тише волна, что ему о старухе пророчит…
июль 22 2002
***
Побережью добавить воды — пересохло за лето,
как листва у дороги, где лишь шашлыком и накормят
из бродячей собаки — в кафе, что гудит до рассвета,
где наутро никто никого не найдет и не вспомнит…
Побережье молчит, ожидая дождя и прилива,
переброски воды через дамбу в плохую погоду.
И смотритель стучит по камням, перемазанным глиной —
"может быть, наводненье спасет этот высохший город…"
Но ни капли за лето — лишь тень на столе от стакана
с минеральной водой. Кто-то просит бродячей добавки.
И листва, не напившись, слетает на спинку дивана
в ожидании ветра и быстрой последней отправки
до ближайшей воды, до ближайшего ржавого крана.
июль 24 2002
***
Посмотри, кто-то скачет во мраке, в пыли задыхаясь.
Из-под черных копыт выбивается пепел и пепел
от сгоревшей травы. Очень часто к платку припадая,
кто-то скачет во мраке — один в этом выжженном свете.
И вокруг, оглянись — ни души. Только пепел и темень.
И словарный запас до — Ау — сокращает роптанье.
И луна, как большое пятно, в окончаньи недели
накрывает собой: и сгоревший пейзаж, и молчанье,
сохраняя лишь право — дожить. Ветер ночью свирепей
залепляет глаза жженой пылью, на два умножая
беспросветную тьму. И от этого только нелепей
все попытки дожить, горсть земли для себя сохраняя,
но, целуя родную землицу — целуешь лишь пепел.
июль 24 2002
***
Прислонись ухом к дереву — слышишь как жизнь затихает
с наступленьем зимы. Только пленные кольца — старение
продолжают считать, как кукушка года подбирает —
кому год, кому два, кому десять — система везения.
И чернила прольются, как ветки по первому снегу,
в описании лет, в пересчете колец деревянных —
по опавшим листам, что зимой ближе к звездному небу,
и вернее — ладони с рисунком, как это ни странно…
Наклонись ближе к снегу — услышишь шуршание тихое
по скоплению белого — листьев. Прочтешь предсказание
на недлинную жизнь — в тонких жилках — водою размытое
от растаявших льдинок… Но тем и вернее страдание,
что оно долговечнее снега — весною разлитого.
июль 26 2002
***
Вычитанием дат завершается жизнь стихотворца.
Пережив вычитанием больше двух тысяч рождений,
лист становится тверже. И строчки на стынущем сердце
оставляют следы, разрушая основы строенья.
И короткая жизнь добавляет графу к вычитанью —
и учетчик спешит занести твое имя и дату
окончания в список, вместив и слезу, и прощанье
в пару строчек коротких, спеша возвратиться обратно.
И случайны люди толпятся в дверях и в прихожей,
рты разинув… Кого здесь не встретишь — кивают с порога!
Сколько много желающих здесь подлецов — подытожить
чью-то жизнь… Обсудить с сигаретой в зубах, что дорога
оказалась короче обычного… Дольше! О, Боже!
июль 25 2002
***
Он, действительно, все сохраняет! Бумагу и слово —
среди прочих вещей, что хранимы на добрую память —
с указанием дат. И пространства — до слез — голубого —
достает, чтобы вычитать все и коснуться руками.
И хранимо все так — между облачной пеной и пылью,
что ложится на вещи и долго, как Бог, сохраняет
их от глаз посторонних и от разрушенья могилой…
Между вещью и пылью — лишь время, что длится веками.
И когда среди прочих вещей — между пылью и пылью —
обнаружишь, что память, как жизнь, не хранит слишком долго —
ничего — как листами хранимы чернильные крылья —
понимаешь, что жизнь сохраняется только лишь Богом,
но хранима — бумагой, что прячет чернила под пылью!
июль 29 2002
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИОСИФА
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИОСИФА
I
Три острова … и океан воды
соленой между ними – здравствуй время
до боли не знакомое. Судьбы,
в связи с отъездом, легкое сомненье.
И мерное гудение пчелы –
аэроплана – только дополненье
абсурдности к хрусталику слезы.
II
И из окна увидеть первый раз
не тот пейзаж знакомый, что пол жизни
ты изучал, но привыкает глаз
к строению иному. К новой жизни,
абсурд разбавив водкой, как рассказ
вдруг разбавляешь поворотом мысли
на девяносто градусов – и раз…
III
… и два – классический балет
садово-парковый – листва летит на север
к исходной точке, где ты много лет
кроил словарь и только в это верил,
как верили создатели ракет
в свою звезду. Но почему-то двери
и окна из Европы – на замке!
IV
Классический не новый вариант
смешения воды и неба в сумме
других вещей – никто не виноват
в таком смешении… И ничего не будет
другого – нового, чему ты был бы рад
с той стороны, но варианты судеб
в других руках – и не вернуть назад.
V
И дважды не войти… Окно во двор
твоей квартиры: стол, четыре стула,
какая-то растительность, простор
небесный… Но и тут уснуло
покуда все… И только разговор
о детях и о том, что ножка стула
сломалась все таки, нее выдержав напор.
VI
Не в первый раз январь уже не нов
в своей традиции… Увы, начало года,
наверно, подходящее для снов,
для сна вообще… Наверное, погода
располагает к смерти! И улов
достаточный, чтоб избежать ухода
в другой словарь, для сохраненья слов.
ИОСИФ – МАРИИ
Я буду любить тебя больше, раз не возможно
разделить на двоих эту радость – тем больше печали,
тоски и печали! Боже, как осторожно
все начиналось и как это было в начале…
Звезды, пустыня, немного воды, песнопенья,
пришлые люди с вещами для нашего сына,
ветер, зима, от фонаря и звезды освещенье…
Помнишь, какие холодные были те зимы?..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
и время, как будто само в черно-белых картинах,
и тень на снегу различимее, чем на асфальте.
VII
Теперь совсем, совсем в другом краю
вдали от стран и снов, и поселений
знакомых с детства, но не узнают
посланца – птицы, ангелы, деревья…
Вообще, пейзаж, как будто бы свою
ведет войну за тридевятьземелье,
где и весною птицы не поют…
VIII
И, поселившись у другой реки
с другим названием по-русски и английски,
вдруг понимаешь: как же далеки
попытки от действительности… Высь и
немного вправо, будто в две руки
по черно-белым клавишам, но мысли
немного дальше – до другой реки,
IX
где эхо бьется в раковину, звук
превращая в словосочетанье
иное: черно-белое… И рук
хватает не разрушить написанье,
написанное, замыкая круг
полета звука, но его дыханье
и после написания – вокруг.
ИОСИФ – СЫНУ
Я пишу тебе с другой планеты…
Ни подруги, ни холодной Кока – Колы,
ни какой-нибудь другой веселой мысли…
Я хочу тебе сказать – Не так уж плохо
все сложилось… Жизнь вообще не худший
вариант творения. Жестока
иногда бывает, но не нужно
сокрушаться о происходящем
и винить во всем какой-то случай…
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
и, раскрывши руки для объятья,
не оглядывайся – кто теперь твой близкий.
Х
Не дли года – век кончится без нас –
теперь уж точно – новое столетье…
Останется неутомимый джаз,
две-три страницы текста, междометья
в воспоминаниях, коротенький рассказ
из жизни насекомых,.. о соцветьях
каких-нибудь: гербарий лучше нас!..
ХI
И вот когда, ты покидая дом,
пускаешься исследовать пространство
вокруг себя и за своим окном,
не думая разрушить постоянство
картинок прошлого, вдруг думаешь о том,
что время трогает лишь новые убранства
знакомого пейзажа за окном…
XII
… и часто думаешь – пейзаж или портрет?
Автопортрет в пересеченьи веток –
по образо-подобию – секрет
рисунка и залог успеха
у зрителя, который много лет
пытается разрушить… И помеха
Создателя - и есть на то ответ.
ХIII
И глаз, привыкнув к новому в окне,
отыскивает сходство с отраженьем
оригинала… дальше по стене –
следы прожитых лет, но продолженье
теряется, как прошлое во сне,
когда и тень родная наважденьем
вдруг кажется на крашенной стене.
ХIV
И понимаешь – жизнь идет ко дну…
О, призрак Атлантиды вездесущий!..
Век кончился действительно, одну
оставив мысль: о памяти – насущный
предмет писания, но, бросив на Луну
печальный взгляд, вдруг говоришь: ?Послушай,
волна сменяет новую волну…?.
ХV
И побережье, погрузившись в ночь
посредством фонарей и димедрола,
само себе пытается помочь
не сгинуть в омуте. Наверное, свобода
перемещения тому причина. Дочь
не верит, что посредством парохода
нельзя уехать с побережья прочь…
ХVI
Но на морском вокзале корабли,
как вариант спасения – по суше
не выбраться из горестной земли,
где счастлив был, но где глаза и уши
тебе уже не служат, как могли
бы еще служить… И море бьет баклуши,
не в силах оторваться от земли.
ХVII
Когда один в нешумном городке,
после отъезда с родины, гуляешь,
вдруг понимаешь – жизнь не вдалеке,
а где-то рядом и об этом знаешь
уже всю жизнь… Кораблик по реке
плывет бумажный, но его теряешь
из виду, как рисунок на песке
ХVIII
теряется водой – не различить
после волны: ни черточки, ни точки
написанного ранее. Сличить
с оригиналом не возможно – строчки
песчаные и долго им не жить,
как ни пытайся сохранить источник
не сохраненного… и что-то изменить.
ХIХ
Ты можешь дальше жить на берегу –
поближе к небу. Небо с облаками,
которые не таят на бегу,
которые потрогать лишь руками
не можешь ты, и ветер на беду
их гонит прочь у нас над головами,
стараясь навязать свою игру.
ИОСИФ – АННЕ АЛЕКСАНДРЕ МАРИИ
Прости, что жизнь уже не на двоих! –
как было раньше. Существо потери
скрывается не за окном – внутри
тебя самой… Еще – не верь, что двери
закрыв, отгородишься. Осознанье
беды приводит к новым откровеньям –
такое вдруг приходит в голову однажды,
что плачешь долго, пробуя понять,
куда мечты приводят после смерти
любимого тобой… Слетает ангел
помочь тебе постичь секрет старенья –
не перехода в новое пространство –
другого варианта длинной жизни…
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
И, если, вдруг, окажешься у места,
где счастлива была – не возвращайся,
не строй по новой планы, не пытайся
исправить жизнь – ведь дважды не войти…
ХХ
Холодный вечер в тихом городке…
В конце зимы люд думает о лете,
о переезде к югу по реке,
на пароходе… А покуда ветер
гоняет мусор… И в твоей руке
немного денег – не пропасть на свете
или не сгинут от тоски в реке…
ХХI
Но путешествие не длится целый век.
Перемещение по карте лишь возможность
продлить скитания, как может человек
вообще продлить… Но давит осторожность
иль страх, что утром может быть и век
не сможешь разлепить… Тревожно
так думать, собираясь на ночлег.
ХХII
И музыка звучит, как старый лес:
немного длинно, но всегда в финале,
на выходе из леса – сильный всплеск,
как будто выдох. И в огромном зале –
лишь тишина… И, не вставая с мест,
все ждут виденья, что в оконной раме –
вдруг промелькнет, но это только жест…
ИОСИФ - ……………….. (БЕЗ АДРЕСАТА)
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
никуда… ?Ниоткуда с любовью…?…
ХХIII
…и ангелы, и чьи-то голоса,
и тихий шелест крыл ветхозаветных –
лишь дополненье к старым небесам,
которые, так долго без ответа
нас оставляют, что, порою, сам
вдруг думаешь: не вымысел ли это? –
но снова слышишь чьи-то голоса…
ХХIV
…и тень земную снова видит глаз,
и свет горит, как в первый день недели,
и продолжается раз начатый рассказ,
столетье начиная в понедельник,
и слушая уже небесный глас:
Васильевский, Манхеттен, Сан-Микеле –
по-русски и английски в первый раз!
март – апрель 2001 год.
** *
Лепнина старых зданий – виноград
и серп и молот… Несколько листочков,
вплетенных в стену – просто наугад –
строитель, видимо, спешил поставить точку
в своем воображении. Спешил… -
замуровать, чтоб больше не встречаться
с твореньем рук своих, но не души,
которая в листве бетонной бродит часто,
среди деревьев вымышленных, тень
отбрасывая, даже в непогоду,
когда холодным струям целый день
не лень плестись в бетоне на свободу –
к земле поближе, к листьям и траве
еще живым, не вытоптанным даже –
стекаясь в лужу… Листья на стене
и виноград, как будто на продажу.
апрель 15 2009 год
? Драгунов Андрей Вячеславович
г. Волгоград, ул. Триумфальная, 6, кв. 80
[email protected] тел: 8 909 390 2140
стихотворения
АНДРЕЯ ДРАГУНОВА
2009
* * *
Мы пили чай из бледно-синих чашек
и как-то нехотя смотрели мы на сад,
что крепко спал в ногах у старой башни.
И выспавшись после гостей вчерашних,
мы пили чай, смотря на старый сад.
1989
* * *
Осьминог, опускаясь на дно морское,
средь коралловых зарослей ищет покоя.
И найдя, зарывается в теплую тину
и вспоминает женщину, что звали Ниной.
Нина – владелица прибрежного кафе.
Здесь по утрам встречают постояльцев,
здесь с иностранцем объясняются на пальцах
и здесь седой полковник в галифе –
с утра...
Море, как всегда безмятежно штормит.
Восемь с четвертью балов. Над ухом шумит:
толи шелест волны о прибрежный песок,
толи дула железо о вспотевший висок...
А может это просто упавший птенец
серой чайки
кричит под ногами прохожих.
Может быть...
- Вы с ним чем-то очень похожи,
Нина.
А может – это просто конец.
?И пора под венец,
да не пустит отец...?, -
размышлял осьминог
зарываясь в песок.
1989
ЭНТОМОЛОГИЯ
Яркое созвездие знакомых –
по учебнику еще, еще из детства.
Длинное гуденье насекомых
вечером под фонарем. Одеться
не мешало бы – в прохладный вечер мая
ветер еще холоден и резок.
Воробьев растрепанная стая
бьется в купол фонаря. Отрезок
времени с подлета до съеденья,
что падение звезды с небес на землю.
Майский жук за радостное пенье
захлебнулся кровью. Кровь на землю
пролилась и растворилась в пыли.
Шум умолк под фонарем и крылья
разметались в небе. Жили – были...
1991
НАТЮРМОРТ
1
Стоваттная свеча под потолком
сжигает тонкий ситец абажура
и стены комнаты вбирают хмуро
свет в воздухе разлитый молоком.
Разбрызганный по стульям и цветам
в горшках на подоконнике горбатом
на швабру переходит, что солдатом
стоит в углу, на первобытный хлам
по комнате разбросанный то там,
то тут, на сломанный светильник,
висящий над кроватью, на будильник,
стоящий рядом. Снова по цветам.
По тонкому сплетенью их стеблей,
переходя от пестика к тычинке.
По выцветшей давно уже картинке,
по девочке смеющейся на ней.
По выпитым когда-то на троих
бутылкам под газетой, по пластинкам,
по одиноко брошенным ботинкам –
давно уже не надевают их.
2
Сломавшийся когда-то патефон,
пустой аквариум, разбитая посуда,
газет истлевших собранная груда,
давно не говоривший телефон,
залитый чаем стол, раздавленная муха,
на два разломленная корочка батона,
три лепестка упавшие с бутона...
И звук не различаемый для слуха –
с той стороны оконного стекла.
А с этой стороны все как всегда:
разбитая посуда, пустой аквариум,
газет истлевших груда,
сломавшийся когда-то патефон,
залитый чаем стол, раздавленная муха,
давно не говоривший телефон,
и звук не различаемый для слуха...
Немой будильник, сломанный светильник,
горбатый подоконник, швабра, пол,
стол, стулья, девочка, распитые бутылки,
окно, кровать, стена, опять окно
и лампочка под потолком, и тонкий ситец абажура
мотыльком
прильнул к стеклу –
все тянется к теплу...
Все, как всегда:
разбитая посуда...
И голоса, что могут без труда
сказать: ?Смотри, как падает звезда...?
ноябрь 1991
ПЕСНЯ ДОРОЖНОЙ ПЫЛИ
1
Находясь в трех минутах ходьбы от родного порога,
отдаешь должное полету мысли и восторга.
Сознаешь себя слагаемым учения Пифагора
и классических статуй.
Но слова типа – Здравствуй –
уже не являются причиной радости
и застолий.
2
Отряхнув пыль с обветшалого платья,
стараешься быть похожим на человека,
освободившегося от чужих объятий
не без пользы для дела.
С успехом измерив окружность земного шара,
переступаешь порог знакомый –
так и надо.
3
Не видишь изменений в четырех стенах,
перегороженных занавеской,
только у сына в гостях будущая невеста
напоминающая дрожжевое тесто
на подходе.
Жена на взводе из-за раннего возвращения –
ничего не готово к встрече.
4
Уместней было б оказаться проездом,
случайно. Заскочив на часок,
попить чаю, взять бутерброд и раствориться
в дорожной пыли,
как сказал бы сказочник: ?Жили –
были?, и хотя постель давно остыла –
жаждет новых свершений, а мне не мило.
5
И журчанье воды напоминает ставни –
поздней осенью журчат так же,
аж мороз по коже, когда один.
Но и рожа в зеркале. Соскрести охота
ноготком с кости... У всех заботы до
десяти. А потом охота за водой из крана –
до рвоты.
6
Застолбить дорогу верстовыми ухабами,
чтобы телега рассыпалась на подъезде к дому – от страха.
Соседская сваха
предлагает жениться (при живой жене)
на своей сестрице. Обещает, если
хватит ума согласиться, полцарства
в приданное –
7
куда мне столько, разве что для походов,
да и то на долго его не хватит.
Придется лопатить под огороды,
а это значит – прощай свобода и т.д.
Начнутся баталии с соседями из-за
курей, свиней и жен (у меня их может быть две)...
Нарожон лезть кому охота.
8
По мне уж лучше болото
с островком посреди – вот и все
полцарство. Метр на два и брод
для близких, чтоб носить продукты
и с работы записки по вопросу получки
в связи с отлучкой
моей надолго.
9
Кукарекать некому, когда спать охота,
на краю дороги, посреди болота.
Ну какой же прок от дорожной пыли?
Разве что опять сказать: ?Жили –
были?, и, поставив точку, разойтись по свету.
Я пойду в ту сторону –
ты в эту.
10
Что слова для песни, если музыки нету,
разве что междометья вдогонку ветру.
?Ну и глупый ты, дядя, никакому ветру
не нужны междометья, если денег нету,
чтобы ехать в поле, где он витает
вперемежку с травой, а впрочем, ерунда ведь
все это, если не больше.
11
Как сказал прохожий по дороге из Польши:
?Там жить можно, но и не больше
этого?, - все возможно. Я там не был
мне с чем сравнивать, только
?х? и ?у? и то уравнивать надо,
подогнать к ответу, чтобы сошлось
с результатами опыта.
12
Хотя все это мало похоже на правду,
все ж расстояние в длину лучше, чем в глубину
лужи, пусть и очень большой.
И зачем к тому же создавать институт
для изучения стужи.
Она ведь все-таки –
зима!
1992
IN THE COOL OF THE DAY...
Игорю Кучину.
1
Я мальчика увидел, он смеясь,
бежал навстречу - нет, немного мимо.
Разлаживал сандалей ниток вязь,
подобьем шестикрылым Серафима
на берегу - столетий тонких связь.
2
Прозрачный день. Рука скользит к виску -
боль головная раздражает...Вечер.
И непрерывной ниткой по песку
танцует тень - огонь немногих свечек,
дань отдавая мокрому песку.
3
День был как все - за исключеньем лет,
когда мы вместе жили у фонтана.
Страна уже настроила ракет,
открыла атом, кран, лицо Ивана
и бесконечно дальний Новый Свет.
4
Литовский вариант сошел на “нет”.
Сошлись соседи. “Призрак” не уехал.
По истеченье очень многих лет -
дорогу переходят не по вехам,
а по скопленью стареньких газет.
5
Война закончилась еще до сентября,
и дети поспешили чинно в школу -
учебники, цветы, блеск букваря,
учителя, цветы! и тост за школу.
Распевки под баян и под “ ля-ля”.
6
Желанье выпить. Мокрый календарь -
истории уходят за друзьями.
Попытка перейти из “ныне” в “старь” -
обычно завершается слезами
и возвращеньем слова “жизнь” в словарь...
7
Глагол “уйти” - возможность ничего
не понимать и оставаться дома.
Не возникать без дела и всего
один лишь раз попробовать другого
глагола - “умереть”. И ничего...
8
Смерть наступает будто бы зима...
И, кажется, словесная отвага
не стоит ровным счетом - ни черта!
Глаза подслеповаты - будто влага
размыла тень - прозрачная черта.
9
Оконный силуэт слегка размыт:
дождем? слезой? - не расторопность зренья.
И, кажется, из мрамора отлит
прошедший день - наказанность забвенья.
Из радио оркестр не звучит.
10
За дверью ветер воет на трубе,
стучит в окно, замочками играет...
Напоминает чем-то о тебе...
Стучит еще и...улетает,
сыграв “прощай” на каменной трубе.
1993 .
* * *
Когда-нибудь, когда пройдут года
и возвращаться повода не будет -
останеться лишь талая вода
и перекрестки старых улиц.
Строений старых мокрые дворы -
после дождя. Банальные качели.
Картавый крик соседской детворы -
теперь уже совсем не те соседи.
И отраженье в зеркале не то -
последнее уже удел старенья...
И утром с тонкой пенкой молоко
напоминает лучшие мгновенья.
Когда-нибудь, уже в других краях,
в другом таком пространстве вспомнишь это -
все, что осталось разве что в мечтах
и на бумаге, только без ответа...
Когда-нибудь...Наверно - никогда.
И поезд в этом больше не помошник...
Из времени осталось лишь - всегда,
как город, дом, фонарь, аптека, площадь...
1995 .
* * *
И.З.
Перепрячь мои письма подальше и карандаши.
Бельевою веревкой свяжи мне судьбу напоследок
в этих птичьих конвертах - на память. Хватило б души
пережить это время, как раньше далекий мой предок.
Сохрани на листах, может быть, беспросветные сны,
время года, погоду, тоску и мои вспоминая
о тебе поздней ночью. Черней до рассвета листы,
перепутав уже не страницы, но только названья.
Сохрани написание букв, но не с новой строки,
может быть, предложенье, где все из значков препинанья -
многоточье сильней, даже просто - длинней...Коротки
наши встречи с тобой. Сохрани, сохрани мне дыханье.
1996 .
СЕНТЯБРЬ 1997 года.
Вечер дня в городе с траченным небом -
облаками, как молью пиджак в шкафу.
Автомобили с извечным - где бы
пристроится на ночь, заполнив собой пустоту
проезжей части. Звуки старых мелодий
из репродуктора... Что-то еще из вещей
давно забытых, впрочем, совсем не многих -
из тех, что, найдя случайно - теряешь быстрей.
Несколько пар неспешных - к своим подъездам
через туже проезжую - правилам вопреки,
досужим сплетням старушек, вполне серьезно
рассудивших о будущем, но пальчики коротки,
как и память. Кто-то, немного пьяный
недоволен погодой и вечером после шести -
в шумной компании... Резкий звук фортепьяно
из открытой форточки. Кто-то кричит - Прости!
Старик на стуле под окнами после солнца
млеет в тени. Соседка с сухим бельем
проходит мимо, толкуя, что вот британцы
будто очень злые. И связано все с дождем...
Вечер дня. Я за закрытой дверью
в своей квартире. Мысли о завтрашнем дне,
о погоде утром, о том, что уже неделю
нет из дома писем... Кто-то стоит в окне.
Скоро полночь. Колокол на часовне
пробьет двенадцать. Кто не успел уснуть
вздрогнет привычно, или о чем-то вспомнит,
что было однажды... Чего уже не вернуть.
сентябрь 21 1997 .
ОКОНЧАНИЕ ПЕРЕЧНЯ.
И уже не спросишь - ни птицу, ни дровосека
о прохожем, что был здесь - тому пол века
как пролетело. Не спросишь белку,
потому что погибла в ту перестрелку,
в ту весну, когда ты носила платье
под цветным плащом и дарила объятья
на право и лево своим знакомым,
считая их каждый раз по-новой
системе счета. Не спросишь ветер,
потому что он все равно не ответит
и не дослушает до конца вопроса -
сгинет быстрей, чем сгорит папироса
и уронит пепел на лист опавший -
все равно его считает пропавшим -
ветка, дерево - дуб, осина...
У соседа вырастут еще два сына -
впику твоим, да еще девчонка,
на которой короче любви юбчонка...
В этих краях не любят долго -
все равно от любви никакого толка -
в этих краях...В таком селеньи
считают столетия на поколенья,
на колличество каши и щей в кастрюле.
И из ласки - детское: “Люли-люли!”
Баю-баю - кошачьи сказки...
Только кошки мышкам не строят глазки,
как не строят глазки и все соседи -
здесь добрее голодной зимой медведи...
Даже волки добрее в дремучей чаще,
отпуская с богом совсем пропащих...
Ночью в этих краях замерзнуть -
как “два пальца”. Такие звезды!-
снятся стынущему в сугробе:
супчик, женщина...что-то вроде.
Что-то вроде последней встречи -
с дровосеком, птицей, как “Добрый вечер,
со свиданьицем - свиделись, слава Богу!
Не прошло и пол жизни, как я в дорогу...”
Снятся дети, жена, соседи -
не эти, что хуже и злей медведя.
Снятся пряники - нет - баранки.
Снится как в детстве катался в санках.
Снится как отпустил синицу
в синее небо - не пригодится!..
Может быть кто-то еще поймает -
нет - так и лучше - пускай летает.
Может быть журавлем родится,
ну а нет - так и так сгодится
новым рукам и еще живому -
не ушедшему далеко от дома...
Снится еще как в последний вечер
были с женой и детьми на речке.
Как на нее вдруг туман слетает!...
Снится - авось, до весны откопают...
1997 .
ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ.
...голубой цвет лагуны. Немного нервный...
Я, в неброском костюме, свои наблюдаю черты -
в потускневшем от влаги зеркале, в пости что сером
варианте неба, в его отраженье. В варианте воды.
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Я пишу тебе снова из этих чужих широт.
Для тебя не знакомых - ну, может быть, по открыткам.
От того тоскливее строчки и больше длиннот
в описании местности, уподоюляясь свиткам.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Здесь все также, как я писал тебе. И народ
так же глуп и несчастен в своем понимании жизни,
так же мерзок, как первый утренний бутерброд
после пьянки вечером, но это всего лишь мысли,
правда - мои. И тебе ни к чему сюда
приезжать и писать...Какие уж тут затеи
или хлопоты встречи, когда лишь одна вода
к пониманью способна - вполне...И я ей верю.
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Ни к чему вспоминать, что ты мне еще жена –
столько прожили врозь, что теперь лишь считать убытки
от почтовых расходов...Но в том не твоя вина -
просто нам было легче писать на песке... и открытке...
…………………………………………………………….
Здесь неважное пойло и кофе здесь, в общем, гавно!
Ах, прости за сравненье - какие с меня реверансы!
Я совсем разучился манерам...Почти что кино...
Жаль, что здесь нет тебя...и кругом одни иностранци...
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
...ах, приехала б ты. Я б тебя познакомил с подругой...
Да, прости - времена. Одному здесь не выжить с тоскою!
Я наднях повстречал (перечеркнуто) - встретился с другом,
но и он восвояси...Теперь вот сижу над строкою...
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Перечел тот роман, что ты мне подарила когда-то...
Кто ж там автор? Ах, впрочем - какая в том будет заслуга..
Я не помню уже...Да - я скоро умру, вероятно...
Вот тогда и сочтемся за все, что писали друг другу...
1997 .
ЯНВАРЬ.
Он исчез в тусклой стуже...
Уистен Оден.
Опять январь...О, сколько января!
И рыбьих фонарей со струйкой дыма
внутри стекла. Уже не говоря -
про снег, мороз...и вообще про зиму.
В который раз Эвтерпа - сирота -
в бумаге дело здесь, или в погоде
начала года? Или же места
распределили раньше боги? Боги! -
не так же часто...Улица пуста.
Аптечный цвет замерзших тротуаров -
как можно кстати...Ветерком с куста
срывается снежинок покрывало...
Опять январь! Кто едет по зиме?
В какую даль загружена повозка,
кто пассажир? Но кто ответит мне?
Кто стелит мягко так, что спать так жестко...
февраль 17. 1997 год.
* * *
Вдох не ровняется выдоху… Эхо
где-то внутри раздражает гортань
шелестом звуков, ломая помеху
пению и, преступая за грань
голос, не в силах держаться, взлетает –
выше, где, может быть птичий Рай,
до облаков и у них затихает,
как бы теряясь, но это за край
облака, звук растворясь, залетает
и поднимается выше – за край!
Звук, не сорвавшись до птичьего крика
сквозь раздраженную эхом гортань,
вдруг растворяется, трогая грань
облака, шорохом, но только – тихо!
апрель 17. 2001 год
* * *
Я родился и вырос не там, где, наверно, умру
Отпусти же мне, волжский суглинок, грехи напоследок,
чтобы вспомнить в другой географии эту траву,
что горчит на губах и становится в памяти следом
за неспешной водой… География в сумме вещей —
лишь желание выжить, не сгинуть за облачным краем,
поселившись однажды в империи, где без затей —
затеряться среди поселенцев с имперских окраин.
Океанский простор, птичий клекот и облачный край —
дополнение к жизни истории, смысла к бумаге,
новых карт к географии… Где там потерянный Рай?
До которого выжить хватило бы сил и отваги!
Я родился и вырос… и ты отпусти мне грехи!
мне не выбрать уже ни страны, ни погоста, ни даты
окончания перечня, чтобы закончить стихи,
не сорвавшись до крика, с которого начал когда-то!
август 20.2001 год.
ПОЧТИ ЧТО ПЕСЕНКА
…и город плыл под краску тусклую
заката, моя грязь и изморозь
по тротуару. От безумства ли,
иль — так вся жизнь моя случилася.
Но от тоски и невеселия —
соображаешь, что осталося
от проживания похмельного,
от буйства давешнего радости.
Остался этот город маленький
с оконцами в размер скворечника,
где душу дьяволу — за валенки!
И, где любимая не встречена…
Где роза алая с гвоздикою,
с каким-то листиком засушенным —
в дырявой банке с паутинкою —
в пространстве, в общем-то, разрушенном.
Но радуется люд по праздникам,
столы сколачивая новые —
они, конечно, очень разные —
до первой даже незнакомые…
сентябрь 19. 2001
НАДПИСЬ НА КНИГЕ
Яне Джин.
На кофейной гуще — где-нибудь в Амстердаме,
в досентябрьском Нью-Йорке, в Москве морозной —
погадать на будущее, но увидев свое отраженье в стакане,
про себя подумать — не поздно ли?..
Но какая музыка в древнем городе! — в любом на выбор —
Только б от счастья не перепутать местами…
Кто-то, приезжий, картавит названья, чертясь на выговор,
дополняя несказанное — стихами.
И в кафе на площади, где-то в одном из лучших
городов — хозяйка кофейни придержит столик
для желающих погадать на кофейной гуще
и чего-нибудь выпить — за имперский стольник!
октябрь 6. 2001
* * *
Я слушал пение сегодня, в понедельник,
какой-то девочки — за мелочь или булку…
Подземный переход на Комсомольской
был полон, как всегда в такое время —
обеденное время. Кто-то деньги
бросал в коробку и спешил уйти
от места слабости своей подальше…
Никто не слушал — как она поет!
Был понедельник, я спускался вниз,
в подземный переход на Комсомольской
за свежим номером газеты, кто-то пел.
Из-за угла я никого не видел…
Пройдя чуть дальше — девочка стояла
и пела — голос выходил из подземелья…
Испачканное, милое лицо… и звук,
дробивший стены подземелья на мелкие куски.
Я слушал и заслушивался — эхо
кружило меж людей в подземном мире,
не выходя из темного пространства — на верх,
боясь само себя разрушить… Я стоял,
как вкопанный и плакал. Понедельник
мне показался самым лучшим днем…
И девочка, что пела в подземелье, и жизнь,
что так не любит чистый звук,
что поднимаясь из глуби пространства,
уходят дальше — к облакам и звездам!
октябрь 8. 2001
* * *
Регине Дериевой.
Ни чернил, ни февраля —
только шариковый стержень,
ночью строчку выводя,
по бумаге буквы режет…
Ни расплывчатых картин —
в небе — облаком летучим…
Кто-то машет средь руин,
но от этого не лучше! —
ноет клапан выходной,
сердце давит — на погоду?
Мне от этой неземной
жизни — хуже — год от года.
Мир не лучшее из мест,
где родиться стихотворцу,
но в отсутствии небес —
строчки, как ножом по сердцу.
И струится красный след
по бумаге, между строчек —
вслед за шариком — во мгле —
этой ночью. Этой ночью.
октябрь 17. 2001
ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ
В. Д.
Она была подругой алкоголика.
он был женатым на ее подруге —
любовный треугольник возле столика
с вином и водкой, и с закуской — в круге
настольной лампы. Полные стаканчики
граненые — по правилам гранения.
И вкруг стаканов переплетье пальчиков
искуренных и с пятнами старения.
Он был стахановцем, точнее, был забойщиком,
но не скотины — каменной истории,
в которую, как пальцами закройщика
впивается игла, но ткань не новая.
И он, страдая от убийства каменной
истории, глотал все, что горящее
под руку попадалось, жидким пламенем
сжигая жизнь свою не настоящую.
Подруга стала дивным сочетанием
его мечты с банальной бытовухою.
И славилась на косточках гаданием,
хотя еще и не была старухою…
В ее судьбе не получилось главного —
ни мужа, ни детей, ни продолжения
какого-нибудь боле-мене славного…
И жизнь текла почти что без движения.
Подруга, муж, жена — любовь до коликов —
бутылка на троих делилась правильно.
Она была подругой алкоголика,
он был женат… — а впрочем — все по правилам,
по полочкам, по списку… Жизнь — обманщица! —
отца подруга задушила в день рождения,
в начале августа… И скуренными пальцами —
по крышке гроба, задушив волнение.
октябрь 20. 2001
РЕЧЬ
Звук осторожный и глухой…
Осип Мандельштам.
Если слово от Бога, то что же у глухонемых?
Перекрестие пальцев? И речь их ветвисто-корява —
в этих самых ветвистых руках? Но покуда в живых
перекрестиях рук — речь звучит, как ни в чем ни бывало,
и длиннее слова, и понятен их смысл — без слов —
значит что-то в ветвистых руках — не доступное звуку.
Может что-то в сплетении пальцев? — но выбор суров —
между звуком и знаком — и напоминает разлуку.
Чем беззвучнее речь, тем чернее от знаков листы.
Продолжение речи — в чернильно-бумажном укладе —
мне милее, чем крик, что доходит до той высоты,
где теряется звук, растворяясь в пространстве, как в яме.
Мне милей говорящий руками — их жестче язык
в выражении чувств, в написании слов на бумаге.
Говорящий руками — не лжет, как кричащий привык —
тем длиннее ветвистая речь, как деревья в овраге.
Чем чернее листы, тем понятнее голос и звук,
доходящий до шепота. Речь — в перекрестии пальцев,
что сжимают перо, переходит от лиственных рук
к почерневшей бумаге и строчки уносятся дальше,
где беззвучней язык в перекрестии крыльев немых.
От того ли черны небеса? От того ли печали
предостаточно в речи ветвистой глухонемых?
Или все от того, что беззвучие было вначале?
ноябрь 9–11. 2001
* * *
Я в небесный сумрак хочу заглянуть — живым,
чтоб увидеть тени возлюбленных поселенцев
среди дивных сосен. Услышать из тишины
их не громкий голос — может не ухом — сердцем.
Но услышать сердце больше не может их.
Только старое эхо гудит, возвращаясь обратно,
дочитать пытаясь чей-то последний стих,
досказать историю — последнюю, вероятно.
Я хочу увидеть молчащий от боли лес. Лес,
где, спустя полжизни, селятся наши души.
Там, где кроме эха — нету других чудес —
и оно последнее, что можно оттуда слушать.
ноябрь 12. 2001
INTEREGNUM.
1.
На границе Империи, где кончается Волга и степь —
начинается смерть и курганы хоронят все золото грешного мира —
умирает история, чтобы уже не смотреть
как вдогонку летит, разогнавшись, со свистом секира.
Край заброшенных диких степей, где от конских копыт
и от конского пота дурман над травою витает —
век спустя, от чего человеческий голос дрожит —
не способный ни петь, ни кричать. И навек замолкает.
Область бывшей орды, область свиста и диких людей,
горьковатой полыни и редкого запаха мяты.
Область выжженных трав и сожженных, мочой лошадей,
очень редких цветов, что так часто копытами смяты.
Часть Империи, где только вымысел больше любви,
и где сны продолжают все то, что любимо людьми —
2.
здесь, где гибнет история и где Стенька мочалил княжну,
здесь, где тень от травы покрывает могилу солдата,
здесь, где Волга не гонит уже на песчаник волну —
ударяет о камень и с шумом уходит обратно.
О, поволжский суглинок, растоптанный в грязь сапогом,
перемешанный с кровью и потом на пыльных дорогах.
О, разбитая жизнь, что кидала страна напролом —
замерзать по колено в грязи и в глубоких сугробах —
здесь приют и покой, среди выжженной солнцем травы,
под которую лечь и уснуть, и не помнить о жизни,
среди, потом пропахших, цветов, среди этой жары —
в этом длинном, степном варианте любимой Отчизны.
Здесь, где свет преломляется только о мертвый зрачок —
о любви к песнопеньям и к жизни короткой — молчок.
3.
Я, потомок нездешних, приехавших с дальних земель,
но с такой же реки — сын бездомного головореза,
в просторечье — разбойника, пережившего свой юбилей
лишь на пару часов, поспешив на свидание с дедом,
что прошел две войны под приказом — ни шагу назад,
но за хлесткое слово разжалован был в рядовые —
завсегдатай немецкой культуры, российский солдат,
лейтенант-губернатор, спаситель — теперь в вестовые.
В этом мерзлом суглинке тебе, как под Божьим крылом —
рядом с сыном, оставив в наследство — о прожитом жалость
и семь слоников — белого, карского мрамора, что за стеклом
хоронятся от пыли, но какая же все это малость —
ты же знаешь, что нам предстоит еще встретиться вновь,
чтобы снова найти для беседы — слова и любовь.
4.
Здесь, где речь, как трава — прорастает сквозь мертвый пейзаж
и деревьев не встретишь — лишь в виде крестов и ограды,
и домов повалившихся набок — все лишь антураж
в оформленьи степи. С небесным строением рядом
облака проплывают, теряясь у кромки воды —
у великой реки и делов-то — топить чужестранцев —
инородцев в другом варианте, смывая следы,
чтобы чистый песок лишь сочился меж высохших пальцев —
здесь, где речь, как вода — завершает течение лет,
отражение множа ветвистым рисунком из листьев,
из прожилок их тонких, что видно, когда на просвет,
дополняя рисунок расцвеченной облаком выси —
здесь, где речь, проплывая за облаком, тонет в воде,
дополняя пространство — мне шепчет о новой беде.
5.
А вокруг ни души — пара сусликов, брошенный дом.
Ни раскосого взгляда татаро-монгольского хана,
ни тягучего пения, ни собачей игры за окном —
ничего вообще — в ожиданьи "грядущего хама".
Мне отсюда не видно уже — ни коней, ни копыт,
мне не слышно отсюда зековского пьяного мата,
что в своих вспоминаниях бережно память хранит —
также бережно, как охраняет травинка солдата.
Мне отсюда — туда дотянуться, как в старом кафе
дотянуться до соли, но пальцами не дотянуться
до прожитого кем-то в угаре на санной софе,
на соломке в избушке… Как в прошлое не окунуться! —
здесь, где смысл имеет лишь то, чем чернеют листы
и лишь то, что скрывают от смерти слова и мечты.
декабрь 2001
* * *
В бокале ржавого вина —
передержали слишком долго —
одна вина — на всех одна,
как страшный суд, как речка Волга.
И страшный ежедневный суд
с бокалом перезревшей мути… —
"смотри, покойника несут…" —
"и о спасении забудьте…"
И хриплый окрик: "Вы куда?" —
не остановит пешеходов —
одна вина — на всех одна.
Единолична — лишь свобода
перемещенья бренных тел
во времени и по чужбине,
где кто-то, бывший не у дел,
лепил свои портреты в глине,
стараясь скрыть оригинал,
но скрыл лишь смысл и тайну жизни.
И тот, кого оберегал,
сам оказался вне отчизны,
свершив тем самым страшный суд
над пережитыми годами… —
"смотри, покойника несут…
и, там глядишь, придут за нами…"
январь 15 2002
ПАМЯТИ ДЕДА.
ОТКРЫТКА ИЗ КЁНИГСБЕРГА.
Полковнику уже давно никто не пишет.
Почтовый ящик в длинной паутине
увяз, как дом в траве увяз по крышу,
и адресата нет давно в помине.
Ты переехал, не оставив новый
почтовый адрес. С видом Кёнигсберга
открытка — вид тебе знакомый —
спешит обратно, сообщить — уехал.
И тень твоя меж старых стен блуждает,
при ярком свете зарываясь в камни,
историю которых каждый знает,
где птица бьется, как о стены ставни.
Где на окраине старинный дом с верандой,
с почтовым ящиком в громоздкой паутине,
которую, еще будь жив, ты сам бы
смел веником, как раньше на картине.
май 8 2002
АВГУСТОВСКИЙ ЛИСТОПАД.
Сорваться с дерева. Слететь в ночную мглу,
как в омут кинуться. Свести с природой счеты
в начале августа. Разрушить синеву
ветвистым остовом. Придать земле работы.
Свести на нет всю летнюю игру
в садах и парках. Желтые с зеленым,
с коричневым — земельным — на ветру
слетают, отдавая дань газону
с его неброской выцветшей травой,
с его, до времени увядшими, цветами,
с его, изрытой временем, землей
и лейкой, что дырявая, как память.
Слететь, отправиться на длительный покой
среди травы заснеженной. Разрушить
своим отсутствием пейзаж над головой,
где в летних листьях обитают души.
В начале августа — до времени… Сентябрь
остался без наследства и работы.
И ветки голые, сгребая календарь,
не ждут — ни новых листьев, ни кого-то.
август 1 2002
1 МАЯ 1873 ГОДА.
1 мая 1873 года, в небольшой деревушке Читамбо
умер Давид Ливингстон, путешественник и исследователь
Африки. Там, в Африке и было похоронено его сердце.
Тело его было доставлено в Англию и похоронено
в Вестминстерском аббатстве. К числу его многочисленных
открытий принадлежит — водопад Виктория,
который он обнаружил и описал в 1855 году.
I
Кораблю не скажешь — Плыви по волнам туда-то —
не способен добраться сам к означенным датам —
ни по воле волн, ни гонимый порывом ветра.
У капитана зудит в глазу. И закат фиолетов.
Отправляясь в путь, не думаешь, что вернешься —
карты часто врут, обещая дорогу обратно.
Лишь бутылка способна, что из дома с собой берется,
как лекарство от боли или тоски — вероятно —
с письмецом вернуться, путаясь в координатах.
II
Вода помалкивает, вгрызаясь в корму корвета,
отмывая солью остатки темно-зеленого цвета,
добавляя соли в, и без того соленный,
быт путешественника. Далеко от дома
только волны знают как плыть, не глотая соли.
Но когда один, и вокруг — только море, море —
одиночество — суть продолжения чьей-то злой воли —
у волны не спросишь совета. И только горе
продолжает плескать в насыщенном морском рассоле…
III
… и когда позади остается уже полмира,
и месяц над головой маячит, как та секира,
и вода со щеки смывает слезу отчаянья —
вдруг видишь чайку, что на туже корму причалила,
но ее не спросишь, как человека — откуда?
Куда? Где искать спасения? —
среди этой бездны, где веришь не столько в чудо,
сколько в то, что доктор назвал бы — везением.
Но чайка взлетает и исчезает в облаке, похожем на горб верблюда.
IV
Ищешь глазами тень — хотя бы намек на землю —
что-нибудь, что можно потрогать: песок и зелень,
что-нибудь, чья жизнь не зависит от силы ветра,
что имеет твердые формы и суть предмета.
(Ничего на свете нет хуже соленой рыбы! —
на обед и ужин, на завтрак и вместо оных.
И гнилой капусты, которой пытать могли бы
в древности, но у моря свои законы…)
Никто не кричит — Земля! И вообще — сиротливо.
V
Возвращается чайка, а значит, спасибо Ною —
в обозримом будущем вода станет иною,
если верить ученым из института —
светлее — с точки зрения абсолюта.
Но чайка уже не спешит обратно —
толи долгий путь, толи ошибка в расчетах.
И ее желанье — спастись — вероятно,
сильнее страсти к ночным перелетам…
И команда опять спорит о координатах.
VI
И когда впереди замаячил берег —
за облаками — никто не поверил.
И волна, выкатывая корабль на сушу —
спасала не жизнь, а скорее душу.
Ибо лучше сгинуть где-то в помойной яме,
лучше гнить с червями в холодной, сырой могиле,
лучше смерть от пули, чем где-нибудь в океане
кормить охочую до людей скотину…
Лучше нищим здесь — с последним грошом в кармане.
VII
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Лишь один пассажир всю дорогу не ведал страха —
тезка Царя, однофамилец чайки,
приплывший с другой стороны воды под звуки Баха…
Его сердце спокойно, но увы, не крикнет — Встречайте!.. —
никому — жена там, где сердце, а остальное — по миру прахом.
P.S. из, так и не отправленного, письма.
Разговоришься с волной и тебя не дождутся дома:
ни к завтраку, ни к обеду… Вообще никогда больше.
Не увидишь пейзаж, до боли в глазу, знакомый —
рядом с, согретой солнцем, дворцовой площадью.
И сольются в один клубок, приходящие по две,
иногда по четыре — волны — с песком и гравием,
наливая карманы холодной соленой волей,
пополняя припасы странным морским гербарием…
август 2002
ПОПЫТКА БИОГРАФИИ.
Родиться бы не рядом с опьяненным —
вином и водкой пыльном Волгограде,
а где-нибудь в Голландии — среди
корабликов бумажно-деревянных,
что заплывают в дальние края
и растворяются среди таких же, бумажных, ангелов,
чьи крылья при пожаре
сгорают первыми, спасая душу, уснувшего патрона…
Родиться бы и жить там, где вода
без спроса заплывает в стих — для рифмы,
где улицы, между домов петляя, уходят в воду,
чтобы скрыть следы существования —
ботинок, ног, сандалий, машин, велосипедов,
прочих, прочих вершин прогресса…
Там, где тихий звук тревожит память,
где лицо подруги увидишь среди ангелов
бумажно-пожарных — в облаках.
Где эти облака, почти у ног, ночуют в,
специально приспособленном для сна, канале.
Родиться бы и жить там, где идти —
почти что тенью, вдоль закрытых окон,
почти незримым, видимым для глаз лишь тех же ангелов,
ступая по асфальту — уже считаешь счастьем. Раздобыть
на барахолке старую одежду, найти листок бумаги, карандаш,
какой-нибудь окурок сигареты — на завтрак, выпить чашку кофе —
на деньги, что хранились за подкладкой чужой одежды,
проводить какой-нибудь корабль в дальний путь —
за грузом: кофе, сигарет и чая, каких-то безделушек, нарядов модных,
старых добрых книг, картин, посуды…
……………………………………………………
……………………………………………………
… процесс писательства завел так далеко
от дома, что теперь в другую реку — невозможно —
не то, что дважды — просто окунуться, смыть летнюю жару,
степную пыль, что на зубах (оставшихся) скрипит,
как та телега, что мечтает стать паровозом
и мчать на всех порах в другую даль, в чужие города,
где знать не знают — кто ты и откуда.
Где сличить пытаясь твое лицо, в почти истлевшем паспорте,
с оригиналом, "начальник" соломинку предложит, что ко дну
утянет лучше камня — в одночасье — под гром "Прощания славянки"…
И в летний полдень — ветер
дополнит музыку двумя-тремя потерянными звуками.
август 6 2002
СЦЕНАРИЙ ФИЛЬМА (набросок)
Воспользуйся нечаянной поблажкой —
судьбы — узреть изнанку неба с самолета,
почувствовать, как все сильней рубашка —
дороже телу, с высоты полета
увидеть землю, как Его глазами —
сквозь облака, протиснуться к другому
созвездию, что там над головами —
все дальше и все ближе к голубому —
небесному. Небесные картинки —
земли и неба — рая или ада?..
В иллюминатор — белые снежинки
в начале августа! Небесная прохлада —
сквозь самолет, сквозь тонкую обшивку,
как сквозь рубашку, что милее телу…
Вдруг в самолете — яркое затишье —
звук улетает к дальнему пределу.
И дальше только долгое молчанье,
небесный сумрак, одинокий клекот…
И ангелов негромкое роптанье
в холодном небе — вслед за самолетом —
попытка неба объяснить о жизни,
(что так длинна), что там за облаками —
в совсем другой, еще не зримой выси —
минуты исчисляются веками.
август 9 2002
* * *
Между пиш. машинкой и листом бумаги — полжизни.
Из нее половина — поиски лучшей доли
или места под солнцем, чтение Кришны,
Библии, Торы, заданий в советской школе.
Между ними — все, как "между собакой и волком":
и последняя радость, и первое впечатление,
и возможность сгинуть, растаять в сырых потемках…—
между ними все, что началось с рождения.
И теперь, когда все сложилось и мне за тридцать,
и искусство поэзии требует — лишь отваги —
ожиданье того, что может еще случиться,
добавляет к уже случившемуся лишь соленой влаги —
ибо хуже не будет! Плыви по волнам кораблик,
иногда застревая на островах отчизны —
между прошлым и будущим там, где заводов, фабрик
еще тлеют трубы в ожидании новой жизни.
Плыви по волнам и порукой попутный ветер
тебе будет в море, как мне твой белесый парус
на горизонте – спасенье на этом свете —
от того, что было, от того, что еще осталось.
август 10 2002
ГОЛЛАНДИЯ.
Страна воды и чистых простыней.
Тюльпанов, мельниц, книг, марихуаны,
волнений моря, красных фонарей —
волнующих собой в округе страны.
Страна любви — художников страна —
но не ищи с любой картиной сходства —
вода смывает память. И волна
среди камней играет превосходством.
Страна забытых у воды вещей,
велосипедов, мокрых рук, сандалии
(забытых там же)… Время все быстрей
старается лишить пейзаж реалий
обычной жизни. Повседневный быт
кафе, прокатов лодок, магазинов —
из прошлой жизни… От того знобит.
И речка пахнет не водой — бензином.
Здесь потеряться в пене прошлых дней,
по памяти ища знакомый дворик —
с годами легче, как вода быстрей
смывает память. Сев на подоконник,
гляжу вперед и думаю о ней…
август 14 2002
* * *
Владимиру Каратаеву
Вновь я вижу тебя в сугробах в родных широтах.
Птичий профиль скользит по снегу, по мерзлой пене
облаков — над тобой, надо мною, над ним — каково там —
в сумме мелких вещей — не подчиненных лени?
В этой местности сгинуть в снегах и пропасть — не новость.
В мерзлой фразе — Ау — слышится голос предков
или тех, кто кроил пейзаж и осваивал область,
оставляя следы от сапог на снегу и ветках.
И сюда возвращаться — только когда не в силах
не увидеть руины… И голуби, как прощение
за отсутствие почты. Проще — письма любимым
за все время странствий. Или же отпущение
грешным делам? Сметенные в снег дороги —
больше — вехи жизни, нежели километры —
Бога! Но для жизни, все же, достаточно строги
местные зимние песни и зимние ветры.
Вновь я вижу тебя и слышу твои напевы —
в унисон синицам, что снежную мелют кашу,
отыскать пытаясь хотя бы немного хлеба…
Вновь я вижу тебя… И ты стал немного старше.
1994-август 2002
* * *
Маленькие города,
где вам не скажут правду.
Иосиф Бродский.
Безразлично уже — куда заведет дорога.
Этот город в степи горячей — размером с садик —
отпускает грехи не дальше сваво порога,
обрамляя пейзаж полынью, как в театре задник
обрамляет актера. Куда ни гляди — пространство
упирается в стену дома. Пейзаж напротив
навевает мысли о том, что куда ни странствуй —
все дороги кончаются где-нибудь на повороте,
у светофора, который, как раньше камень,
не сулит хорошего. И, сбросив одежду, витязь
ковыляет обратно, туда, где огонь и пламень
возвращают к жизни, где звать его — просто Витя.
И кому здесь выжить — так только сухой полыни
перетертой с пылью, как пепел в руках скитальца,
что вернулся домой, туда, где о нем забыли,
а из тех, кто помнил — уже никто не остался.
И порукой — лишь почта, что ты пересек границу,
и таможня дает добро на письмо в конверте,
и тебе достается только в руках синица,
а журавль кормится, где-то в другой части света…
… безразлично уже — куда приведет дорога,
но покуда скрипит перо и чернеют строки,
и покуда известье о смерти не несет сорока —
солнце утром взойдет, как принято, на востоке.
август 15 2002
ИЗ РОБЕРТА ФРОСТА
(Перевод с английского)
Все о чем я прошу — чтобы только не эти деревья
Обо мне позаботились после того, как старенье
Мне предложит на выбор сырую древесную маску —
Пусть не эти — в окне — будут ближе ко мне за развязкой.
Сквозь глухую ограду из этих, меня переживших,
Обнимавших меня и мой дом, возле них, стороживших —
Мне идти по опавшей листве во владения смерти,
Как письму, что летит в никуда в деревянном конверте.
Мне уже не вернуться сквозь эти деревья обратно…
И песок, что в часах, занесет этот дом — вероятно.
И меня пропуская в свои дорогие владенья,
Пусть деревья не видят того, что подвержено тленью.
Мне — оттуда — милее увидеть, что эти деревья
Научились прощать все тому, кто при жизни им верил.
31 АВГУСТА 2002 ГОДА
Крылышкуя золотописьмом.
В. Хлебников
Пока еще мы слышим пенье ос.
И звук еще пронзает "крылышкуя"
слоенный воздух. Время, стрелки, ось —
в часах застыли, как бы утонули,
как крылья в воздухе. Еще висит листва,
как паутина в брошенной квартире,
но слышатся осенние слова —
погода, дождь и что-то там о мире,
что утопает. Новая вода
стекает с крыш. В домах холодный мрамор —
теплее слов осенних, вся беда
которых в том, что пишутся на право,
а не наоборот, черня листы,
сводя с ума бумажное пространство
еще идущей впереди зимы,
что думает — все это — от лукавства,
и заметает летние следы.
2002 ГОД. ВОСПОМИНАНИЕ
I
1
И я ходил когда-то в детский сад.
Слагал слова из кубиков. Учитель
-еврей, на слух все пробуя, был рад
глядеть на нас на склоне дней — родитель,
своих детей не видевший, как раб
был предан нам — уроков сочинитель.
2
И мы ему платили за тепло,
наверно, тем же… Мелкою монетой
за счастья миг, за старое кино
на простынях, за длинный хвост кометы
в ночном окне. Показанный давно,
он все еще летит, летит по свету,
3
Так камень, брошенный в глубокий водоем,
дает воде возможность не вернуться
к исходной точке, где они вдвоем
и есть исход, но дважды окунуться… —
т.д. т.п. И лишь дверной проем —
всегда на месте, если обернуться.
4
Он был женат, но, кажется, война
(которая из них — не помню, право)
его лишила счастья и жена
осталась где-то в прошлом, под Варшавой,
в одном из мест, где жителей вина
всего лишь в том, что не имеют права…
5
Он отдавал нам все — и день, и ночь,
стараясь жить и больше не прощаться —
ни с кем уже. Заведующая прочь
его гнала, но утром возвращался
он к нам и, чтоб ему помочь —
мы не смеялись громко — он смеялся.
6
Казалось — он всю жизнь нас сторожил,
своим вниманием, казалось, согревая —
зимой и осенью… Сказала как-то — Жид —
заведующая, но не понимали
еще мы смысла… Что-то там бежит,
казалось нам. За нами, подгоняя…
II
7
Осенним вечером, гуляя вдоль цепей —
ограды здания, где, будучи подростком —
уже — я слушал маленьких детей —
их смех и плачь в одном многоголосье,
где птичий дом на древе, средь ветвей
им отвечал, иль задавал вопросы…
8
Где каждый метр изведан и знаком,
где тень знакомая почти как — продолженье
давно прожитого… Но тень вдруг стариком
мне показалась… Тихо, без движенья
он наблюдал за звездным косяком —
и только так его узнал теперь я.
9
Ловец созвездий — даже сквозь года
он сохранил о месте этом память,
где жизнь его прошла — текла. Текла,
как та вода, которую руками,
как звезды не поймать, увы — она
всегда меж пальцев — частыми кругами…
10
… его почти истлевшие черты
и немигающий, пытливый взгляд на звезды —
как будто ждет чего-то с высоты,
но по лицу я вижу — слишком поздно
менять орбиту — жизнь у той черты,
когда все звезды — это только звезды.
11
Он наблюдал почти, что не дыша…
Он точно знал — где что на этом небе
и не спешил. И также неспеша
и жизнь вокруг текла. И в лунном свете
он мне напомнил Иова — душа,
которого за все, за все в ответе…
12
Он тихо встал, прошел мимо меня,
стуча тростинкой — зрение наверно
его покинуло! Стуча ей по камням,
он, кажется, выстукивал, но скверно,
какую-то мелодию — хотя
все это так не нужно — совершенно.
13
Седой и старый. Старый и седой —
всех переживший, знавший о комете —
так много, что, казалось мне — рукой
ее поймал бы — если бы не дети…
Он шел во тьму, не ведая другой
судьбы — он просто знал — где что на этом свете.
сентябрь 4 2002
* * *
И кровью тоже пишутся стихи,
как шариковой ручкой, как чернилами,
как черте чем еще, когда шаги
все явственней на лестнице с перилами,
как дождь — все заунывнее в окне,
впиваясь в стекла крохотными каплями,
жизнь дополняя яркими — во сне,
скупыми наяву — цветными пятнами.
сентябрь 12 2002
ЭЛЕГИЯ
Яне Джин, с любовью
Ничего не осталось, помимо воспоминаний.
Груда сношенных тряпок, такая же груда посуды —
все богатство от жизни. Даже место, где я назначал свидание
тебе когда-то выглядит, как утратившее молодость чудо.
И вокруг за годы твоих и моих скитаний —
не прибавилось ни на йоту — ни деревьев, ни квадратных метров построек,
ни чего-то другого, что привлекало б вниманье
издалека приехавшего — увидеть как жизнь проходит.
И в чужих объятиях местность — читай — пространство —
трепыхается, как вновь пойманная пичуга
в холодную пору в местности, откуда — Здравствуй —
долетает уже после того, как утратил друга.
И куда ни гляди — вокруг лишь степное братство —
подорожник, полынь, чертополох и немного мяты.
Да бесконечный простор для зрения — то пространство,
где путешествие, если один ты — всегда чревато.
Но, уж если выжил, то воспоминание — лучше
и вернее будущего, чей незнакомый профиль
маячит в облаке, куда, как на всякий случай,
залетает птица, сжимая сильнее коготь.
сентябрь 28 2002
* * *
Яне Джин
Мысль удаляется, как разжалованная прислуга.
Иосиф Бродский
Ничто никуда не удаляется: ни мысль, ни прислуга.
Ни военная тайна из уст военных.
И то, что богу однажды шепнула подруга –
оказалось правдой и навсегда, наверное.
И куда ни глянь – теперь лишь все время – завтра,
т.е. то, что делается сегодня.
Т.е. те слова, что оказались правдой –
продолжают жить и после, где тьма господня.
И глядишь в потрескавшееся отражение,
как в ту бездну, откуда – ни вздоха, ни крика – Здравствуй,
ни любого другого слова, ни продолжения...
Как сказано у поэта – Куда ни странствуй!..
март 11 2003
НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА
Мне было два года, когда посадили отца.
И все ****овитое всплыло в похабных соседях.
И пара окурков упали в то утро с крыльца.
И мать прокричала во след - Не прощу подлеца!
И был в том году этот день, как сейчас - понедельник.
И холодное лето в тот год проронило слезу
не просто по факту погоды, а как на прощанье.
И то, что еще предстояло изведать отцу,
хранило до срока в тайге гробовое молчанье.
И ангел бумажный
слетел со стены,
что впрочем - не важно,
когда до весны -
под стук топора
и под скрежет пилы
твоя голова
рождает лишь сны...
Я рос какой-то промежуток без него.
Он нам писал, но мать не отвечала,
стараясь позабыть, что самого
она любила, но начать сначала
жизнь заставляла.
И когда возник в квартире нашей химик -
означала такая перемена для меня
и для отца - отсутствие причала.
Мы переехали в куда просторный дом
из нашей комнатушке в коммуналке,
оставив тосковать ее о том,
что новому хозяину не жалко -
ни дома, ни отца, ни долгих лет:
всего того, что оставляло след
в моей душе.
Но он всего лишь химик -
наука точная, лишенная истерик
и представлений точных о душе.
Скорее Н2О в заляпанном стакане
ему милей. Скорей в оконной раме
ему милее вид дымящих труб,
чем облака, что так к себе зовут.
Так шли года -
казалось мне века.
Отец освободился и уехал на крайний север,
к вечной мерзлоте, стараясь заморозить чувства к дому,
к тому, что было так ему знакомо,
но что осталось где-то вдалеке.
И все, что оставалось - деньги слать,
как банковский кредит на возвращенье.
Но слишком часто говорила мать,
что он не помнит дня ее рожденья,
что мог бы иногда он приезжать,
чтобы ее и сына повидать...
Но слишком тягостно к руинам возвращенье.
Она его любила и потом,
мне кажется.
Но жизнь не часть романа
о превращенье рыбки за бортом
в волшебницу для дурака Ивана.
Пока отец скитался - умерла
его мамаша.
Мы похоронили ее на старом кладбище.
Она
так и не дождалась, что он приедет.
И горсть земли - последнюю на гроб
я тоже бросил маленькой ладошкой -
и за себя, и за отца. Я на него
смотрел куда-то в даль,
как в некое окошко, закрытое до времени - а жаль!
Мы встретились, когда мне восемь лет
исполнилось.
Он постарел.
Мать нам не запрещала
с ним видеться.
Но если на обед не успевал я, тихо замечала,
что у меня теперь другой отец
и мне всегда об этом нужно помнить...
Отец опять уехал в те края,
где из друзей медведи и олени,
где кажется, что небо за края
земли цепляется - от невозможной лени
себя держать, но круглая земля.
И угловатость - круга не изменит.
Мне было мало лет и всех причин
его отъезда мне не говорили.
Так видно водится у брошенных мужчин -
что с глаз долой и сердце, как в могиле,
но все же бьется.
Тугоухий мир
едва способен различить созвучья,
как кем-то утром занятый сортир
не примет больше одного - и не конючте.
И писем не было... Лишь банковский квиток
на алименты - дань монгольским ханам
за право жить еще какой-то срок,
надеясь, что когда-нибудь и рана
на сердце заживет
и даст росток
другой любви. И он по возвращеньи
женился на толстушке из РАЙПО.
Мы виделись все реже и о нем
все реже заходили разговоры.
Все чаще, что пора построить дом -
мать с химиком уже разбогатели.
Какого цвета должен быть забор
и, что с зимовья птицы прилетели,
и нежен от вредителей раствор -
он все же химик...
Жизнь дачная с вареньем и салатом,
с гудением шмеля по звуку вороватым,
с квадратною дырой окна за занавеской,
с соседской дочерью - на выданьи невеста,
с медлительным процессом забыванья
того, что может вызывать рыданья.
Я переехал в тихий городок,
"гордящийся присутствием на карте".
И прожил там довольно долгий срок,
пока не понял я, наверно в марте,
что нежно двигать дальше, на восток
или на запад... И уехал в Польшу,
в страну панов, церквей, свечей и водки.
Но жизнь моя в чужих краях была короткой.
И я вернулся.
Пасмурное утро встречало крупным затяжным дождем.
Казалось, что погода виновато
мне говорит, что мы тебя не ждем...
По возвращении я навестил отца.
Он много пил, страдал от ожиренья.
Такая жизнь - в преддверии конца,
что может наступить в одно мгновенье,
мне показалась лишена лица,
но он сознательно не делал продолженья
существования. Вот так для мертвеца
жизнь не имеет смысл без сожаленья,
когда жена и сын, как в третьем измереньи...
Отца похоронили слишком рано -
ему бы жить и жить, но жизнь не по карману
вдруг оказалась.
И когда осталась
от всех скитаний только рана
незаживающая - он пошел ко дну,
измерив вдоль и поперек всю глубину
той стороны,
не чувствуя вины,
он сократил свой срок наполовуну,
от жизни получив глубокие морщины,
и номерок над маминой могилой.
А все, что от него осталось мне -
семь слоников, хранящихся в буфете,
да фотография на письменном столе,
где мы вдвоем. Одни на целом свете.
Да тот бумажный ангел, что слетел
с некрашеной стены, когда уехал
он слишком далеко -
он прилетел
теперь обратно с птичьим косяком
из дальних странствий, как и он когда-то.
Жизнь продолжается. Судьба в сою дуду
все дует, наполняя голосами
свободное пространство. Ерунду
порой нашептывая, или лабуду,
о том что смерть уже не за горами,
а где-то рядом ждет нас на углу.
май 2003 год.
ПАМЯТИ АНТОНИО ГАУДИ (1852 – 1926)
Его называли гением архитектуры,
новым первостроителем, старым пройдохой.
А он строил дома, как лепил с натуры:
с дерева, с облака, с первого и с последнего предсмертного вздоха.
Как одержимый выкладывал из опавших листьев –
толи окна, толи глаза любимой женщины,
как на портрете. Толи пытался ?дурные? мысли
передать на хранение грядущей вечности,
но был обманут прорабом и поставщиками –
умер раньше, чем наступила вечность
и теперь неизвестно чьими руками
будут закрыты глаза любимой женщины.
И семья распалась, лишившись ?дурного? сына.
Не его часть природы весной по-прежнему расцветает…
И та, которая его так любила,
о нем даже больше не вспоминает –
удел прощания. Глаз не хранит портреты,
как фотопленка – копии дней ушедших.
И Святое Семейство, скрывая свои секреты
от посторонних, его вспоминает все меньше
и меньше. И даже когда созвездья
поздней ночью спускаются в центр зала
им не обжитого, пытаясь услышать – Здесь я ... –
Семейство молчит, как немая фильма с дырявого полотна экрана.
И холодное облако, проплывая сквозь окна дома,
как на память об авторе, чертит на стенах крылья,
чья структура только ему и была знакома,
о которой, как и о нем, все давно забыли.
август 28 2003
* * *
Сны наши ярки в бендежке у сторожа,
в пункте приема стеклопосуды…
Кто-то крадется в ночи остороженно –
свой ли, чужой ли, греки ль с посулами,
данайцы ли с яйцами, иль просто с подарками?
Кто там стучится в полночную форточку –
то мотылек, или женщина жаркая,
срывая на входе желтую кофточку?
О, мотылек, на желтую лампочку –
знаешь ли чем эта песня закончится?
Впиваясь в стекло раскаленными лапками,
на миг ты спасаешь от одиночества.
октябрь 7. 2008 г.
ИВАНОВ. ПЕТРОВ. СИДОРОВ.
Сергею Васильеву.
Реклама в аптеке – Да минует вас чаша сия
со спасительным ядом... - И дверцу аптекарь закроет.
Васильевский остров весь в белом скрывает меня,
как черную ветку под снегом – холодной любовью.
Как черную курицу в длинных подвалах своих
скрывают подземные жители от любопытных,
от глаз посторонних, чтоб только осталась в живых –
пусть даже на белых страницах, сегодня забытых.
Гляди на листву. Снова осень ворует тепло,
как старый карманник ворует последний билетик
при входе кондуктора, чтобы его пронесло
от встречи с мужчиной в погонах… Ну, кто там ответит
какая там станция. Или опять проездной
фальшивый показывать даме с сумой и в фуражке –
почти почтальон, что приносит мне письма домой –
с такой же сумой, и с моей родословной в бумажке.
И черная роспись, как ветка на белом снегу,
блестит на бумаге. Брось листик, чтоб больше не помнить –
оранжево-красный, который в суму и в тюрьму
способен доставить, уставший за срок уголовник,
что срок коротает, как птенчик заброшенный на
чужую границу. Смотри его перья в помаде.
И пусть надзиратель, мужик, наблюдает всегда –
ему не успеть перекрыть пару дырок в ограде.
И только в аптеке на острове – свет и тепло
от белых халатов, спиртовки и запаха мыла,
с которым все чисто, все чисто, все чисто, все чисто… - Петров,
опять ты продал за бесценок ведро керосина.
октябрь 21.2008 г.
DEUS CONSERVAT OMNIA
* * *
Начинается все с пустозвонного крика младенца —
это первое, что сохраняет Всевышний и память,
и душа, что черствеет потом, за ударами сердца,
сохраняя лишь крик пустозвонный — годами, веками.
Это первое, что услыхали волхвы через бурю,
по дороге в пещеру — с подарками и бубенцами
для младенца в яслях. Как объевшись какой-нибудь дури —
надрывается вол в унисон с новорожденным. Сами
надрываются: мокрая, снежная вьюга, сквозняк, что в пещере,
в перекличке — солдаты, царя матеря и Иисуса,
что не мог тот родиться на следующей, теплой неделе —
и теперь им страдать: полуголым, голодным, безусым…
Лишь звезда молчалива в своем безграничном пределе.
июль 12 2002
* * *
Сохраняется все: и дорожная черная слякоть,
и перо, и бумага, и цокот копыт ундервуда,
что достался в наследство от тетки — поклонницы Кафки
и французской истории — в жизни ханжа и зануда.
Сохраняется все, что хранимо — за пылью — вещами:
и следы от ладоней с недлинною линией жизни,
и короткая надпись на старой, изъеденной раме:
"изготовлено в тыща таком-то году…". Но не мысли
откопать слишком много — кому есть до этого дело,
что хранимо под пылью. Что Бог сквозь века сохраняет! —
прибирая до лучших времен, как любимое тело
непутевого сына, который и знать-то не знает
кто ему нашептал: "Сохраняется все между делом!..".
июль 13 2002
* * *
Возвращается музыка в шелесте воздуха в листьях,
в перекрестии веток, чей скрежет до слуха доходит,
как какое-то пение. И уже сокровенные мысли
продлевают звучанье, что долго потом не проходит.
И среди этой музыки — в шорохе листьев и веток
речь звучит продолжением чьей-то далекой беседы:
"Deus conservat omnia", — как бы сливаясь с ответом
на извечный вопрос: "Что идет за рождением следом?".
И покуда слова долетают сквозь скрежет и шорох,
сквозь древесную азбуку, через глухую морзянку
постекольного стука, покуда за каменной шторой
городского квартала заводится тихо шарманка —
речь не стихнет и слух различит чей-то голос знакомый.
июль 8 2002
* * *
От бумаги, увы, остается лишь пепел. В начале:
скрип древесный и шорох листвы — с ветром вечная тяжба.
Или мокрая жизнь на безлюдном холодном причале
в виде лодок и бревен, что, в общем, не так уж и важно.
Но когда из бумаги выходит известье о смерти,
или просто записка о том, как немыслимо тяжко
продолжение жизни — пейзаж оживает в конверте…
И становится ближе — от пота — родная рубашка.
И в пейзаже — уже не скрипит, но рыдает от горя,
проливая смолу, как слезу, сквозь ветвистую память.
И бумага в чернильных отметинах, возгласам вторя,
сохраняет, сгорая, звучанье, что длится веками,
как река сохраняется, сдавшись соленому морю.
июль 9 2002
* * *
Ко всему привыкаешь: к погоде, к отсутствию дома,
к мертвой фразе в ответ на вопрос, к продолжению жизни
не смотря ни на что. К тому, что любовь — по закону
доказуема смертью — в прямом и естественном смысле.
Привыкаешь смотреть из окна, наслаждаясь пейзажем,
ограничив его деревянной некрашеной рамой,
как пространство стиха ограниченно массой бумажной,
что была до его появления лишь деревянной.
Ко всему привыкаешь, как к вымыслу или к виденью:
к облакам за окном, к редким птицам, к засушенной ветке,
что стучит по стеклу. К наводнению, к хляби весенней…
Привыкаешь к тому, что уже различимы отметки
окончания жизни. К тому, что и ты не последний…
июль 4 2002
***
Ожидаешь всего. И того, что уже не случится.
Птица воет в ночи, как собака, на месяц медовый,
накликая беду. Городская полночная птица —
перелетная птаха с маршрутом до боли знакомым.
Как старательна жизнь в забывании речи и шума.
Лишь ракушка речная хранит шелест волн с криком чаек,
остывая в руках, ожидая прилива и чуда.
И кипит на плите, задыхаясь от копоти чайник.
Ожидаешь всего… И когда в одночасье случится
разглядеть среди звезд, что твоя не мигает оттуда —
вдруг увидишь, что та, городская полночная птица —
лишь твое отраженье. И больше: ни речи, ни шума.
Лишь твое отраженье — все длится, все длится. Все длится.
июль 5 2002
***
О, словесная память — как азбука, но ниоткуда
сочетание букв, доверивших смысл бумаге.
Чем длиннее строка, тем быстрей наступление утра,
тем черней написанье чернильное знаков — в итоге.
Но светящийся вымысел в ярком неоновом свете
добавляет абсурдности. И до строки дотянуться,
как, с годами, запнуться на фразе в коротком ответе,
как устав от ночного кошмара — в итоге — проснуться.
Чем чернее строка, тем длиннее ее написанье,
тем доверчивей голос, звучащий уже отовсюду.
И длиннее ночное, в неоновом свете, молчанье,
что горчит на губах, как немытая утром посуда,
освежая водой постаревшее за ночь дыханье.
июль 6 2002
***
… все равно остаешься один среди облачной пены,
с птичьим шумом сличая словесную музыку жизни.
Как неспешны в своем продолжении, как неизменны
сочетания звуков — и в этой заоблачной выси.
И когда отлетает последняя птица к ночлегу —
только эхо еще продолжает звучать многократно,
продлевая звучание — где-то за облачным снегом,
возвращая в ночное молчание звуки — обратно.
И когда остаешься один, глядя в звездное небо,
различаешь уже не шуршание крыльев, но клекот,
среди прочих созвучий, что кормятся облачным хлебом,
но звучат слишком глухо, рождая не эхо, но рокот,
застревая меж звездами, тая невидимым светом.
июль 7 2002
***
Погружаются в ночь разогретые за день деревья.
Остывает расплавленный, солнцем раздавленный город.
Затихает, пропахшая кофе и потом, кофейня,
провожая последних гостей — лишь заученным sorry.
И о чем ни глаголь в это время — все выйдет паскудно,
как нежданный ребенок, но хуже — в сплошных многоточьях.
Прав был кто-то сказав, что родиться здесь, право — не трудно —
пережить эту жизнь и не сгинуть какой-нибудь ночью…
Кто-то шепчет — Прости, засыпая в зловонной квартире.
Одинокая женщина молча слезу вытирает —
день прошел бесполезно, как жизнь в засыпающем мире…
Где-то день наступает и чья-то звезда догорает,
добавляя пробелов в сплошном телеграфном пунктире.
июль 16 2002
***
Просыпаешься утром и чувствуешь — скоро осень.
Перелетные в путь и никто не осудит пернатых
за желание выжить, когда их скворешни заносит
и светило горит, остывая в своих киловаттах.
Чем длиннее дорога — туда, тем короче обратно.
И, сумевших вернуться к скворечникам, долгая память
заставляет кружить над пустыми — с тоски, вероятно.
И кормежка за выбывших делится поровну. В мае —
маета с обустройством и с поиском нового хлеба —
кто накормит пернатых в заброшенном, мертвом поместье,
где лишь память живет о былом процветании? Где бы
поселиться и жить с невернувшимся выводком вместе?..
И оттуда глядеть на обещанный краешек неба.
июль 11 2002
***
Кто привел нас сюда, но забыл, что мы все еще живы
среди выжженных солнцем равнин и мелеющих речек?
Кто закрыл нам глаза и замазал — для верности — глиной,
кто сомкнул нам уста, ограничив течение речи?
Кто прошел, как огнем и мечом, ограничив словами:
не люби, не желай, не живи?!. Кто любитель нотаций?
Кто нам так нашептал, что за всеми земными делами
лишь стоит ожидание смерти с горой деклараций
о заплаченной подати? Кто нам отмерил недлинную
беспросветную жизнь, рассчитавшись за детские шалости,
округлив пребывание в доме часами старинными,
чья минутная стрелка — быстрей с приближением старости
и короче часы ожидания встречи с любимыми?..
июль 17 2002
***
Если, вдруг, повезет и в глубокую реку забвения
доведется не кануть, не сгинуть в колхозной больнице —
посреди перегноя, где вымысел больше везения
в пересохшее лето и, где ни журавль, ни синица
не спасают от смерти — узнаю, что звездное небо
помещается в бочке с водой за прогнившим сараем,
что в деревне страдание движет прогрессом. И хлебом
называют не то, что обычно мы все называем…
А когда наступает тоска по прекрасной эпохе —
на границе империи режут свинью и гуляют,
заливая бессмертной водой все тоскливые вздохи,
округляя часы, о которых и знать-то не знают,
ожидая, что старый погост всех их примет в итоге.
июль 20 2002
***
Жизнь короче судьбы и, тем более, черных отметин
в целлюлозном ландшафте исписанной ночью бумаги.
Так изнанка вещей сохраняется лучше, при свете
разглядев подноготную — видишь, что дольше в итоге.
И тогда понимаешь, что только в чернилах спасение —
речь куда долговечнее памяти, дольше страдания.
И когда разбираешь пожитки — с дороги — последние,
узнаешь вдруг, что жизнь продолжается лишь забыванием.
И дорожная пыль оседает на вещи — последнее,
в чем старательна жизнь… Кто-то тянет за нитку суровую,
уводя из запутанных улиц, минуя забвение,
добавляя чернил в написание, пробуя новую
неразрывную нить, улучшая увиденным зрение.
июль 17 2002
***
Наступление вечера так же как смерть — неизбежно.
Отражение пялится на мой дряхлеющий облик
в полутемной квартире. И, даже, на завтрак надежда —
не надежнее, чем до получки оставшийся стольник.
И пока не стемнело совсем, и совсем не затихла
жизнь в рассеянном свете — ногтем поскребу амальгаму —
отыскать отраженье — лишенное всякого смысла
и надежды занятье, как выть на оконную раму,
за которой луна. И спокойные к ночи деревья
дополняют картину, лишь изредка ветру кивают,
отражаются в окнах, как в речке небыстрой селенья
отражаются вечно и дальше теченья не знают
своего продолженья, минуя тем самым забвенья.
июль 23 2002
***
… лучше жить в глухой провинции у моря.
Иосиф Бродский.
Мрачноваты под вечер не только деревья и мысли.
Жизнь вообще — меж собакой и волком — сплошная разруха.
И жильцы побережья страдают не меньше, но в смысле
продовольствия — больше других не довольна старуха.
Побережье молчит, ожидая прилива ночного.
Молчаливый старик невод свой, как монетку бросает —
на удачу, крестясь, ожидая улова другого,
чем обычно, но с чем он вернется — и рыбка не знает.
И волна, подплывая к ногам, лишь тоскливо лопочет
о несбывшейся где-то в столетиях бабкиной сказке,
но старик, в ожиданье улова, и слушать не хочет —
жизнь короче судьбы и все ближе и ближе к развязке,
и все тише волна, что ему о старухе пророчит…
июль 22 2002
***
Побережью добавить воды — пересохло за лето,
как листва у дороги, где лишь шашлыком и накормят
из бродячей собаки — в кафе, что гудит до рассвета,
где наутро никто никого не найдет и не вспомнит…
Побережье молчит, ожидая дождя и прилива,
переброски воды через дамбу в плохую погоду.
И смотритель стучит по камням, перемазанным глиной —
"может быть, наводненье спасет этот высохший город…"
Но ни капли за лето — лишь тень на столе от стакана
с минеральной водой. Кто-то просит бродячей добавки.
И листва, не напившись, слетает на спинку дивана
в ожидании ветра и быстрой последней отправки
до ближайшей воды, до ближайшего ржавого крана.
июль 24 2002
***
Посмотри, кто-то скачет во мраке, в пыли задыхаясь.
Из-под черных копыт выбивается пепел и пепел
от сгоревшей травы. Очень часто к платку припадая,
кто-то скачет во мраке — один в этом выжженном свете.
И вокруг, оглянись — ни души. Только пепел и темень.
И словарный запас до — Ау — сокращает роптанье.
И луна, как большое пятно, в окончаньи недели
накрывает собой: и сгоревший пейзаж, и молчанье,
сохраняя лишь право — дожить. Ветер ночью свирепей
залепляет глаза жженой пылью, на два умножая
беспросветную тьму. И от этого только нелепей
все попытки дожить, горсть земли для себя сохраняя,
но, целуя родную землицу — целуешь лишь пепел.
июль 24 2002
***
Прислонись ухом к дереву — слышишь как жизнь затихает
с наступленьем зимы. Только пленные кольца — старение
продолжают считать, как кукушка года подбирает —
кому год, кому два, кому десять — система везения.
И чернила прольются, как ветки по первому снегу,
в описании лет, в пересчете колец деревянных —
по опавшим листам, что зимой ближе к звездному небу,
и вернее — ладони с рисунком, как это ни странно…
Наклонись ближе к снегу — услышишь шуршание тихое
по скоплению белого — листьев. Прочтешь предсказание
на недлинную жизнь — в тонких жилках — водою размытое
от растаявших льдинок… Но тем и вернее страдание,
что оно долговечнее снега — весною разлитого.
июль 26 2002
***
Вычитанием дат завершается жизнь стихотворца.
Пережив вычитанием больше двух тысяч рождений,
лист становится тверже. И строчки на стынущем сердце
оставляют следы, разрушая основы строенья.
И короткая жизнь добавляет графу к вычитанью —
и учетчик спешит занести твое имя и дату
окончания в список, вместив и слезу, и прощанье
в пару строчек коротких, спеша возвратиться обратно.
И случайны люди толпятся в дверях и в прихожей,
рты разинув… Кого здесь не встретишь — кивают с порога!
Сколько много желающих здесь подлецов — подытожить
чью-то жизнь… Обсудить с сигаретой в зубах, что дорога
оказалась короче обычного… Дольше! О, Боже!
июль 25 2002
***
Он, действительно, все сохраняет! Бумагу и слово —
среди прочих вещей, что хранимы на добрую память —
с указанием дат. И пространства — до слез — голубого —
достает, чтобы вычитать все и коснуться руками.
И хранимо все так — между облачной пеной и пылью,
что ложится на вещи и долго, как Бог, сохраняет
их от глаз посторонних и от разрушенья могилой…
Между вещью и пылью — лишь время, что длится веками.
И когда среди прочих вещей — между пылью и пылью —
обнаружишь, что память, как жизнь, не хранит слишком долго —
ничего — как листами хранимы чернильные крылья —
понимаешь, что жизнь сохраняется только лишь Богом,
но хранима — бумагой, что прячет чернила под пылью!
июль 29 2002
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИОСИФА
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИОСИФА
I
Три острова … и океан воды
соленой между ними – здравствуй время
до боли не знакомое. Судьбы,
в связи с отъездом, легкое сомненье.
И мерное гудение пчелы –
аэроплана – только дополненье
абсурдности к хрусталику слезы.
II
И из окна увидеть первый раз
не тот пейзаж знакомый, что пол жизни
ты изучал, но привыкает глаз
к строению иному. К новой жизни,
абсурд разбавив водкой, как рассказ
вдруг разбавляешь поворотом мысли
на девяносто градусов – и раз…
III
… и два – классический балет
садово-парковый – листва летит на север
к исходной точке, где ты много лет
кроил словарь и только в это верил,
как верили создатели ракет
в свою звезду. Но почему-то двери
и окна из Европы – на замке!
IV
Классический не новый вариант
смешения воды и неба в сумме
других вещей – никто не виноват
в таком смешении… И ничего не будет
другого – нового, чему ты был бы рад
с той стороны, но варианты судеб
в других руках – и не вернуть назад.
V
И дважды не войти… Окно во двор
твоей квартиры: стол, четыре стула,
какая-то растительность, простор
небесный… Но и тут уснуло
покуда все… И только разговор
о детях и о том, что ножка стула
сломалась все таки, нее выдержав напор.
VI
Не в первый раз январь уже не нов
в своей традиции… Увы, начало года,
наверно, подходящее для снов,
для сна вообще… Наверное, погода
располагает к смерти! И улов
достаточный, чтоб избежать ухода
в другой словарь, для сохраненья слов.
ИОСИФ – МАРИИ
Я буду любить тебя больше, раз не возможно
разделить на двоих эту радость – тем больше печали,
тоски и печали! Боже, как осторожно
все начиналось и как это было в начале…
Звезды, пустыня, немного воды, песнопенья,
пришлые люди с вещами для нашего сына,
ветер, зима, от фонаря и звезды освещенье…
Помнишь, какие холодные были те зимы?..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
и время, как будто само в черно-белых картинах,
и тень на снегу различимее, чем на асфальте.
VII
Теперь совсем, совсем в другом краю
вдали от стран и снов, и поселений
знакомых с детства, но не узнают
посланца – птицы, ангелы, деревья…
Вообще, пейзаж, как будто бы свою
ведет войну за тридевятьземелье,
где и весною птицы не поют…
VIII
И, поселившись у другой реки
с другим названием по-русски и английски,
вдруг понимаешь: как же далеки
попытки от действительности… Высь и
немного вправо, будто в две руки
по черно-белым клавишам, но мысли
немного дальше – до другой реки,
IX
где эхо бьется в раковину, звук
превращая в словосочетанье
иное: черно-белое… И рук
хватает не разрушить написанье,
написанное, замыкая круг
полета звука, но его дыханье
и после написания – вокруг.
ИОСИФ – СЫНУ
Я пишу тебе с другой планеты…
Ни подруги, ни холодной Кока – Колы,
ни какой-нибудь другой веселой мысли…
Я хочу тебе сказать – Не так уж плохо
все сложилось… Жизнь вообще не худший
вариант творения. Жестока
иногда бывает, но не нужно
сокрушаться о происходящем
и винить во всем какой-то случай…
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
и, раскрывши руки для объятья,
не оглядывайся – кто теперь твой близкий.
Х
Не дли года – век кончится без нас –
теперь уж точно – новое столетье…
Останется неутомимый джаз,
две-три страницы текста, междометья
в воспоминаниях, коротенький рассказ
из жизни насекомых,.. о соцветьях
каких-нибудь: гербарий лучше нас!..
ХI
И вот когда, ты покидая дом,
пускаешься исследовать пространство
вокруг себя и за своим окном,
не думая разрушить постоянство
картинок прошлого, вдруг думаешь о том,
что время трогает лишь новые убранства
знакомого пейзажа за окном…
XII
… и часто думаешь – пейзаж или портрет?
Автопортрет в пересеченьи веток –
по образо-подобию – секрет
рисунка и залог успеха
у зрителя, который много лет
пытается разрушить… И помеха
Создателя - и есть на то ответ.
ХIII
И глаз, привыкнув к новому в окне,
отыскивает сходство с отраженьем
оригинала… дальше по стене –
следы прожитых лет, но продолженье
теряется, как прошлое во сне,
когда и тень родная наважденьем
вдруг кажется на крашенной стене.
ХIV
И понимаешь – жизнь идет ко дну…
О, призрак Атлантиды вездесущий!..
Век кончился действительно, одну
оставив мысль: о памяти – насущный
предмет писания, но, бросив на Луну
печальный взгляд, вдруг говоришь: ?Послушай,
волна сменяет новую волну…?.
ХV
И побережье, погрузившись в ночь
посредством фонарей и димедрола,
само себе пытается помочь
не сгинуть в омуте. Наверное, свобода
перемещения тому причина. Дочь
не верит, что посредством парохода
нельзя уехать с побережья прочь…
ХVI
Но на морском вокзале корабли,
как вариант спасения – по суше
не выбраться из горестной земли,
где счастлив был, но где глаза и уши
тебе уже не служат, как могли
бы еще служить… И море бьет баклуши,
не в силах оторваться от земли.
ХVII
Когда один в нешумном городке,
после отъезда с родины, гуляешь,
вдруг понимаешь – жизнь не вдалеке,
а где-то рядом и об этом знаешь
уже всю жизнь… Кораблик по реке
плывет бумажный, но его теряешь
из виду, как рисунок на песке
ХVIII
теряется водой – не различить
после волны: ни черточки, ни точки
написанного ранее. Сличить
с оригиналом не возможно – строчки
песчаные и долго им не жить,
как ни пытайся сохранить источник
не сохраненного… и что-то изменить.
ХIХ
Ты можешь дальше жить на берегу –
поближе к небу. Небо с облаками,
которые не таят на бегу,
которые потрогать лишь руками
не можешь ты, и ветер на беду
их гонит прочь у нас над головами,
стараясь навязать свою игру.
ИОСИФ – АННЕ АЛЕКСАНДРЕ МАРИИ
Прости, что жизнь уже не на двоих! –
как было раньше. Существо потери
скрывается не за окном – внутри
тебя самой… Еще – не верь, что двери
закрыв, отгородишься. Осознанье
беды приводит к новым откровеньям –
такое вдруг приходит в голову однажды,
что плачешь долго, пробуя понять,
куда мечты приводят после смерти
любимого тобой… Слетает ангел
помочь тебе постичь секрет старенья –
не перехода в новое пространство –
другого варианта длинной жизни…
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
И, если, вдруг, окажешься у места,
где счастлива была – не возвращайся,
не строй по новой планы, не пытайся
исправить жизнь – ведь дважды не войти…
ХХ
Холодный вечер в тихом городке…
В конце зимы люд думает о лете,
о переезде к югу по реке,
на пароходе… А покуда ветер
гоняет мусор… И в твоей руке
немного денег – не пропасть на свете
или не сгинут от тоски в реке…
ХХI
Но путешествие не длится целый век.
Перемещение по карте лишь возможность
продлить скитания, как может человек
вообще продлить… Но давит осторожность
иль страх, что утром может быть и век
не сможешь разлепить… Тревожно
так думать, собираясь на ночлег.
ХХII
И музыка звучит, как старый лес:
немного длинно, но всегда в финале,
на выходе из леса – сильный всплеск,
как будто выдох. И в огромном зале –
лишь тишина… И, не вставая с мест,
все ждут виденья, что в оконной раме –
вдруг промелькнет, но это только жест…
ИОСИФ - ……………….. (БЕЗ АДРЕСАТА)
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
никуда… ?Ниоткуда с любовью…?…
ХХIII
…и ангелы, и чьи-то голоса,
и тихий шелест крыл ветхозаветных –
лишь дополненье к старым небесам,
которые, так долго без ответа
нас оставляют, что, порою, сам
вдруг думаешь: не вымысел ли это? –
но снова слышишь чьи-то голоса…
ХХIV
…и тень земную снова видит глаз,
и свет горит, как в первый день недели,
и продолжается раз начатый рассказ,
столетье начиная в понедельник,
и слушая уже небесный глас:
Васильевский, Манхеттен, Сан-Микеле –
по-русски и английски в первый раз!
март – апрель 2001 год.
** *
Лепнина старых зданий – виноград
и серп и молот… Несколько листочков,
вплетенных в стену – просто наугад –
строитель, видимо, спешил поставить точку
в своем воображении. Спешил… -
замуровать, чтоб больше не встречаться
с твореньем рук своих, но не души,
которая в листве бетонной бродит часто,
среди деревьев вымышленных, тень
отбрасывая, даже в непогоду,
когда холодным струям целый день
не лень плестись в бетоне на свободу –
к земле поближе, к листьям и траве
еще живым, не вытоптанным даже –
стекаясь в лужу… Листья на стене
и виноград, как будто на продажу.
апрель 15 2009 год
? Драгунов Андрей Вячеславович
г. Волгоград, ул. Триумфальная, 6, кв. 80
[email protected] тел: 8 909 390 2140
Метки: