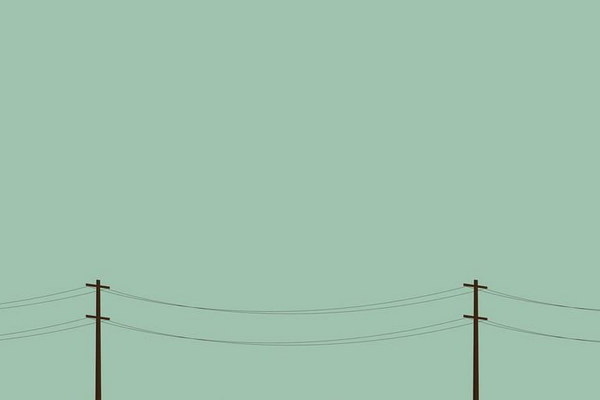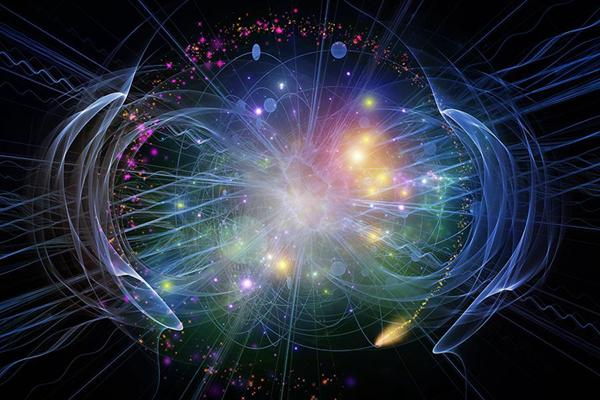Ася - первая любовь
лирико-ироническое повествование
1
Ура! Вчера на поединке
я лорда Байрона убил —
и две враждебных половинки
в себе с трудом соединил.
Из лоджий дамы рукоплещут,
венок поклонники несут,
враги стыдливо не клевещут,
долги соседям не растут.
Я окрылен своей удачей.
О верю, верю! С этих пор
жизнь потечет совсем иначе —
махну в Париж через забор!
Мне хорошо!.. Как псу на воле,
мне прыгать хочется, шалить
и лаять в небо. Я доволен.
Я счастлив — что там говорить!
2
А между тем проблема жанра
во всей лохматости своей
висит под брюхом у барана,
как хитроумный Одиссей.
И ну ее! Как Полифему,
пока он вовсе не ослеп,
оставим критике проблему —
пусть отрабатывает хлеб.
От оплеухи до признанья
и в этом жанре, как в любви:
лишь шаг — и под рукоплесканья
подставлю уши я свои.
Итак, внимайте и молчите.
И робко кашляйте в кулак.
Неверный слушатель, мучитель!
Вы приготовились? Итак...
3
В тот день моя соседка Ася
косички срезала и вдруг
красивой стала, вызвав в классе
эффект, похожий на испуг.
И словно в музыкальной драме,
?О!? воцарило. Общий вздох —
и Женя Хлоева руками
всплеснула, выдохнувши: ?Ох!..?
Хотелось Асю ей, как куклу,
схватить, потрогать, оглянуть,
но миг — и радость в ней потухла,
и зависть защемила грудь.
?Ох, Ася!..? — только и вздохнула,
свою косичку теребя...
И я невольно вдруг со стула
привстал, не чувствуя себя.
4
Не знаю, было ли приятно
все это Асе, но она
в тот миг невольного театра
была заметно смущена.
И что сказать она хотела,
когда портфель на край стола
поставила, взглянув несмело
в глаза мои? И — не смогла.
Мой глупый вид ее одернул,
и, к книгам голову склоня,
ушла в себя она, упорно
не глядя больше на меня.
Успех приносит отчужденье,
и так страдаешь оттого,
что в центре зависти и мленья,
а оглянешься — никого...
5
Сраженный с ходу, я глубоко
молчал и косвенно смотрел
на Асю... Выставленный локоть
дрожал, напрягшийся, немел.
И засмотревшись, я невольно
нырял в учебник — делал вид.
Я понимал, что будет больно,
как в боксе, если ты открыт...
Теперь, когда я от событий
тех дней все дальше отстою,
и боль, и муки все забыты,
смешной я вижу жизнь свою.
Смешной! А слезы где-то близко,
как будто крайний снизу стих —
моя предсмертная записка:
закончил, рухнул и затих.
6
Читатель, все мы ветераны
войны, которой нет конца.
Зарубцевались в сердце раны,
и слезы высохли с лица.
Но если ты сегодня в школе
еще проходишь свой урок,
раскрывшись, корчишься от боли,
прости, прости мне этот слог.
Не только в прошлом — инстинктивно,
но и сейчас, когда пишу,
я знаю, чувство уязвимо,
и локоть выставить спешу.
Таков наш век. Мы даже в спешке
готовы походя шутить
и силы черпаем в насмешке...
Но кто смешным захочет быть?
7
Итак, весна. И первый просверк
летит — зажатый в капле свет,
и в льдистый булькает наперсток
истекший времени момент.
Я набухал и не заметил,
как африканским стал слоном,
неловко с места при ответе
вставая вместе со столом.
Да что там стол! Я с кабинетом
вставал, со школой набекрень,
до страшной пропасти при этом
раздвинув собственную тень.
Что? Этот комплекс вас не мучил?
И страх умели победить?
И от застенчивости жгучей
вы не страдали? Может быть.
8
В тот день с последнего урока
нас отпустили. Месяц март
сиял, блестел, и крыша мокла,
вводя нас в праздность и азарт.
И мы — какие наши годы! —
переглянулись — боже мой! —
готовые куда угодно идти,
но только не домой.
И сразу стало меньше фальши,
и Ася улыбнулась мне:
куда? Конечно ж, с глаз подальше,
на речку, к темной полынье!
Там в снег проваливаясь, можно
сомкнуть ладони — это ход! —
и, выйдя к краю, осторожно
ломать, ломать корявый лед.
9
Река. В метровом снежном слое
едва наметился провал,
где лед, подточенный водою,
надтреснул и осадку дал.
Там где-то голоса земные
еще слышны, звучат порой
сигналы, скрипы тормозные,
а здесь как будто мир иной.
Покой. Зима. Высокий берег.
Ничьей ногой не тронут снег,
где, попадая в чуткий пеленг,
смолкает тотчас человек.
Лишь вран лесной, срываясь с ветки,
уронит пару ржавых нот
да иногда синица тенькнет
и над рекой перемелькнет.
10
В тот день у снежного откоса
?И? с точкой — свой инициал —
плюс ?А?, равно — и знак вопроса
я веткой, помню, начертал.
Но это — как бы между прочим,
заштриховав наискосок,
в обмене взглядов-многоточий...
Спросить яснее я не мог.
И легкость в солнечном сплетенье,
когда проваливались в снег,
в каком-то радостном волненье
волной выталкивала вверх.
Ответа не было. И что бы
ответить Ася мне могла?
Пришла весна, но на сугробы
не запасла она тепла.
11
Мы разбредались по квартирам,
до нитки вымокнув, дрожа,
когда луна сегментом сыра
скатилась холодно с ножа.
Хотелось есть. Тупая смелость
светилась на моем лице.
Хотелось есть. И не хотелось
при этом думать об отце.
Объятый нервной лихорадкой,
я плохо мир воспринимал.
Отцовский бурный гнев украдкой
горячим чаем запивал.
Ну а потом, в постели лежа,
глядел с улыбкой на луну
и, в полудреме день итожа,
всплывал к луне и шел ко дну.
12
И снилось мне... Я в школьной массе.
Я в коридорной толкотне.
Иду, глазами встретясь, к Асе,
и Ася движется ко мне.
Подходим. Люди исчезают.
Объятья. Сумерки... Молчим.
И руки Асины сползают
безвольно по плечам моим.
Все как в кино. Темно. А дальше...
А дальше — что? Встает стена
ненатуральности и фальши...
Я просыпаюсь. Ночь. Луна.
Ах, в этот миг всегда досаден
реальной жизни взгляд в упор...
Стекло, оттаявшее за день,
внизу заковано в узор.
13
Проснувшись с мыслью о свиданье,
что предстояло в школе мне,
я спешно завтракал. Заране
из дому вышел, как во сне.
Еще б маршруты в черных дырах
прокладывать живой душе,
а окна желтые в квартирах
горят без пропусков уже.
Глухое мартовское утро.
Огней стремительный разбег.
Отрыв, толчок — и небо ртутно
висит, колючий сыпля снег.
И в раздраженье, плохо скрытом,
себя искусственно бодря,
спешат прохожие со скрипом
по снегу в свете фонаря.
14
Вот школа средняя. Массивно,
как бы входящих оградя,
раздвинул локти светлый символ
на ?С? великого вождя.
И вот иду по коридору.
И полон жизни коридор.
Иду, прислушиваясь к хору,
и вечный слышу разговор.
Как будто волны точат скалы,
как будто ветер голубой
взбирается на перевалы
и кедры ропщут под пятой.
Еще мы движемся в потоке,
и сердце плавает в груди,
еще лишь начаты уроки,
и все оценки —впереди...
15
Но вот звонок срывает грубо
тумана нежного венец,
и болью ноющего зуба
приводит в чувство наконец.
Простыл. Вчерашняя прогулка
во мне оставила свой след:
ангина, сердце бьется гулко...
А где же Ася? Аси нет.
Что за тоска! Душа зажата
аккордом, не нашедшим бой,
и, как заброшенная шахта,
зияет черной пустотой.
Я понял: Ася заболела.
Жизнь потеряла интерес.
И забываясь, то и дело
смотрел в окошко я на лес.
16
Конец занятий. Легче пташки
лечу я к Асе. На правах
ее соседа-одноклашки
несу тетрадь ей впопыхах.
О! Ася рада.— Так и знала,
что ты придешь. Входи, входи!
Не стой в дверях,— она сказала,
шаль запахнувши на груди.
Постель не убрана. На стуле
лекарства, яблочный компот.
Со шкафа на меня взглянули
две куклы, мишка-обормот.
Десятки книг. Из самых лучших
и популярных. На виду
портреты: Лермонтов поручик,
Есенин в этом же ряду.
17
Как встреча в спальне у любимой
очарования полна!
Душа, чья суть неизъяснима,
в вещах нам более ясна.
Неповторима атмосфера,
запоминаем каждый штрих
навек и в качестве примера,
как в детстве выученный стих.
Тяжелый ящик фортепьяно
придавлен сверху стопкой нот,
над ним — звезда киноэкрана,
заснята в полуоборот.
А сзади, в нише пропыленной,
мелькнули где-то глубоко
волан, ракетки бадминтона,
скакалка, гетры и трико.
18
Сперва смущался я, но вскоре
за бойкой карточной игрой
забылся, поминутно споря,
сипя, мухлюя, сам не свой.
Семнадцать раз осталась Ася,
а я всего лишь только три.
Сказала Ася: — Что ж, прекрасно!
Должно в любви мне повезти.
Как выстрел в спину, довод этот
сразил меня. Я помрачнел:
быть нелюбимым по приметам,
пусть и смешным, я не хотел.
Потом мы долго с ней гадали.
Ложились Асе короли,
а мне — лишь слезы да печали,
любовь и счастье не легли.
19
Подходит к окнам тьма вплотную,
но чувство долга не дает
не развлекать мою больную,
не уплетать ее компот.
Давно на небе вышли звезды,
зажегся месяц золотой,
и мать сказала Асе: — Поздно.
Его, наверно, ждут домой.
Пора, пора — намек понятен!
Во двор пустынный выхожу.
Тоска неясных лунных пятен
томит. Вздыхаю и гляжу.
Усталость, нервная зевота.
Углом в себя, как буква ?М?,
иду к подъезду. Но чего-то
домой не хочется совсем.
20
Был разговор со мной вчера лишь,
да бестолкова молодежь.
о, что случилось, не поправишь,
что предстоит — не обогнешь.
Как описать кошмар сражений,
сквозь слезы видимый едва?
вместо сильных выражений
какие выдумать слова?
Возьму тетрадь и отодвину:
пусть будет то, что было, есть,
но взбучки грустную картину
ивописать не стоит здесь.
Подростков гордых несвобода
сродни бесправью крепостных.
Отцы — особая порода,
и строгость — главное у них.
21
Я был лишен прогулок. Месяц
болела Ася. Все полдня
сидел я в спальне, занавесясь,
и демон злой вошел в меня.
Не видя Аси, я от горя
стихи писал о том, как мне
пожизненно без Аси в море
сидеть на острове в тюрьме.
Писал о том, как Ася вышла
за графа замуж, как в ночи
пилил решетку еле слышно
и слушал стражника ключи.
Как, наконец, освободился,
а Ася — графова жена,
и я от горя застрелился,
и горько плакала она.
22
Свобода!.. Всякий ее кличет.
Но лишь войдет в права, скорей
чужую — тут же ограничить,
содрать проценты со своей!
Мы все заложники минуты,
одна судьба, один маршрут,
и лишь запутываем путы,
пытаясь вырваться из пут.
Свободы я большой поклонник,
как Байрон, я в нее влюблен,
но помню, как один полковник
мне трактовал ее закон.
Свобода — вечный повод к драке:
свобода чья? и перед кем?
свобода всех, свобода всяких?
Свобода — корень всех проблем!
23
Мой стражник, бабушка, жалела
своего узника. Она,
возясь на кухне, то и дело
вздыхала, глядя на меня.
И вот однажды, взглядом встретясь
со взором моего лица:
— Иди,— сказала мне,— проветрись
до возвращения отца.
Взор проясняется. И вот он
опять, стремительный мотив:
пролет миную за пролетом,
звоню, дыханье затаив.
Дверь открывается. За дверью —
о как ужасен поворот! —
мой одноклассник Костя Зверев,
приятель мой, по кличке Кот.
24
Откуда? Как? Какою силой
квартиру к Асе занесен?
И мыслью скрученный постылой,
я уничтожен, потрясен.
Но что прикажете — убраться?
Иль показать, как я дрожу,
и, зарыдав, во всем признаться?
Нет, я, естественно, вхожу.
Пусть знает Кот, что все в порядке.
Язык развязен мой и лжив.
Я отражать готов нападки.
Я перестроился. Я жив.
Посторонись и сам терзайся,
ревнуй, приятель, песни пой!
Я улыбаюсь: — Здравствуй, Ася!
Ну как здоровье? Что с тобой?
25
Я рассказал, дрожа всем телом,
и очень весело, о том,
как был наказан. И умело
съязвил Коту обиняком.
Смеялась Ася, Зверев дулся,
и был доволен я собой,
а через час домой вернулся —
упал в постель полубольной.
Напрасно бабушка хотела
поднять меня, разговорить —
лежал я трупом. Солнце село,
с работы стали приходить,
я все лежал. Потом поднялся,
смотрел рассеянно в окно
на то, как вечер занимался,
и было грустно и темно.
26
Вода в глухом овраге стонет
и роет берег... Видит Бог,
март чувству светлому пристоен,
апрель — для ревности неплох.
Как, взбаламученная драгой,
протока бурая кипит
и набухают мутной влагой
побеги пламенных ракит.
Потоком пласт земли подрезан,
и дышит почва, словно бык,
уже ужаленный железом,
рвануть готовый напрямик.
Поток скалу, как рану, лижет,
и враны черные кричат.
А лес угрюм и неподвижен,
и почки с зеленью горчат.
27
Отец простил меня. И в школе
сидела Ася вновь со мной.
Но стал иным я. Поневоле
и Ася сделалась иной.
Казалось мне, что Асе скучно
со мной — неловким, непростым —
и что внимает равнодушно
она усилиям моим.
О муки ревности! Не знаешь
от них ни отдыха, ни сна —
то свирепеешь, то рыдаешь,
и память как бы неясна.
Хорош собой был Костя Зверев,
любого в классе мог побить,
насмешлив, зол, в себе уверен —
такого можно полюбить!
28
На радость маленьким зевакам
открыли в парке тир, и там
с досады каждый день я дзвякал
по металлическим зверькам.
И видел я себя героем,
бесстрашным, яростным бойцом.
Врагов, идущих тесным строем,
встречал расчетливо свинцом.
Воображенье рисовало
войну и Асин нежный взгляд...
Но денег было слишком мало,
и возвращался я назад,
в тот мир, где лишь один соперник,
но грозен и непобедим,
где я не Пушкин, не Коперник
и даже Асей не любим.
29
Мне мир цветущий опротивел,
и я в свои черновики
флакон чернил лиловых вылил
мотивов смерти и тоски...
...Пенсионеры — люди долга.
От посетителей устав,
старик с винтовкой очень долго
возился, запирая шкаф.
Защелкнул на два оборота
и вышел в дверь: мальчишек нет.
Замок повесил на ворота,
подергал вниз — и на обед.
Старик, наивный! Есть заборы,
и только ты за поворот —
во дворик тира влезут воры,
и две винтовки пропадет.
30
Барьер отмечен. Над опушкой
звучит команда... Я слежу
за тем, как с поднятой ?воздушкой?
подходит Костя к рубежу.
Движенья скованы, неловки.
Идем, готовые к стрельбе.
Убить нельзя из той винтовки,
но все равно — не по себе.
И слышу: сердце бьется, бьется...
И представляю наконец,
как с хищной жадностью вопьется
в меня стремительный свинец.
Но жду. Печорин мне не пара.
Я слаб. И пусто в голове,
лишь звон в предчувствии удара...
Удар — и я лежу в траве.
31
Я чувствую, как зонтик пули,
кусочек жгучего свинца,
под самым глазом ноет в скуле,
и струйкой кровь течет с лица.
Трава-бурьян, трава-бессмертник…
Что ж, я согласен на ничью!
Где мой противник, где соперник?
Я сатисфакции хочу!
Как и положено герою —
не прячет тела своего.
Его нельзя смутить ни кровью,
ни тем, что целишься в него.
Набухла ранка, липнет веко...
Я жертва правильных идей.
Зачем я целюсь в человека?
Нельзя же целиться в людей!
32
Наш быт сенсациями беден,
провинциальный тесен круг.
Быть в центре домыслов и сплетен
предел мечтаний и заслуг.
И вот — я в центре. Я доволен.
Больничный скареден уют,
где мне товарищи по школе
дань удивленья воздают.
Я принимаю благосклонно
кульки печенья и конфет.
На мне висит статья закона —
отличия достойней нет.
Писала местная газета,
и участковый задавал
вопросы мне. Но слава эта
не выше Асиных похвал.
33
С черемухой, в халате белом,
вся — извиняющийся вид.
Пришла. И первым делом:
— Я уезжаю,— говорит.
Напрасно, мол, ты ждешь награды,
напрасно принял свой свинец,
напрасно встрече этой рад ты,
я уезжаю — и конец!
А в жесте локтевого сгиба,
едва наметившем поклон,
спасибо, глупое спасибо
за то, что я в нее влюблен.
И ставит точку и не хочет,
суля решение проблем
изящное, как многоточье:
— Я уезжаю. Насовсем.
34
Я уезжаю!.. Как некстати
всегда случается отъезд!..
Река — в черемуховом платье
склонившихся к реке невест.
Идем туда. В тени черемух
садимся молча на бревно
и смотрим взглядом отрешенным
в прозрачное речное дно.
Река — наскучившее чудо,
поток любой смывает след...
— Я напишу тебе оттуда!..
Киваю молча я в ответ.
Я понимаю, как напрасна
попытка время одолеть,
я понимаю, что пространство
разъединяет, будто смерть.
35
Вот и конец — внезапный, странный.
Он свойство общее натур
мечтательных: замах романный,
удар — лирический сумбур.
Не хорошо и не прекрасно.
Хоть в глаз болезненно, хоть в бровь
Читаю. Только то и ясно,
что Ася — первая любовь.
Но я доволен. Песня спета,
дрожит ее последний звук...
Душа чувствительно задета,
мне самому взгрустнулось вдруг.
И если вы грустить согласны,
друг друга поблагодарим...
Слова легки, но не напрасны,
когда внимают люди им.
июль 1986 года
1
Ура! Вчера на поединке
я лорда Байрона убил —
и две враждебных половинки
в себе с трудом соединил.
Из лоджий дамы рукоплещут,
венок поклонники несут,
враги стыдливо не клевещут,
долги соседям не растут.
Я окрылен своей удачей.
О верю, верю! С этих пор
жизнь потечет совсем иначе —
махну в Париж через забор!
Мне хорошо!.. Как псу на воле,
мне прыгать хочется, шалить
и лаять в небо. Я доволен.
Я счастлив — что там говорить!
2
А между тем проблема жанра
во всей лохматости своей
висит под брюхом у барана,
как хитроумный Одиссей.
И ну ее! Как Полифему,
пока он вовсе не ослеп,
оставим критике проблему —
пусть отрабатывает хлеб.
От оплеухи до признанья
и в этом жанре, как в любви:
лишь шаг — и под рукоплесканья
подставлю уши я свои.
Итак, внимайте и молчите.
И робко кашляйте в кулак.
Неверный слушатель, мучитель!
Вы приготовились? Итак...
3
В тот день моя соседка Ася
косички срезала и вдруг
красивой стала, вызвав в классе
эффект, похожий на испуг.
И словно в музыкальной драме,
?О!? воцарило. Общий вздох —
и Женя Хлоева руками
всплеснула, выдохнувши: ?Ох!..?
Хотелось Асю ей, как куклу,
схватить, потрогать, оглянуть,
но миг — и радость в ней потухла,
и зависть защемила грудь.
?Ох, Ася!..? — только и вздохнула,
свою косичку теребя...
И я невольно вдруг со стула
привстал, не чувствуя себя.
4
Не знаю, было ли приятно
все это Асе, но она
в тот миг невольного театра
была заметно смущена.
И что сказать она хотела,
когда портфель на край стола
поставила, взглянув несмело
в глаза мои? И — не смогла.
Мой глупый вид ее одернул,
и, к книгам голову склоня,
ушла в себя она, упорно
не глядя больше на меня.
Успех приносит отчужденье,
и так страдаешь оттого,
что в центре зависти и мленья,
а оглянешься — никого...
5
Сраженный с ходу, я глубоко
молчал и косвенно смотрел
на Асю... Выставленный локоть
дрожал, напрягшийся, немел.
И засмотревшись, я невольно
нырял в учебник — делал вид.
Я понимал, что будет больно,
как в боксе, если ты открыт...
Теперь, когда я от событий
тех дней все дальше отстою,
и боль, и муки все забыты,
смешной я вижу жизнь свою.
Смешной! А слезы где-то близко,
как будто крайний снизу стих —
моя предсмертная записка:
закончил, рухнул и затих.
6
Читатель, все мы ветераны
войны, которой нет конца.
Зарубцевались в сердце раны,
и слезы высохли с лица.
Но если ты сегодня в школе
еще проходишь свой урок,
раскрывшись, корчишься от боли,
прости, прости мне этот слог.
Не только в прошлом — инстинктивно,
но и сейчас, когда пишу,
я знаю, чувство уязвимо,
и локоть выставить спешу.
Таков наш век. Мы даже в спешке
готовы походя шутить
и силы черпаем в насмешке...
Но кто смешным захочет быть?
7
Итак, весна. И первый просверк
летит — зажатый в капле свет,
и в льдистый булькает наперсток
истекший времени момент.
Я набухал и не заметил,
как африканским стал слоном,
неловко с места при ответе
вставая вместе со столом.
Да что там стол! Я с кабинетом
вставал, со школой набекрень,
до страшной пропасти при этом
раздвинув собственную тень.
Что? Этот комплекс вас не мучил?
И страх умели победить?
И от застенчивости жгучей
вы не страдали? Может быть.
8
В тот день с последнего урока
нас отпустили. Месяц март
сиял, блестел, и крыша мокла,
вводя нас в праздность и азарт.
И мы — какие наши годы! —
переглянулись — боже мой! —
готовые куда угодно идти,
но только не домой.
И сразу стало меньше фальши,
и Ася улыбнулась мне:
куда? Конечно ж, с глаз подальше,
на речку, к темной полынье!
Там в снег проваливаясь, можно
сомкнуть ладони — это ход! —
и, выйдя к краю, осторожно
ломать, ломать корявый лед.
9
Река. В метровом снежном слое
едва наметился провал,
где лед, подточенный водою,
надтреснул и осадку дал.
Там где-то голоса земные
еще слышны, звучат порой
сигналы, скрипы тормозные,
а здесь как будто мир иной.
Покой. Зима. Высокий берег.
Ничьей ногой не тронут снег,
где, попадая в чуткий пеленг,
смолкает тотчас человек.
Лишь вран лесной, срываясь с ветки,
уронит пару ржавых нот
да иногда синица тенькнет
и над рекой перемелькнет.
10
В тот день у снежного откоса
?И? с точкой — свой инициал —
плюс ?А?, равно — и знак вопроса
я веткой, помню, начертал.
Но это — как бы между прочим,
заштриховав наискосок,
в обмене взглядов-многоточий...
Спросить яснее я не мог.
И легкость в солнечном сплетенье,
когда проваливались в снег,
в каком-то радостном волненье
волной выталкивала вверх.
Ответа не было. И что бы
ответить Ася мне могла?
Пришла весна, но на сугробы
не запасла она тепла.
11
Мы разбредались по квартирам,
до нитки вымокнув, дрожа,
когда луна сегментом сыра
скатилась холодно с ножа.
Хотелось есть. Тупая смелость
светилась на моем лице.
Хотелось есть. И не хотелось
при этом думать об отце.
Объятый нервной лихорадкой,
я плохо мир воспринимал.
Отцовский бурный гнев украдкой
горячим чаем запивал.
Ну а потом, в постели лежа,
глядел с улыбкой на луну
и, в полудреме день итожа,
всплывал к луне и шел ко дну.
12
И снилось мне... Я в школьной массе.
Я в коридорной толкотне.
Иду, глазами встретясь, к Асе,
и Ася движется ко мне.
Подходим. Люди исчезают.
Объятья. Сумерки... Молчим.
И руки Асины сползают
безвольно по плечам моим.
Все как в кино. Темно. А дальше...
А дальше — что? Встает стена
ненатуральности и фальши...
Я просыпаюсь. Ночь. Луна.
Ах, в этот миг всегда досаден
реальной жизни взгляд в упор...
Стекло, оттаявшее за день,
внизу заковано в узор.
13
Проснувшись с мыслью о свиданье,
что предстояло в школе мне,
я спешно завтракал. Заране
из дому вышел, как во сне.
Еще б маршруты в черных дырах
прокладывать живой душе,
а окна желтые в квартирах
горят без пропусков уже.
Глухое мартовское утро.
Огней стремительный разбег.
Отрыв, толчок — и небо ртутно
висит, колючий сыпля снег.
И в раздраженье, плохо скрытом,
себя искусственно бодря,
спешат прохожие со скрипом
по снегу в свете фонаря.
14
Вот школа средняя. Массивно,
как бы входящих оградя,
раздвинул локти светлый символ
на ?С? великого вождя.
И вот иду по коридору.
И полон жизни коридор.
Иду, прислушиваясь к хору,
и вечный слышу разговор.
Как будто волны точат скалы,
как будто ветер голубой
взбирается на перевалы
и кедры ропщут под пятой.
Еще мы движемся в потоке,
и сердце плавает в груди,
еще лишь начаты уроки,
и все оценки —впереди...
15
Но вот звонок срывает грубо
тумана нежного венец,
и болью ноющего зуба
приводит в чувство наконец.
Простыл. Вчерашняя прогулка
во мне оставила свой след:
ангина, сердце бьется гулко...
А где же Ася? Аси нет.
Что за тоска! Душа зажата
аккордом, не нашедшим бой,
и, как заброшенная шахта,
зияет черной пустотой.
Я понял: Ася заболела.
Жизнь потеряла интерес.
И забываясь, то и дело
смотрел в окошко я на лес.
16
Конец занятий. Легче пташки
лечу я к Асе. На правах
ее соседа-одноклашки
несу тетрадь ей впопыхах.
О! Ася рада.— Так и знала,
что ты придешь. Входи, входи!
Не стой в дверях,— она сказала,
шаль запахнувши на груди.
Постель не убрана. На стуле
лекарства, яблочный компот.
Со шкафа на меня взглянули
две куклы, мишка-обормот.
Десятки книг. Из самых лучших
и популярных. На виду
портреты: Лермонтов поручик,
Есенин в этом же ряду.
17
Как встреча в спальне у любимой
очарования полна!
Душа, чья суть неизъяснима,
в вещах нам более ясна.
Неповторима атмосфера,
запоминаем каждый штрих
навек и в качестве примера,
как в детстве выученный стих.
Тяжелый ящик фортепьяно
придавлен сверху стопкой нот,
над ним — звезда киноэкрана,
заснята в полуоборот.
А сзади, в нише пропыленной,
мелькнули где-то глубоко
волан, ракетки бадминтона,
скакалка, гетры и трико.
18
Сперва смущался я, но вскоре
за бойкой карточной игрой
забылся, поминутно споря,
сипя, мухлюя, сам не свой.
Семнадцать раз осталась Ася,
а я всего лишь только три.
Сказала Ася: — Что ж, прекрасно!
Должно в любви мне повезти.
Как выстрел в спину, довод этот
сразил меня. Я помрачнел:
быть нелюбимым по приметам,
пусть и смешным, я не хотел.
Потом мы долго с ней гадали.
Ложились Асе короли,
а мне — лишь слезы да печали,
любовь и счастье не легли.
19
Подходит к окнам тьма вплотную,
но чувство долга не дает
не развлекать мою больную,
не уплетать ее компот.
Давно на небе вышли звезды,
зажегся месяц золотой,
и мать сказала Асе: — Поздно.
Его, наверно, ждут домой.
Пора, пора — намек понятен!
Во двор пустынный выхожу.
Тоска неясных лунных пятен
томит. Вздыхаю и гляжу.
Усталость, нервная зевота.
Углом в себя, как буква ?М?,
иду к подъезду. Но чего-то
домой не хочется совсем.
20
Был разговор со мной вчера лишь,
да бестолкова молодежь.
о, что случилось, не поправишь,
что предстоит — не обогнешь.
Как описать кошмар сражений,
сквозь слезы видимый едва?
вместо сильных выражений
какие выдумать слова?
Возьму тетрадь и отодвину:
пусть будет то, что было, есть,
но взбучки грустную картину
ивописать не стоит здесь.
Подростков гордых несвобода
сродни бесправью крепостных.
Отцы — особая порода,
и строгость — главное у них.
21
Я был лишен прогулок. Месяц
болела Ася. Все полдня
сидел я в спальне, занавесясь,
и демон злой вошел в меня.
Не видя Аси, я от горя
стихи писал о том, как мне
пожизненно без Аси в море
сидеть на острове в тюрьме.
Писал о том, как Ася вышла
за графа замуж, как в ночи
пилил решетку еле слышно
и слушал стражника ключи.
Как, наконец, освободился,
а Ася — графова жена,
и я от горя застрелился,
и горько плакала она.
22
Свобода!.. Всякий ее кличет.
Но лишь войдет в права, скорей
чужую — тут же ограничить,
содрать проценты со своей!
Мы все заложники минуты,
одна судьба, один маршрут,
и лишь запутываем путы,
пытаясь вырваться из пут.
Свободы я большой поклонник,
как Байрон, я в нее влюблен,
но помню, как один полковник
мне трактовал ее закон.
Свобода — вечный повод к драке:
свобода чья? и перед кем?
свобода всех, свобода всяких?
Свобода — корень всех проблем!
23
Мой стражник, бабушка, жалела
своего узника. Она,
возясь на кухне, то и дело
вздыхала, глядя на меня.
И вот однажды, взглядом встретясь
со взором моего лица:
— Иди,— сказала мне,— проветрись
до возвращения отца.
Взор проясняется. И вот он
опять, стремительный мотив:
пролет миную за пролетом,
звоню, дыханье затаив.
Дверь открывается. За дверью —
о как ужасен поворот! —
мой одноклассник Костя Зверев,
приятель мой, по кличке Кот.
24
Откуда? Как? Какою силой
квартиру к Асе занесен?
И мыслью скрученный постылой,
я уничтожен, потрясен.
Но что прикажете — убраться?
Иль показать, как я дрожу,
и, зарыдав, во всем признаться?
Нет, я, естественно, вхожу.
Пусть знает Кот, что все в порядке.
Язык развязен мой и лжив.
Я отражать готов нападки.
Я перестроился. Я жив.
Посторонись и сам терзайся,
ревнуй, приятель, песни пой!
Я улыбаюсь: — Здравствуй, Ася!
Ну как здоровье? Что с тобой?
25
Я рассказал, дрожа всем телом,
и очень весело, о том,
как был наказан. И умело
съязвил Коту обиняком.
Смеялась Ася, Зверев дулся,
и был доволен я собой,
а через час домой вернулся —
упал в постель полубольной.
Напрасно бабушка хотела
поднять меня, разговорить —
лежал я трупом. Солнце село,
с работы стали приходить,
я все лежал. Потом поднялся,
смотрел рассеянно в окно
на то, как вечер занимался,
и было грустно и темно.
26
Вода в глухом овраге стонет
и роет берег... Видит Бог,
март чувству светлому пристоен,
апрель — для ревности неплох.
Как, взбаламученная драгой,
протока бурая кипит
и набухают мутной влагой
побеги пламенных ракит.
Потоком пласт земли подрезан,
и дышит почва, словно бык,
уже ужаленный железом,
рвануть готовый напрямик.
Поток скалу, как рану, лижет,
и враны черные кричат.
А лес угрюм и неподвижен,
и почки с зеленью горчат.
27
Отец простил меня. И в школе
сидела Ася вновь со мной.
Но стал иным я. Поневоле
и Ася сделалась иной.
Казалось мне, что Асе скучно
со мной — неловким, непростым —
и что внимает равнодушно
она усилиям моим.
О муки ревности! Не знаешь
от них ни отдыха, ни сна —
то свирепеешь, то рыдаешь,
и память как бы неясна.
Хорош собой был Костя Зверев,
любого в классе мог побить,
насмешлив, зол, в себе уверен —
такого можно полюбить!
28
На радость маленьким зевакам
открыли в парке тир, и там
с досады каждый день я дзвякал
по металлическим зверькам.
И видел я себя героем,
бесстрашным, яростным бойцом.
Врагов, идущих тесным строем,
встречал расчетливо свинцом.
Воображенье рисовало
войну и Асин нежный взгляд...
Но денег было слишком мало,
и возвращался я назад,
в тот мир, где лишь один соперник,
но грозен и непобедим,
где я не Пушкин, не Коперник
и даже Асей не любим.
29
Мне мир цветущий опротивел,
и я в свои черновики
флакон чернил лиловых вылил
мотивов смерти и тоски...
...Пенсионеры — люди долга.
От посетителей устав,
старик с винтовкой очень долго
возился, запирая шкаф.
Защелкнул на два оборота
и вышел в дверь: мальчишек нет.
Замок повесил на ворота,
подергал вниз — и на обед.
Старик, наивный! Есть заборы,
и только ты за поворот —
во дворик тира влезут воры,
и две винтовки пропадет.
30
Барьер отмечен. Над опушкой
звучит команда... Я слежу
за тем, как с поднятой ?воздушкой?
подходит Костя к рубежу.
Движенья скованы, неловки.
Идем, готовые к стрельбе.
Убить нельзя из той винтовки,
но все равно — не по себе.
И слышу: сердце бьется, бьется...
И представляю наконец,
как с хищной жадностью вопьется
в меня стремительный свинец.
Но жду. Печорин мне не пара.
Я слаб. И пусто в голове,
лишь звон в предчувствии удара...
Удар — и я лежу в траве.
31
Я чувствую, как зонтик пули,
кусочек жгучего свинца,
под самым глазом ноет в скуле,
и струйкой кровь течет с лица.
Трава-бурьян, трава-бессмертник…
Что ж, я согласен на ничью!
Где мой противник, где соперник?
Я сатисфакции хочу!
Как и положено герою —
не прячет тела своего.
Его нельзя смутить ни кровью,
ни тем, что целишься в него.
Набухла ранка, липнет веко...
Я жертва правильных идей.
Зачем я целюсь в человека?
Нельзя же целиться в людей!
32
Наш быт сенсациями беден,
провинциальный тесен круг.
Быть в центре домыслов и сплетен
предел мечтаний и заслуг.
И вот — я в центре. Я доволен.
Больничный скареден уют,
где мне товарищи по школе
дань удивленья воздают.
Я принимаю благосклонно
кульки печенья и конфет.
На мне висит статья закона —
отличия достойней нет.
Писала местная газета,
и участковый задавал
вопросы мне. Но слава эта
не выше Асиных похвал.
33
С черемухой, в халате белом,
вся — извиняющийся вид.
Пришла. И первым делом:
— Я уезжаю,— говорит.
Напрасно, мол, ты ждешь награды,
напрасно принял свой свинец,
напрасно встрече этой рад ты,
я уезжаю — и конец!
А в жесте локтевого сгиба,
едва наметившем поклон,
спасибо, глупое спасибо
за то, что я в нее влюблен.
И ставит точку и не хочет,
суля решение проблем
изящное, как многоточье:
— Я уезжаю. Насовсем.
34
Я уезжаю!.. Как некстати
всегда случается отъезд!..
Река — в черемуховом платье
склонившихся к реке невест.
Идем туда. В тени черемух
садимся молча на бревно
и смотрим взглядом отрешенным
в прозрачное речное дно.
Река — наскучившее чудо,
поток любой смывает след...
— Я напишу тебе оттуда!..
Киваю молча я в ответ.
Я понимаю, как напрасна
попытка время одолеть,
я понимаю, что пространство
разъединяет, будто смерть.
35
Вот и конец — внезапный, странный.
Он свойство общее натур
мечтательных: замах романный,
удар — лирический сумбур.
Не хорошо и не прекрасно.
Хоть в глаз болезненно, хоть в бровь
Читаю. Только то и ясно,
что Ася — первая любовь.
Но я доволен. Песня спета,
дрожит ее последний звук...
Душа чувствительно задета,
мне самому взгрустнулось вдруг.
И если вы грустить согласны,
друг друга поблагодарим...
Слова легки, но не напрасны,
когда внимают люди им.
июль 1986 года
Метки: