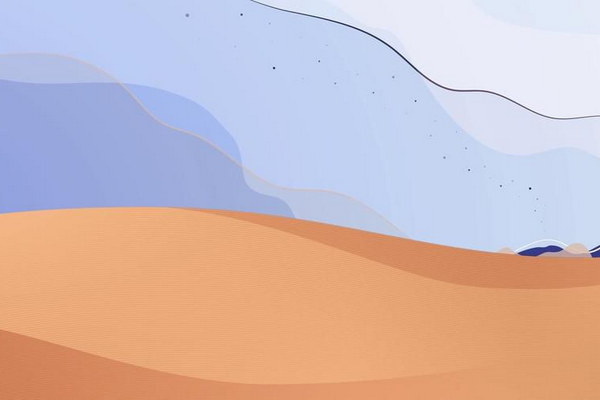Балетный альбом
А Л Ь Б О М З А Р И С О В О К
НА ТЕМЫ
ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ
(три фантазии с прологом,
эпилогом, двумя антрактами,
дивертисментом и монологом автора)
1. Пролог
1. "-Что ему Гекуба?"
В. Шекспир, Гамлет
2. "Что в имени тебе моем?"
А. С. Пушкин
3. "-Ах, Моцарт, Моцарт! Когда же
мне не до тебя?"
А.С. Пушкин, Моцарт и Сальери
4. "Туда душа моя стремится…"
О.Э. Мандельштам, Меганом, 1917.
Как циркуль, кисть отмеряет размер,
как гильотина, срежет метроном.
И пианист, как виртуозный эконом,
и дирижер, как гармоничный землемер,
решают музыку, как Ньютон - свой бином.
Грустит волошински - безмерный Меганом,
в пространстве моря числам не вместиться,
Крым - вполноги, и курица - не птица,
и море плещет в берег йод и бром,
и к морю гном бежит волной укрыться…
Гном из метро, пытаясь исхитриться,
выпархивает в двери напролом
сквозь турникетов частый волнолом
кому-то на ладонь синицей,
кому-то формулой из аксиом.
И тут хоть обрыдайся, обмолись,
но силы нет рыдать и помолиться,
Лети гусыней, славная синица!
Лети смелее в глиняную высь,
где высится глазурная столица.
Печальной радостью полны мои глаза:
я помню Моцарта камзол песочный
измят изрядно, хоть изрядно прочен.
И колокольцем бьется бирюза.
И бьется кровь прожилкою височной.
Отсрочен, вечен или обессрочен
клавир веселого архистратига?
Девчонка с краснопарусного брига
введет в компьютер сказочные строчки
и нежно правит вздыбленной квадригой…
12.10.97.
2. СУЛАМИФЬ
(первая фантазия на тему одноактного балета)
1. "Мы с тобою встретимся, Суламифь,
и мы не узнаем друг друга, но с тоской
и восторгом будут стремиться наши сердца
навстречу…"
А.И. Куприн, Суламифь
2. "Еще одно: нигде и никогда не смей
разузнавать - под страхом смерти моей -
кто я!"
Марина Цветаева, Приключения,
Картина четвертая. Гостиница "Весы"
Две луны бесстрастны на бархате свода.
Соло скрипки в надрыве цикадного грома
возвещает о бледном луче восхода
сквозь сиреневый свет лесного проема.
Шум воды от заросшего водопада
глохнет в груде камней, как волна на рифе.
И жестокий жрец с головой цикады
отнимает жизнь Суламифи.
Клык ножа над жертвенным алтарем,
кровь младенца - к престолу мамоны.
Но простертую руку жреца отвел
тот, который танцует царя Соломона.
Он низверг жреца на груду камней,
всех жрецов превращая в живой камнепад.
Он спасал для жизни ту, что будет родней,
чем сестра его или брат.
Знал ли он тогда уже, мудрый богач,
что до встречи с ней
истомит его жизнь калифа?
Лишь за нею игривым котенком вскачь
кинет сердце в силки Суламифи.
Водопадные струны щебечут о них
онемевшим камням хрустальные мифы,
о чудесных виденьях из снов золотых
Соломона и Суламифи.
И по капле струился льдяной огонь,
преломясь в янтаре винограда,
с её смуглой ладони в его ладонь
высочайшей в мире наградой.
И на трон любви восходила она,
и распятьем любви пело струнное ложе грифа,
и сливалась из двух половинок луна,
озарённая ликом возлюбленной Суламифи.
По янтарной листве, к изумрудной луне
от забот и волнений прочь
ночь врывалась в открытую душу ко мне,
по брусчатке бессонниц врывалась ночь,
уводила на склон виноградной горы,
ускользнув из-под ног каменистым донцем,
обжигала полуденным взором жары
рыжекудрой девчонки, сожженной солнцем.
Я бросался за нею, как хищный гриф.
Без нее целый мир мне был тесен:
"В Книге Песни любовь моя, Суламифь!
В Песне Песен!"
Ночь танцевала в парусах небес,
на парусине ветреных бурунов.
И месяца смарагдовый надрез
сочился медом в бирюзовый лес,
незрячий, словно лик фортуны.
Горожанка со взором царицы птиц
обмерла в тишине неживого партера.
И ее
в кругу иноземных цариц
кружит призрачных танцев химера.
И вечен жаркий круг объятий,
их не разомкнуто кольцо.
И в нем - твоих ключиц распятье
с моим невидящим лицом.
Мою клятву твердили под кровлей олив
водопадных струй свиристели:
"Я узнаю тебя, навек полюбив,
в Беатриче, в Елене, в Офелии!
Через тьмы веков, через толщу лет
под кедровой сенью на ложе любви
ясных глаз твоих виноградный свет
мою душу согреет и оживит".
И сиреневый свет сквозь лесной проем
возвестит о бледном луче восхода.
"Бездыханный, я здесь, на сердце твоем! -
- плачет скрипка под бархатом свода…
13.09.97
3
ПЕРВЫЙ АНТРАКТ
(этюд на тему монотональной полифонии)
Нет, не листва пылает торопливо,
но водополье света и плодов
смешалось с птичьим ветреным отливом
в латунный дым несобранных медов.
И рыжий лес штрихован чернью ствольной.
Развилками разъятые стволы
подёрнуты немолкнущим безмолвьем,
как тиной спутанной студеные валы.
Не музыка, но хрусткий холодок
дрожащего серебряного вздоха.
И нескончаем воздуха глоток,
и эхо в тишине оглохло.
Разводья веток в отраженье вод
пересекают медленные кольца
от листьев, звякнувших в зеркальный свод
латунным слитком смолкших колокольцев.
Ведет по пяльцам вод свой солнечный узор
сквозь нити паутин прозрачный неба свод,
в кипящую латунь обветренных озер,
в медовую ладонь струит листвяный йод.
Порхают куколки на нитях паутинных,
ныряют птицы в воды неживые
с расплавом меди и латунной тины,
с зигзагами и стволов графитно-грозовыми.
Не музыка, но вздох небес беззвездных,
разверстых над зеркальной бездной,
где катит ком латунных листьев мерзлых,
и, чем студенее, тем горечь безболезней…
И лес застыл в тиши многоколонной
на перекрестье серебристых паутин,
и только ждет беззвучный выстрел в клены
с пожарищем в крыле токующий павлин.
Не музыка, пророчество листвы
и геометрия в зеркальном отраженье,
где ласточкой летят в реке мосты,
раздвоенные мокрым опереньем,
И мечется зигзагой огневой
за бабочкой манжеты снежно-белой
Латунной молнией над головой
И бликом лаковым пред звуковым пробелом.
Нет музыки! Безмолвье и покой
под взглядом охранительным с портрета
нисходя к памяти беззвучно-вековой
самою памятью озябшею согреты.
Сам старый дирижер латунно сед,
но ежегодно в паутине сада
его седин голубоватый цвет
сопровождает пламя ада.
Над оркестровой ямой, над
янтарно-деревянной сходней
он молча шествует во ад,
иль восстает над преисподней.
Нет музыки! На крестовине нот
распятая хромым пюпитром,
она кривит в беззвучном крике рот
в костре пылающей палитры.
Нет музыки! Ее душа,
как бабочка над огневой приманкой
кружит и падает, опять кружа
над собственной латунной ранкой.
Нет музыки! Но в затемненной зале
в прибое поколебленных кулис
мелькнет в латуни блоков, в тросах стали
немое бешенство подстереженных лис…
26.09.97.
1 У
ПРИЗРАЧНЫЙ БАЛ
(Вторая фантазия на тему одноактного балета на музыку Ф. Шопена)
Листопад под унылым дождём
жёлтых крыл косяки собирает,
за озябший лететь окоём
паутинной соломенной стаей.
Ком взметённых безумных птиц
катит в ветреной круговерти
то ли ворох забытых лиц,
то ли сполох безликой смерти.
В разноцветно-янтарный альбом
запорошена крон онемевших ботва.
Только б вспомнить, по ком, по ком
колоколит серебряная листва.
Обжигающий лист за листом,
точно дичь из пятнистой сетки теней,
вынимаю. И ранки льдяной разлом
присыпает снег замороженных дней.
Шкуркой беличьей дрогнет листок,
припорошен прозрачно - крупитчатым снегом.
Но подуй на этот дремлющий уголёк,
он воскреснет из снежных своих поволок,
оплывая, как воск, согревающей негой.
Он опять превратится в янтарную птицу,
станет сердцем, трепещущим на ладони,
точно ком окровавленной плоти в тряпицу
спеленать, как в крыло воронье…
Вороное перышко на ветру,
на овчинке неба в метельной погоне
легким взмахом похоже, скорей, на игру
чем на тёплую каплю в пронзенной Иконе…
В воронёном ветре танцует - плывёт,
кувыркается - падает - и - летит
ворох листьев, воздушный змей-огнемёт,
груда призраков, брошенных в сорный петит.
И танцуют, и кружат волокна цветов
в полонезах, мазурках и вальсах
над немолчной толпой из дерев и кустов,
под немолчный зарок: "Не печаль, не печалься…"
Расставаний, разлук, новых встреч и потерь
затянулись рубцы на дождливых пяльцах
в неизменной мольбе: "Только верь, только верь…"
под немолчный зарок: "Не печаль, не печалься…"
Разноцветные листья растают в снегах,
чтоб из снега опять возродиться
чередой круговерти из праха в прах,
многокрылой бессмертной птицей…
29.10.97.
У. ВТОРОЙ АНТРАКТ
Антракт с кавычками стоит.
Был полон весь антракт Мейринком,
или тем вечно глупым поединком
его со всеми. Его грозный вид
всего лишь разлинованный графит
доски из классной комнаты. К ней спинкой
поставлен стул и накрепко хранит
безумье дня с безумной вечеринкой…
День был охвачен инцестальным бредом
к заманчивой дочурке - темной ночке.
Назойливые кружева из звездных строчек
метались в облаках перед обедом.
Но позже, к вечеру, как будто обошлось,
продолжась колеёй наезженного тракта:
эклиптики шлифованная ось
направила закат к обширному инфаркту.
Так день был умерщвлен, и ночь, приободрясь,
принарядилась в кружева заветной звёздной строчки,
как будто, на свиданье торопясь
к Авроре, ветреной капризной дочке…
Но всё закончится, как с папой накануне,
её в греховной страсти обвинят
бесчисленные тьмы полуродных внучат,
которых эти страсти не минули…
Итак, с небес, разграфленных дождём,
сходили облачка фигур и пешек.
И был погодой шахматный орешек,
сгрызаемый всегда вдвоем.
И ось симметрии - на сгиб доски.
Мать-Королева выпала за цифры
Сын-Гамлет каялся с тоски
еще с утра, калеча злые рифмы.
И симметрично каялась ему
Офелия, сестра Отелло,
которому любить не надоело,
плывя в утопленном в её глазах пруду.
Как странно, кружевной платок
вдруг оказался в клетку, тоже в клетку!
И дождь пересекался с чёрной веткой.
И, может быть, от ветки он промок?
Промок от ветки - дождь или платок?
Платок иль дождь? - Отелло в затрудненье,
И он на всякий случай и без лени
слесарно душит влаги ручеёк.
Проходит дождь. Над лужами густыми
шныряют отраженья облаков.
Задушен дождь. Отелло был таков.
Лишь Гамлет и Офелия грустили,
как пара пешек с кольцами оков.
Так пара пешек с кольцами оков
за край доски несётся новой жизнью.
Летучие сады тех новобрачных снов
да ни приемлют судей укоризны.
Да не приемлют! Клетчатый платок
На шахматной доске под веток перекрестьем.
Трехслойный символ и один глоток
из воздуха пред грозовым предвестьем.
За край доски, за этой жизни край
уходят симметричные фигуры.
Как зерна, брошены. И куры
склюют, поди, как зерна невзначай…
Двухцветных зерен, веток и дождей
назначено, как клеток, наложенье.
И, заточённый в клетку падежей,
не автор, Гамлет кончит предложенье.
Он кончит лихо и совсем не так,
как скромный автор, мыслящий рутинно,
хоть этот автор вовсе не простак,
Офелии не быть лазурной тиной.
Офелии не быть в небытии,
и Гамлет, раненный любовью,
искупленною собственною кровью,
крылом теней к любимой полетит…
Крылом теней накроет вечер день,
задёрнет ночь свой занавес лиловый,
и до утра прозрачные покровы
струят янтарной паутины сень…
09.05.98.
У 1. САЛОМЕЯ
(третья фантазия на тему одноактного балета на музыку Питера Габриэля)
- Скажи мне, как назвать движенье
от сердца к сердцу? В этом роль
твоя прописана с опереженьем…
- Боль
- И что, сроднив, разъединяет,
что жизни кровь, а крови соль,
что перед смертью всех равняет?
- Боль.
- Скажи, безмолвные надежды,
пустынный дар обманных воль
в какие вырядить одежды?
- В боль!
- Но музыку на флейте счастья
во сне играет хитрый тролль.
Что ж одолеет беды и напасти?
- Боль,
боль там, где многолюдно место,
где рвётся жизнь, как ветошь вены,
в пространстве музыки и жеста
с открытой настежь тайной сцены,
здесь будет зритель, боли той причастный,
внимать биенью в струях ручейка
сквозь гулы вечности бесстрастной
в волшебном шепоте песка.
С песчаной огненной подстилки,
смотри, чуднее фишек в нардах,
в непостижимом поединке
скользят серебряные саламандры,
их танец - чувственные ласки
безмерной сладострастной доли
мелодии восточной сказки,
изнемогающей от боли,
в порывах страсти растворясь,
перетекая друг из друга,
клубком чешуйным извивались
в орнамент замкнутого круга,
и застывали, не сгорая,
как венчик огненный бархана,
кальянным дымом антирая,
животной плотью, сном дурмана.
они кружились и сверкали
и угасали светляками
с крылами выжженной перкали,
с глазами, вылитыми медяками.
и смрад их гибели, как ядом,
все напитал могильным тленом.
богопротивным духом гада
до тысячного их колена.
И вихрь их оргий продолжался,
когда воззрил на них Пророк,
и над пустынею раздался
глагол, бичующий порок.
Глагол, Скорбящего о мире,
о Том, Кому он стал Предтеча,
с Кем не пришлось на братском пире -
- им суждена другая встреча…
И ради той обетованной Встречи
в саду, где вечны олеандры,
Пророк крушил, сметал, калечил,
давил серебряные саламандры.
Они бесчисленною тьмою
вокруг плотнее обступали,
чтоб стать его живой тюрьмою,
холодной клеткою из стали.
И в нескончаемых бореньях
Он падал камнем в сон тяжелый
на матушки родной колени,
как в детстве - голова в подоле.
Она пришла в его темницу,
она прошла сквозь хладный камень,
чтоб к голове его склониться
и погасить предсмертный пламень.
Он в вещем сне предвидел въяве,
как обезглавленный закат
пал ниц в загоризонтной яме
на облаков кровавый плат.
Пророк уже предзнал, отныне
его судьба, его удел
быть исцелителем унынья
и лекарем калечных тел.
И что теперь его сомненья,
его тоска, предчувствий боль!
Есть в жертвенности отреченье
души, летящей на огонь.
Плеск крыльев станет яркой вспышкой,
иль пеплом звука в пальцах барда,
иль тенью промелькнувшей мыши
под зорким взором саламандры…
Искусна царская плясунья,
пленительна Иродиада.
Серебряное полнолунье -
- тетрарха щедрая награда.
Не Пророку просить крохи хлеба,
над Пустынником воля не царская.
Для Него - только купол неба,
да Купель Его иорданская!
29.05.98.
УП. ДИВЕРТИСМЕНТ
ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА
" что-то алое с оливково - зеленым
бросилось ему в глаза… Перчатка
снова лежала на полу".
Джон Бойнтон Пристли, Дженни Вильерс.
Разлапистая тень осенней жёлтой ночи
чрез комнату легла сквозь мрак слепых огней,
и поздний час ночной полуночью отсрочен,
и краткий миг один приравнен к сотне дней.
За окнами домов гулял бездомный ветер
и, тенью повторясь, метался чёрный свет,
в пригоршню подхватив всё сущее на свете,
как листьев жухлый ком сгребая сотню лет.
Врываясь в сонный дом, сгущался рыжий мрак
пред конусом огня, светящим ниоткуда,
И времени клочки листвой взвихрял сквозняк,
неся песчаный прах в струящуюся груду.
Так было вне пространств, вне времени и мер:
сквозь комнатный провал втекал бархан секунд,
и в гребне жёлтых волн весь в чёрном гондольер
плыл, стрелкою часов взвихрив песчаный грунт.
Пылал камин огня, дымился бурый мрак.
Картон панельных стен взломали своды грота,
из полутьмы всплывал алхимика верстак,
и черный гондольер не прекращал работы.
Крушение плотин и времени запруд
сливалось и текло пред взором маловера
водоворотом в чёрный изумруд,
расплавленный волшебством гондольера.
И в плотный чёрно-изумрудный свет,
вплетая цвет проснувшейся фиалки,
алхимик - гондольер наметил силуэт
всходящей по волнам пылающей русалки.
Она брела на свет и свет парил над ней,
и в изумрудный мрак переплавлялись тени,
алхимик - гондольер, пещерный чародей,
смотрел, не утаив холодного кипенья.
Но лишь они смогли взглянуть в глаза друг другу
и изумрудный свет расплавил мрачный яд,
шар молнии блеснул средь светового круга
и искры мышьяка метнул в мой сонный взгляд.
И я проснулся вдруг. Мерцал слепой ночник.
Трещал по хрупким швам весь мировой каркас.
На улице лил дождь, во мраке город сник
и траур примерял. Там умерло Сейчас.
Ожившее Тогда вдруг вспомнилось теперь:
всплывал вчерашний день в лесной водоворот,
Стеклянная мне отворилась в чаще Дверь,
русалка рыжая метнулась в чёрный грот.
И я блуждал один и пил мышьяк волшбы,
сочащий из листвы обугленных фильер.
И всё казалось мне, через поток судьбы
гребу неспешно я, беспечный гондольер…
Из пламени листвы, из тленного прибоя
я выхватил один обугленный листок.
Он ракушкой хранит созвучье ветровое,
обветренной перчатки завиток…
23.10.97.
УШ. ЭПИЛОГ
" к Господу воззвал я в скорби
моей".
Иона - 2-3
Сначала жилкой, бьющейся в виске,
был пойман ритм, как птица в тот силок,
что пенной нитью волн терялся на песке,
внезапно нить прервал раздавшийся звонок.
Небрежным махом левой руки
автор вернул каретку направо
и вновь возвратился в покинутые силки,
и вновь окунулся в волны отравы:
прерванный ритм выплескивал пену,
покорной волною ложась у ног,
и только в песке прозмеилась измена,
когда опять раздался звонок.
Решительность передав занемевшей руке
автор привычно каретку вернул
к волнистой нити на пенном песке
и поудобней поставил стул.
Змеящийся текст вытекает из рук,
скользя меж пальцев в пустыню страницы
и только печатной каретки вдруг
звонок, как гром, грозил разразиться.
Автор, терпением вооружась,
взводит пружину печатной каретки,
кляня сюжета злую напасть
и слыша клекот в загрудной клетке.
И что было делать ему теперь,
когда бред сюжета палил его дом,
и он убегал, закрывая дверь,
и вдруг раздавался каретки гром,
и он возвращался, и лист вставлял
взамен исчерканного вкось и вкривь,
и новым началом его начал
пылал каретки парящий гриф.
И порванной нитью надломлен луч
света, бьющего из-за края листа,
и блик от кромки бумаги колюч,
как клювик токующего клеста,
когда сливается слово "наст"
с холодно мерцающим в памяти "хруст",
будто жующей каретки пасть
зимней поляны глотает куст.
И солнце парит на крыльях лучей
поджаренным жаворонком из теста,
которого автор, чудак-книгочей,
выпустил из загудной клетки текста.
И лишь затихнет пронзительный звон
из занебесных сводов сикстинских,
автору грезится, видит он
Младенца на Нежных Руках Материнских.
И если б - о, если б! - не видеть он мог
чёрно - чугунный клавишный череп,
хищно глотающий каждый слог
под металлический скрежет трелей,
он видел бы, глядя в высь без конца,
не замечая рези в глазах:
Младенец с ликом вещего мудреца
Обнял Пречистую и тихо Сказал
то, о чем невысказанно Молчат
Ее Улыбающиеся Уста,
о чем немолчно каноны звучат
не у сорока сороков, а у ста,
о чем медно-рыжий вечерний звонарь
звонит, что было силы и духа,
точно окутанный сумраком ларь
с откинутой крышкой вздыхает глухо…
За сумерки спрятался призрачный день
и автор заметил вдруг невзначай,
в каретке бумага торчит набекрень,
в стакане, как сумерки, стынет чай.
И целая жизнь, как остывший глоток,
как чайный след на стенке стакана,
или годичной ленты виток
в каретке чугунного истукана.
Монеткой, закрученной на ребре,
подкатит судьба, как печёный глоток.
Игрою игры - игра на игре! -
- откликнется писчей машинки звонок.
И снова - будь проклят! - наивен и пуст
вопрос о природе начального Слова:
Из чьих Оно прозвучало Уст?
И чьим Оно становилось уловом?
И ответ двоится в отраженье окна,
выдавая двойной закат за закат,
и двойным приливом выплескивает со дна
чешуйчатый звёздный парад.
Как смоль, серебрится сиреневый шрифт,
в цвет сумерек в чашке с кофейной гущей.
Автор по скорой вызвал лифт
до ближайшей блаженной кущи.
- Деточка, не капризничай, он вернется к утру.
Ты же знаешь, весенние ночи короче.
Я баюкал каретку, бродя по нутру
фантомов ненапечатанных строчек.
И я видел себя слепым кротом
в лабиринте печатных знаков,
И она шептала: "Потом, потом…"
И шепот с молчанием был одинаков.
А потом плотину ночи срывал звонок
и на пол спросонок летел аппарат,
и Голос Небесный Гремел: "Сынок!
Это ты что ли авторству будто не рад?!"
31.03.98.
1 X. МОНОЛОГ АВТОРА
(опыт прочтения избранных библейских текстов)
Положи меня, как печать,
о Любовь, на сердце твоём.
Как печатный перстень, я буду молчать,
что навек мы с тобой вдвоём,
потому что крепка, как смерть,
и едина, как смерть, Любовь.
Дней и лет твоих круговерть
кружит в венах горячую кровь.
Если я говорю языком,
но любовь свою потерял,
то язык мой - лишь меди ком,
точно втуне бренчащий кимвал.
Если знаю все тайны земли
и могу передвинуть горы,
я - ничто, если нет Любви,
пыль горчичная в кучке сора.
И теперь пребывают Они:
и Любовь, и Надежда, и Вера.
Троезвучный набат звонит,
но Любовь из них - колокол первый!
Ведь Любовь - от начал всех начал,
лишь Любовь породила Слово.
И Немеркший Свет Излучал
Первопризванный, Любящий снова.
Пока дышит прохладой день,
от смоковниц плывёт аромат.
И, давая возлюбленным сень,
наклоняет лозу виноград.
И в хмельном половодье глаз,
и в слепом клокотанье теней
о, Любовь, и невинность и страсть
Ты готова отнять у людей!
И доколе прохладный день
дышит в пламенные рамена,
виноградный хмельной ячмень
плещет в сердце морскою пеной.
О, Любовь, Ты как гордый олень
и пугливая серна гор,
догони убежавшей прохлады тень,
излови лисиц виноградных нор.
Виноградник мой за оградой любви.
Заклинаю прохладой ушедшего дня
по сухой реке ладьёй приплыви,
под шафранной луной обними меня.
И тогда под луной не будите меня.
Я засну - головою на Левой Руке,
а Любовь приласкает меня, храня
хладным пламенем в пепельном угольке…
Положи меня, как печать,
о Любовь, на сердце твоём.
Как печатный перстень, я буду молчать,
что навек мы с тобой вдвоём,
потому что крепка, как смерть,
и едина, как смерть, Любовь.
Дней и лет твоих круговерть
кружит в венах горячую кровь.
10.08.98.
НА ТЕМЫ
ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ
(три фантазии с прологом,
эпилогом, двумя антрактами,
дивертисментом и монологом автора)
1. Пролог
1. "-Что ему Гекуба?"
В. Шекспир, Гамлет
2. "Что в имени тебе моем?"
А. С. Пушкин
3. "-Ах, Моцарт, Моцарт! Когда же
мне не до тебя?"
А.С. Пушкин, Моцарт и Сальери
4. "Туда душа моя стремится…"
О.Э. Мандельштам, Меганом, 1917.
Как циркуль, кисть отмеряет размер,
как гильотина, срежет метроном.
И пианист, как виртуозный эконом,
и дирижер, как гармоничный землемер,
решают музыку, как Ньютон - свой бином.
Грустит волошински - безмерный Меганом,
в пространстве моря числам не вместиться,
Крым - вполноги, и курица - не птица,
и море плещет в берег йод и бром,
и к морю гном бежит волной укрыться…
Гном из метро, пытаясь исхитриться,
выпархивает в двери напролом
сквозь турникетов частый волнолом
кому-то на ладонь синицей,
кому-то формулой из аксиом.
И тут хоть обрыдайся, обмолись,
но силы нет рыдать и помолиться,
Лети гусыней, славная синица!
Лети смелее в глиняную высь,
где высится глазурная столица.
Печальной радостью полны мои глаза:
я помню Моцарта камзол песочный
измят изрядно, хоть изрядно прочен.
И колокольцем бьется бирюза.
И бьется кровь прожилкою височной.
Отсрочен, вечен или обессрочен
клавир веселого архистратига?
Девчонка с краснопарусного брига
введет в компьютер сказочные строчки
и нежно правит вздыбленной квадригой…
12.10.97.
2. СУЛАМИФЬ
(первая фантазия на тему одноактного балета)
1. "Мы с тобою встретимся, Суламифь,
и мы не узнаем друг друга, но с тоской
и восторгом будут стремиться наши сердца
навстречу…"
А.И. Куприн, Суламифь
2. "Еще одно: нигде и никогда не смей
разузнавать - под страхом смерти моей -
кто я!"
Марина Цветаева, Приключения,
Картина четвертая. Гостиница "Весы"
Две луны бесстрастны на бархате свода.
Соло скрипки в надрыве цикадного грома
возвещает о бледном луче восхода
сквозь сиреневый свет лесного проема.
Шум воды от заросшего водопада
глохнет в груде камней, как волна на рифе.
И жестокий жрец с головой цикады
отнимает жизнь Суламифи.
Клык ножа над жертвенным алтарем,
кровь младенца - к престолу мамоны.
Но простертую руку жреца отвел
тот, который танцует царя Соломона.
Он низверг жреца на груду камней,
всех жрецов превращая в живой камнепад.
Он спасал для жизни ту, что будет родней,
чем сестра его или брат.
Знал ли он тогда уже, мудрый богач,
что до встречи с ней
истомит его жизнь калифа?
Лишь за нею игривым котенком вскачь
кинет сердце в силки Суламифи.
Водопадные струны щебечут о них
онемевшим камням хрустальные мифы,
о чудесных виденьях из снов золотых
Соломона и Суламифи.
И по капле струился льдяной огонь,
преломясь в янтаре винограда,
с её смуглой ладони в его ладонь
высочайшей в мире наградой.
И на трон любви восходила она,
и распятьем любви пело струнное ложе грифа,
и сливалась из двух половинок луна,
озарённая ликом возлюбленной Суламифи.
По янтарной листве, к изумрудной луне
от забот и волнений прочь
ночь врывалась в открытую душу ко мне,
по брусчатке бессонниц врывалась ночь,
уводила на склон виноградной горы,
ускользнув из-под ног каменистым донцем,
обжигала полуденным взором жары
рыжекудрой девчонки, сожженной солнцем.
Я бросался за нею, как хищный гриф.
Без нее целый мир мне был тесен:
"В Книге Песни любовь моя, Суламифь!
В Песне Песен!"
Ночь танцевала в парусах небес,
на парусине ветреных бурунов.
И месяца смарагдовый надрез
сочился медом в бирюзовый лес,
незрячий, словно лик фортуны.
Горожанка со взором царицы птиц
обмерла в тишине неживого партера.
И ее
в кругу иноземных цариц
кружит призрачных танцев химера.
И вечен жаркий круг объятий,
их не разомкнуто кольцо.
И в нем - твоих ключиц распятье
с моим невидящим лицом.
Мою клятву твердили под кровлей олив
водопадных струй свиристели:
"Я узнаю тебя, навек полюбив,
в Беатриче, в Елене, в Офелии!
Через тьмы веков, через толщу лет
под кедровой сенью на ложе любви
ясных глаз твоих виноградный свет
мою душу согреет и оживит".
И сиреневый свет сквозь лесной проем
возвестит о бледном луче восхода.
"Бездыханный, я здесь, на сердце твоем! -
- плачет скрипка под бархатом свода…
13.09.97
3
ПЕРВЫЙ АНТРАКТ
(этюд на тему монотональной полифонии)
Нет, не листва пылает торопливо,
но водополье света и плодов
смешалось с птичьим ветреным отливом
в латунный дым несобранных медов.
И рыжий лес штрихован чернью ствольной.
Развилками разъятые стволы
подёрнуты немолкнущим безмолвьем,
как тиной спутанной студеные валы.
Не музыка, но хрусткий холодок
дрожащего серебряного вздоха.
И нескончаем воздуха глоток,
и эхо в тишине оглохло.
Разводья веток в отраженье вод
пересекают медленные кольца
от листьев, звякнувших в зеркальный свод
латунным слитком смолкших колокольцев.
Ведет по пяльцам вод свой солнечный узор
сквозь нити паутин прозрачный неба свод,
в кипящую латунь обветренных озер,
в медовую ладонь струит листвяный йод.
Порхают куколки на нитях паутинных,
ныряют птицы в воды неживые
с расплавом меди и латунной тины,
с зигзагами и стволов графитно-грозовыми.
Не музыка, но вздох небес беззвездных,
разверстых над зеркальной бездной,
где катит ком латунных листьев мерзлых,
и, чем студенее, тем горечь безболезней…
И лес застыл в тиши многоколонной
на перекрестье серебристых паутин,
и только ждет беззвучный выстрел в клены
с пожарищем в крыле токующий павлин.
Не музыка, пророчество листвы
и геометрия в зеркальном отраженье,
где ласточкой летят в реке мосты,
раздвоенные мокрым опереньем,
И мечется зигзагой огневой
за бабочкой манжеты снежно-белой
Латунной молнией над головой
И бликом лаковым пред звуковым пробелом.
Нет музыки! Безмолвье и покой
под взглядом охранительным с портрета
нисходя к памяти беззвучно-вековой
самою памятью озябшею согреты.
Сам старый дирижер латунно сед,
но ежегодно в паутине сада
его седин голубоватый цвет
сопровождает пламя ада.
Над оркестровой ямой, над
янтарно-деревянной сходней
он молча шествует во ад,
иль восстает над преисподней.
Нет музыки! На крестовине нот
распятая хромым пюпитром,
она кривит в беззвучном крике рот
в костре пылающей палитры.
Нет музыки! Ее душа,
как бабочка над огневой приманкой
кружит и падает, опять кружа
над собственной латунной ранкой.
Нет музыки! Но в затемненной зале
в прибое поколебленных кулис
мелькнет в латуни блоков, в тросах стали
немое бешенство подстереженных лис…
26.09.97.
1 У
ПРИЗРАЧНЫЙ БАЛ
(Вторая фантазия на тему одноактного балета на музыку Ф. Шопена)
Листопад под унылым дождём
жёлтых крыл косяки собирает,
за озябший лететь окоём
паутинной соломенной стаей.
Ком взметённых безумных птиц
катит в ветреной круговерти
то ли ворох забытых лиц,
то ли сполох безликой смерти.
В разноцветно-янтарный альбом
запорошена крон онемевших ботва.
Только б вспомнить, по ком, по ком
колоколит серебряная листва.
Обжигающий лист за листом,
точно дичь из пятнистой сетки теней,
вынимаю. И ранки льдяной разлом
присыпает снег замороженных дней.
Шкуркой беличьей дрогнет листок,
припорошен прозрачно - крупитчатым снегом.
Но подуй на этот дремлющий уголёк,
он воскреснет из снежных своих поволок,
оплывая, как воск, согревающей негой.
Он опять превратится в янтарную птицу,
станет сердцем, трепещущим на ладони,
точно ком окровавленной плоти в тряпицу
спеленать, как в крыло воронье…
Вороное перышко на ветру,
на овчинке неба в метельной погоне
легким взмахом похоже, скорей, на игру
чем на тёплую каплю в пронзенной Иконе…
В воронёном ветре танцует - плывёт,
кувыркается - падает - и - летит
ворох листьев, воздушный змей-огнемёт,
груда призраков, брошенных в сорный петит.
И танцуют, и кружат волокна цветов
в полонезах, мазурках и вальсах
над немолчной толпой из дерев и кустов,
под немолчный зарок: "Не печаль, не печалься…"
Расставаний, разлук, новых встреч и потерь
затянулись рубцы на дождливых пяльцах
в неизменной мольбе: "Только верь, только верь…"
под немолчный зарок: "Не печаль, не печалься…"
Разноцветные листья растают в снегах,
чтоб из снега опять возродиться
чередой круговерти из праха в прах,
многокрылой бессмертной птицей…
29.10.97.
У. ВТОРОЙ АНТРАКТ
Антракт с кавычками стоит.
Был полон весь антракт Мейринком,
или тем вечно глупым поединком
его со всеми. Его грозный вид
всего лишь разлинованный графит
доски из классной комнаты. К ней спинкой
поставлен стул и накрепко хранит
безумье дня с безумной вечеринкой…
День был охвачен инцестальным бредом
к заманчивой дочурке - темной ночке.
Назойливые кружева из звездных строчек
метались в облаках перед обедом.
Но позже, к вечеру, как будто обошлось,
продолжась колеёй наезженного тракта:
эклиптики шлифованная ось
направила закат к обширному инфаркту.
Так день был умерщвлен, и ночь, приободрясь,
принарядилась в кружева заветной звёздной строчки,
как будто, на свиданье торопясь
к Авроре, ветреной капризной дочке…
Но всё закончится, как с папой накануне,
её в греховной страсти обвинят
бесчисленные тьмы полуродных внучат,
которых эти страсти не минули…
Итак, с небес, разграфленных дождём,
сходили облачка фигур и пешек.
И был погодой шахматный орешек,
сгрызаемый всегда вдвоем.
И ось симметрии - на сгиб доски.
Мать-Королева выпала за цифры
Сын-Гамлет каялся с тоски
еще с утра, калеча злые рифмы.
И симметрично каялась ему
Офелия, сестра Отелло,
которому любить не надоело,
плывя в утопленном в её глазах пруду.
Как странно, кружевной платок
вдруг оказался в клетку, тоже в клетку!
И дождь пересекался с чёрной веткой.
И, может быть, от ветки он промок?
Промок от ветки - дождь или платок?
Платок иль дождь? - Отелло в затрудненье,
И он на всякий случай и без лени
слесарно душит влаги ручеёк.
Проходит дождь. Над лужами густыми
шныряют отраженья облаков.
Задушен дождь. Отелло был таков.
Лишь Гамлет и Офелия грустили,
как пара пешек с кольцами оков.
Так пара пешек с кольцами оков
за край доски несётся новой жизнью.
Летучие сады тех новобрачных снов
да ни приемлют судей укоризны.
Да не приемлют! Клетчатый платок
На шахматной доске под веток перекрестьем.
Трехслойный символ и один глоток
из воздуха пред грозовым предвестьем.
За край доски, за этой жизни край
уходят симметричные фигуры.
Как зерна, брошены. И куры
склюют, поди, как зерна невзначай…
Двухцветных зерен, веток и дождей
назначено, как клеток, наложенье.
И, заточённый в клетку падежей,
не автор, Гамлет кончит предложенье.
Он кончит лихо и совсем не так,
как скромный автор, мыслящий рутинно,
хоть этот автор вовсе не простак,
Офелии не быть лазурной тиной.
Офелии не быть в небытии,
и Гамлет, раненный любовью,
искупленною собственною кровью,
крылом теней к любимой полетит…
Крылом теней накроет вечер день,
задёрнет ночь свой занавес лиловый,
и до утра прозрачные покровы
струят янтарной паутины сень…
09.05.98.
У 1. САЛОМЕЯ
(третья фантазия на тему одноактного балета на музыку Питера Габриэля)
- Скажи мне, как назвать движенье
от сердца к сердцу? В этом роль
твоя прописана с опереженьем…
- Боль
- И что, сроднив, разъединяет,
что жизни кровь, а крови соль,
что перед смертью всех равняет?
- Боль.
- Скажи, безмолвные надежды,
пустынный дар обманных воль
в какие вырядить одежды?
- В боль!
- Но музыку на флейте счастья
во сне играет хитрый тролль.
Что ж одолеет беды и напасти?
- Боль,
боль там, где многолюдно место,
где рвётся жизнь, как ветошь вены,
в пространстве музыки и жеста
с открытой настежь тайной сцены,
здесь будет зритель, боли той причастный,
внимать биенью в струях ручейка
сквозь гулы вечности бесстрастной
в волшебном шепоте песка.
С песчаной огненной подстилки,
смотри, чуднее фишек в нардах,
в непостижимом поединке
скользят серебряные саламандры,
их танец - чувственные ласки
безмерной сладострастной доли
мелодии восточной сказки,
изнемогающей от боли,
в порывах страсти растворясь,
перетекая друг из друга,
клубком чешуйным извивались
в орнамент замкнутого круга,
и застывали, не сгорая,
как венчик огненный бархана,
кальянным дымом антирая,
животной плотью, сном дурмана.
они кружились и сверкали
и угасали светляками
с крылами выжженной перкали,
с глазами, вылитыми медяками.
и смрад их гибели, как ядом,
все напитал могильным тленом.
богопротивным духом гада
до тысячного их колена.
И вихрь их оргий продолжался,
когда воззрил на них Пророк,
и над пустынею раздался
глагол, бичующий порок.
Глагол, Скорбящего о мире,
о Том, Кому он стал Предтеча,
с Кем не пришлось на братском пире -
- им суждена другая встреча…
И ради той обетованной Встречи
в саду, где вечны олеандры,
Пророк крушил, сметал, калечил,
давил серебряные саламандры.
Они бесчисленною тьмою
вокруг плотнее обступали,
чтоб стать его живой тюрьмою,
холодной клеткою из стали.
И в нескончаемых бореньях
Он падал камнем в сон тяжелый
на матушки родной колени,
как в детстве - голова в подоле.
Она пришла в его темницу,
она прошла сквозь хладный камень,
чтоб к голове его склониться
и погасить предсмертный пламень.
Он в вещем сне предвидел въяве,
как обезглавленный закат
пал ниц в загоризонтной яме
на облаков кровавый плат.
Пророк уже предзнал, отныне
его судьба, его удел
быть исцелителем унынья
и лекарем калечных тел.
И что теперь его сомненья,
его тоска, предчувствий боль!
Есть в жертвенности отреченье
души, летящей на огонь.
Плеск крыльев станет яркой вспышкой,
иль пеплом звука в пальцах барда,
иль тенью промелькнувшей мыши
под зорким взором саламандры…
Искусна царская плясунья,
пленительна Иродиада.
Серебряное полнолунье -
- тетрарха щедрая награда.
Не Пророку просить крохи хлеба,
над Пустынником воля не царская.
Для Него - только купол неба,
да Купель Его иорданская!
29.05.98.
УП. ДИВЕРТИСМЕНТ
ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА
" что-то алое с оливково - зеленым
бросилось ему в глаза… Перчатка
снова лежала на полу".
Джон Бойнтон Пристли, Дженни Вильерс.
Разлапистая тень осенней жёлтой ночи
чрез комнату легла сквозь мрак слепых огней,
и поздний час ночной полуночью отсрочен,
и краткий миг один приравнен к сотне дней.
За окнами домов гулял бездомный ветер
и, тенью повторясь, метался чёрный свет,
в пригоршню подхватив всё сущее на свете,
как листьев жухлый ком сгребая сотню лет.
Врываясь в сонный дом, сгущался рыжий мрак
пред конусом огня, светящим ниоткуда,
И времени клочки листвой взвихрял сквозняк,
неся песчаный прах в струящуюся груду.
Так было вне пространств, вне времени и мер:
сквозь комнатный провал втекал бархан секунд,
и в гребне жёлтых волн весь в чёрном гондольер
плыл, стрелкою часов взвихрив песчаный грунт.
Пылал камин огня, дымился бурый мрак.
Картон панельных стен взломали своды грота,
из полутьмы всплывал алхимика верстак,
и черный гондольер не прекращал работы.
Крушение плотин и времени запруд
сливалось и текло пред взором маловера
водоворотом в чёрный изумруд,
расплавленный волшебством гондольера.
И в плотный чёрно-изумрудный свет,
вплетая цвет проснувшейся фиалки,
алхимик - гондольер наметил силуэт
всходящей по волнам пылающей русалки.
Она брела на свет и свет парил над ней,
и в изумрудный мрак переплавлялись тени,
алхимик - гондольер, пещерный чародей,
смотрел, не утаив холодного кипенья.
Но лишь они смогли взглянуть в глаза друг другу
и изумрудный свет расплавил мрачный яд,
шар молнии блеснул средь светового круга
и искры мышьяка метнул в мой сонный взгляд.
И я проснулся вдруг. Мерцал слепой ночник.
Трещал по хрупким швам весь мировой каркас.
На улице лил дождь, во мраке город сник
и траур примерял. Там умерло Сейчас.
Ожившее Тогда вдруг вспомнилось теперь:
всплывал вчерашний день в лесной водоворот,
Стеклянная мне отворилась в чаще Дверь,
русалка рыжая метнулась в чёрный грот.
И я блуждал один и пил мышьяк волшбы,
сочащий из листвы обугленных фильер.
И всё казалось мне, через поток судьбы
гребу неспешно я, беспечный гондольер…
Из пламени листвы, из тленного прибоя
я выхватил один обугленный листок.
Он ракушкой хранит созвучье ветровое,
обветренной перчатки завиток…
23.10.97.
УШ. ЭПИЛОГ
" к Господу воззвал я в скорби
моей".
Иона - 2-3
Сначала жилкой, бьющейся в виске,
был пойман ритм, как птица в тот силок,
что пенной нитью волн терялся на песке,
внезапно нить прервал раздавшийся звонок.
Небрежным махом левой руки
автор вернул каретку направо
и вновь возвратился в покинутые силки,
и вновь окунулся в волны отравы:
прерванный ритм выплескивал пену,
покорной волною ложась у ног,
и только в песке прозмеилась измена,
когда опять раздался звонок.
Решительность передав занемевшей руке
автор привычно каретку вернул
к волнистой нити на пенном песке
и поудобней поставил стул.
Змеящийся текст вытекает из рук,
скользя меж пальцев в пустыню страницы
и только печатной каретки вдруг
звонок, как гром, грозил разразиться.
Автор, терпением вооружась,
взводит пружину печатной каретки,
кляня сюжета злую напасть
и слыша клекот в загрудной клетке.
И что было делать ему теперь,
когда бред сюжета палил его дом,
и он убегал, закрывая дверь,
и вдруг раздавался каретки гром,
и он возвращался, и лист вставлял
взамен исчерканного вкось и вкривь,
и новым началом его начал
пылал каретки парящий гриф.
И порванной нитью надломлен луч
света, бьющего из-за края листа,
и блик от кромки бумаги колюч,
как клювик токующего клеста,
когда сливается слово "наст"
с холодно мерцающим в памяти "хруст",
будто жующей каретки пасть
зимней поляны глотает куст.
И солнце парит на крыльях лучей
поджаренным жаворонком из теста,
которого автор, чудак-книгочей,
выпустил из загудной клетки текста.
И лишь затихнет пронзительный звон
из занебесных сводов сикстинских,
автору грезится, видит он
Младенца на Нежных Руках Материнских.
И если б - о, если б! - не видеть он мог
чёрно - чугунный клавишный череп,
хищно глотающий каждый слог
под металлический скрежет трелей,
он видел бы, глядя в высь без конца,
не замечая рези в глазах:
Младенец с ликом вещего мудреца
Обнял Пречистую и тихо Сказал
то, о чем невысказанно Молчат
Ее Улыбающиеся Уста,
о чем немолчно каноны звучат
не у сорока сороков, а у ста,
о чем медно-рыжий вечерний звонарь
звонит, что было силы и духа,
точно окутанный сумраком ларь
с откинутой крышкой вздыхает глухо…
За сумерки спрятался призрачный день
и автор заметил вдруг невзначай,
в каретке бумага торчит набекрень,
в стакане, как сумерки, стынет чай.
И целая жизнь, как остывший глоток,
как чайный след на стенке стакана,
или годичной ленты виток
в каретке чугунного истукана.
Монеткой, закрученной на ребре,
подкатит судьба, как печёный глоток.
Игрою игры - игра на игре! -
- откликнется писчей машинки звонок.
И снова - будь проклят! - наивен и пуст
вопрос о природе начального Слова:
Из чьих Оно прозвучало Уст?
И чьим Оно становилось уловом?
И ответ двоится в отраженье окна,
выдавая двойной закат за закат,
и двойным приливом выплескивает со дна
чешуйчатый звёздный парад.
Как смоль, серебрится сиреневый шрифт,
в цвет сумерек в чашке с кофейной гущей.
Автор по скорой вызвал лифт
до ближайшей блаженной кущи.
- Деточка, не капризничай, он вернется к утру.
Ты же знаешь, весенние ночи короче.
Я баюкал каретку, бродя по нутру
фантомов ненапечатанных строчек.
И я видел себя слепым кротом
в лабиринте печатных знаков,
И она шептала: "Потом, потом…"
И шепот с молчанием был одинаков.
А потом плотину ночи срывал звонок
и на пол спросонок летел аппарат,
и Голос Небесный Гремел: "Сынок!
Это ты что ли авторству будто не рад?!"
31.03.98.
1 X. МОНОЛОГ АВТОРА
(опыт прочтения избранных библейских текстов)
Положи меня, как печать,
о Любовь, на сердце твоём.
Как печатный перстень, я буду молчать,
что навек мы с тобой вдвоём,
потому что крепка, как смерть,
и едина, как смерть, Любовь.
Дней и лет твоих круговерть
кружит в венах горячую кровь.
Если я говорю языком,
но любовь свою потерял,
то язык мой - лишь меди ком,
точно втуне бренчащий кимвал.
Если знаю все тайны земли
и могу передвинуть горы,
я - ничто, если нет Любви,
пыль горчичная в кучке сора.
И теперь пребывают Они:
и Любовь, и Надежда, и Вера.
Троезвучный набат звонит,
но Любовь из них - колокол первый!
Ведь Любовь - от начал всех начал,
лишь Любовь породила Слово.
И Немеркший Свет Излучал
Первопризванный, Любящий снова.
Пока дышит прохладой день,
от смоковниц плывёт аромат.
И, давая возлюбленным сень,
наклоняет лозу виноград.
И в хмельном половодье глаз,
и в слепом клокотанье теней
о, Любовь, и невинность и страсть
Ты готова отнять у людей!
И доколе прохладный день
дышит в пламенные рамена,
виноградный хмельной ячмень
плещет в сердце морскою пеной.
О, Любовь, Ты как гордый олень
и пугливая серна гор,
догони убежавшей прохлады тень,
излови лисиц виноградных нор.
Виноградник мой за оградой любви.
Заклинаю прохладой ушедшего дня
по сухой реке ладьёй приплыви,
под шафранной луной обними меня.
И тогда под луной не будите меня.
Я засну - головою на Левой Руке,
а Любовь приласкает меня, храня
хладным пламенем в пепельном угольке…
Положи меня, как печать,
о Любовь, на сердце твоём.
Как печатный перстень, я буду молчать,
что навек мы с тобой вдвоём,
потому что крепка, как смерть,
и едина, как смерть, Любовь.
Дней и лет твоих круговерть
кружит в венах горячую кровь.
10.08.98.
Метки: