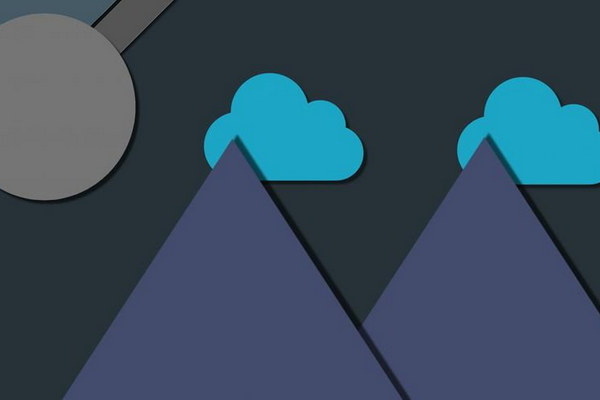2014
Светлана Бунина
* * *
Счастливое утро в Берлине.
Ты спишь, на подушке руки
едва уловимой теченье,
едва уловимой
русалочьей зимней руки.
Я в воду вхожу.
И чувствую плавно и сильно
судьбу и влеченье –
и проще второе.
Нет… кажется, оба легки.
Даниил Чкония
* * *
ничего ничего не лишне
если память жива и трепет
возникает в цветенье вишни
и картины струит и лепит
день который сияньем вышит
не сгорит обращаясь в пепел
если сок из него не выжат
если он повергает в трепет
хорошо говорить о бывшем
если нет о нем сожаленья
если память живет и дышит
словно свежее воспаленье
ни счетов ни обидных реплик
но смешнее слышней и выше
ветер прошлого ветви треплет
сумасшедшей в цветенье вишни
* * *
итак итак вступая из-за такта
и ощутив волнение в крови
я вынужден признать явленье факта
последней поздней трепетной любви
и если речь вести по сути строго
а как иначе на закате дня
ее явленье есть явленье Бога
и значит есть явление меня
вчерне на этом воздухе вечернем
когда подсвечен ярко небосклон
прости мне словесами увлеченье
я человек и мне подобен Он
и если я то жалуюсь и плачу
то возношу мгновению хвалу
я существую ибо что-то значу
в Его глазах и неба пахлаву
глотком и вдохом впитываю жадно
проглядывая свет где свет и край
клянясь тебе что ты последний ад мой
чистилище мое прощальный рай
Юлий Гуголев
ЧЕМ ДОЛЬШЕ ЖИВУ Я В РОССИИ...
Чем дольше живу я в России,
чем больше работаю с ней,
тем чую острее в разы я
и многое вижу ясней.
Чем дольше сижу я на Яме,
чем дольше читаю “Life News”,
спокойнее тем и упрямей,
я сдержанней, блин, становлюсь.
C улыбкой спокойной и жуткой,
какая под стать мсье Верду,
?Омич изнасиловал утку?
я без содроганья прочту.
(Я не шелохнусь и подавно,
не всхлипну ни разу, узнав,
что в Дании, этой Гуантанамо,
растерзан безвинный жираф.
Едва ли мой пульс участится
в пандан кровожадной молве,
когда плоть жирафа, – частица
одна, – воссияет во льве,
очнется во льве, как во гробе,
чего-то там чем-то поправ...
Послушай, далёко, во львиной утробе
обглоданный бродит жираф…)
Глазами, видавшими виды,
видавшими Вия в 3D,
кошмары Прямого эфира
смотрю, как буддист – варьете,
где, желчи моей не тревожа,
пусты, как словесный портрет,
такие сгущаются рожи,
которым и имени нет.
Мудями трясут, сикелями,
массируют жвала свои.
Слова их текут киселями,
а в горле сипят соловьи.
Одетые в латекс и ботокс,
скрывая слюну и хитин,
транслируют радость и бодрость,
но я, сука, невозмутим.
Какое мне, в сущности, дело
до всех Будапештов и Праг.
Дано, повторюсь, мне лишь тело,
которым заведует страх;
которое все уверяют:
пространство, как хочешь, крои! –
ведь все эти хаты, что с краю,
они же от веку – твои.
Так здравствуйте, сестры и братья,
одной уж ступнувши ногой…
Земля размыкает объятья,
суля вам приют и покой.
Должно быть, не знали, ребят, вы…
Вы ж просто не знали, ребят,
какие же клейкие клятвы
нам всем еще здесь предстоят.
В какие веселые игры
предложит сыграть нам братва.
Не просто в обычного тигра,
а сразу в ?жирафа и льва?.
Мы ж сами расчистили путь им,
не скажем теперь ?А мы чо??.
Мы все обязательно будем! –
кто – уткой, а кто – омичом.
Не важно, чи девка, чи парень,
но в логике Судного дня
я, тля, буду, всем благодарен
за все, чем кормили меня:
кто – стоном подземным, кто – эхом,
на память, наощупь живя, –
нутром земляного ореха,
путем дождевого червя.
Неважно, кто канет, кто сгинет,
каких средь слоев и пород,
но мужество нас не покинет
(в том случае, если придет),
в том случае, коль все пожрется
все той же утробой земной,
последнее, что остается:
пусть что-то пожрется и мной!
Мы – те же, ни лучше ни хуже.
Кровавые сопли утри.
Пока она жрет нас снаружи,
Мы гложем ее изнутри.
Не факт, что не сдамся без бою,
поскольку ее до хрена.
Но я остаюся собою,
родная моя сторона.
Александр Бараш
* * *
Иерусалим: запрокинутое лицо.
Горы вокруг: плечи.
Прикрытые веки церквей и мечетей.
Годы – удары пульса.
Он ждет, когда мы проснемся.
Когда мертвые откинут
тяжелые каменные одеяла
кладбища на Масличной Горе,
а живые – остановят машины,
выйдут из них, отключат мобильники,
возьмут за руки детей –
и мы увидим:
возникает взлетная полоса:
узкий светящийся мост
над темной ямой долины.
Ирина Ратушинская
* * *
В маленький домик с зеленой трубой
Кот мой ушел и зовет за собой.
Миску поставить, налить молока.
Я ненадолго, наверно.
Пока.
* * *
Ты баранов ел и людей.
Кто там в стаде? Да все равно.
Так откуда взялся злодей –
Тот, кто сделал тебе темно?
Пищевую цепочку рвать –
Это быдло не может сметь.
Что ж теперь ни зги не видать?
Что ж в упор безымянна смерть?
И кого, наклоняя лоб,
Ищешь? Физлицо или знак?
– Кто тебя ослепил, циклоп?
– Никто.
И звать никак.
* * *
Счастливое утро в Берлине.
Ты спишь, на подушке руки
едва уловимой теченье,
едва уловимой
русалочьей зимней руки.
Я в воду вхожу.
И чувствую плавно и сильно
судьбу и влеченье –
и проще второе.
Нет… кажется, оба легки.
Даниил Чкония
* * *
ничего ничего не лишне
если память жива и трепет
возникает в цветенье вишни
и картины струит и лепит
день который сияньем вышит
не сгорит обращаясь в пепел
если сок из него не выжат
если он повергает в трепет
хорошо говорить о бывшем
если нет о нем сожаленья
если память живет и дышит
словно свежее воспаленье
ни счетов ни обидных реплик
но смешнее слышней и выше
ветер прошлого ветви треплет
сумасшедшей в цветенье вишни
* * *
итак итак вступая из-за такта
и ощутив волнение в крови
я вынужден признать явленье факта
последней поздней трепетной любви
и если речь вести по сути строго
а как иначе на закате дня
ее явленье есть явленье Бога
и значит есть явление меня
вчерне на этом воздухе вечернем
когда подсвечен ярко небосклон
прости мне словесами увлеченье
я человек и мне подобен Он
и если я то жалуюсь и плачу
то возношу мгновению хвалу
я существую ибо что-то значу
в Его глазах и неба пахлаву
глотком и вдохом впитываю жадно
проглядывая свет где свет и край
клянясь тебе что ты последний ад мой
чистилище мое прощальный рай
Юлий Гуголев
ЧЕМ ДОЛЬШЕ ЖИВУ Я В РОССИИ...
Чем дольше живу я в России,
чем больше работаю с ней,
тем чую острее в разы я
и многое вижу ясней.
Чем дольше сижу я на Яме,
чем дольше читаю “Life News”,
спокойнее тем и упрямей,
я сдержанней, блин, становлюсь.
C улыбкой спокойной и жуткой,
какая под стать мсье Верду,
?Омич изнасиловал утку?
я без содроганья прочту.
(Я не шелохнусь и подавно,
не всхлипну ни разу, узнав,
что в Дании, этой Гуантанамо,
растерзан безвинный жираф.
Едва ли мой пульс участится
в пандан кровожадной молве,
когда плоть жирафа, – частица
одна, – воссияет во льве,
очнется во льве, как во гробе,
чего-то там чем-то поправ...
Послушай, далёко, во львиной утробе
обглоданный бродит жираф…)
Глазами, видавшими виды,
видавшими Вия в 3D,
кошмары Прямого эфира
смотрю, как буддист – варьете,
где, желчи моей не тревожа,
пусты, как словесный портрет,
такие сгущаются рожи,
которым и имени нет.
Мудями трясут, сикелями,
массируют жвала свои.
Слова их текут киселями,
а в горле сипят соловьи.
Одетые в латекс и ботокс,
скрывая слюну и хитин,
транслируют радость и бодрость,
но я, сука, невозмутим.
Какое мне, в сущности, дело
до всех Будапештов и Праг.
Дано, повторюсь, мне лишь тело,
которым заведует страх;
которое все уверяют:
пространство, как хочешь, крои! –
ведь все эти хаты, что с краю,
они же от веку – твои.
Так здравствуйте, сестры и братья,
одной уж ступнувши ногой…
Земля размыкает объятья,
суля вам приют и покой.
Должно быть, не знали, ребят, вы…
Вы ж просто не знали, ребят,
какие же клейкие клятвы
нам всем еще здесь предстоят.
В какие веселые игры
предложит сыграть нам братва.
Не просто в обычного тигра,
а сразу в ?жирафа и льва?.
Мы ж сами расчистили путь им,
не скажем теперь ?А мы чо??.
Мы все обязательно будем! –
кто – уткой, а кто – омичом.
Не важно, чи девка, чи парень,
но в логике Судного дня
я, тля, буду, всем благодарен
за все, чем кормили меня:
кто – стоном подземным, кто – эхом,
на память, наощупь живя, –
нутром земляного ореха,
путем дождевого червя.
Неважно, кто канет, кто сгинет,
каких средь слоев и пород,
но мужество нас не покинет
(в том случае, если придет),
в том случае, коль все пожрется
все той же утробой земной,
последнее, что остается:
пусть что-то пожрется и мной!
Мы – те же, ни лучше ни хуже.
Кровавые сопли утри.
Пока она жрет нас снаружи,
Мы гложем ее изнутри.
Не факт, что не сдамся без бою,
поскольку ее до хрена.
Но я остаюся собою,
родная моя сторона.
Александр Бараш
* * *
Иерусалим: запрокинутое лицо.
Горы вокруг: плечи.
Прикрытые веки церквей и мечетей.
Годы – удары пульса.
Он ждет, когда мы проснемся.
Когда мертвые откинут
тяжелые каменные одеяла
кладбища на Масличной Горе,
а живые – остановят машины,
выйдут из них, отключат мобильники,
возьмут за руки детей –
и мы увидим:
возникает взлетная полоса:
узкий светящийся мост
над темной ямой долины.
Ирина Ратушинская
* * *
В маленький домик с зеленой трубой
Кот мой ушел и зовет за собой.
Миску поставить, налить молока.
Я ненадолго, наверно.
Пока.
* * *
Ты баранов ел и людей.
Кто там в стаде? Да все равно.
Так откуда взялся злодей –
Тот, кто сделал тебе темно?
Пищевую цепочку рвать –
Это быдло не может сметь.
Что ж теперь ни зги не видать?
Что ж в упор безымянна смерть?
И кого, наклоняя лоб,
Ищешь? Физлицо или знак?
– Кто тебя ослепил, циклоп?
– Никто.
И звать никак.
Метки: