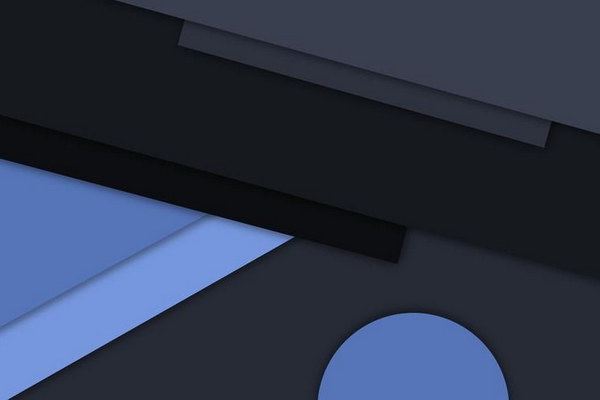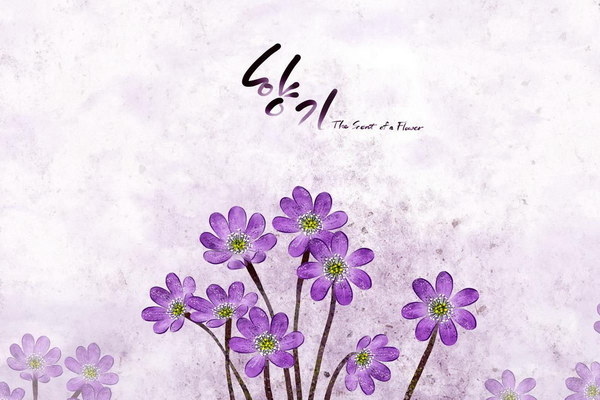И хлопьями снег...
(подборка)
Снегу-то сколько – горы,
и под ногами хрустко.
Только зигзагом Зорро
вычеркнуть ложь Прокруста
вряд ли удастся. Зримы
будней тугие кросна,
снежно-прокрустны зимы,
нежно-прокрустны вёсны.
Ветка на ёлке хрустнет
стеблем цветка Данилы.
Зеленоельно-грустно
всё, что в себе хранила.
Как пред очами звонко,
а под ладонью хрупко:
что-то под кожей тонкой
рвётся, как юбка Любки.
Зеленохвойной елью
думки мои про это:
блещет елейным зельем
в стопке осенней лето…
***
Прихожу в Александровский сад, как в надсадность впадая,
и иду по не мною расхоженным тёмным аллеям…
На почившую осень слетает зима молодая,
чтоб останки склевать, ни крошинки её не жалея,
у меня на плече ворковать Гамаюновы сказы,
заговаривать мысли до цвета прохладной досады,
и припомнив тобою в саду обронённую фразу,
я ладонью зажму мне на душу осевший осадок.
Захотев от плеча отогнать эту вещую зиму,
я руками взмахну, словно крыльями зимняя птица,
и взлечу над аллеей с улыбкой Джульетты Мазины,
и уверую в то, что плохого со мной не случится.
Вопреки мне предсказанным хворям, обидам и стужам,
пролетая над садом, я снова поверю, возможно,
что по-прежнему сад мне садовую голову кружит,
что по-прежнему песни мои тебе сердце тревожат…
***
Вот уж которую осень прямо под ноги нам роняет,
высушив до черна, свои ягоды бузина.
А ты говоришь: - Снова тебе что-то не так, родная.
Я отвечаю: - Это просто пришла зима.
Махнём, говорю, в глухомань, где самые тёмные ночи ясны и зрячи,
а нить горизонта тоньше, чем звонко натянутая тетива.
А ты говоришь: - Отстань, уймись, маета, полно тебе маячить.
Мол, как-то не вовремя всё это затевать.
Я говорю, что в сад залетела какая-то странная птица
и плачет о Волге, как на сосновой ветке мышкинская сова.
А ты говоришь: О, господи! Да что ж тебе всё не спится?
Дескать, и без тебя на утро будет болеть голова.
Я, твоя женщина, говорю тебе о мечтах,
а ты на моём плече пальцами нервно выстукиваешь этюд Шопена,
и я смотрю, как моих желаний русалья пена
уже поблёскивает инеем у меня в волосах.
Ты бормочешь: - Постой, а кто ты, блондинка в белом?
И греешь мои ладони, и вздрагиваешь в полусне.
Зима, говорю, а зима – это такое дело…
Спи. Это снег.
***
Любит, а может, нет, ну и что с того?
Разве меняет дело такой расклад?
Видишь - танцует снег надо всей Москвой?
И наплевать, что кто-то ему не рад.
Может, не видит тот, кто кротово-слеп,
как преломляет снег этот лунный свет,
может, иному счастье - лишь только хлеб,
может, не знал он радости тыщу лет...
Может, всё так и кончится: отгорев,
в бледный безликий воск изойдёт свеча,
с дамой червовой ляжет шестёрка треф,
в сердце вольётся боль, алычой горча.
Снег, а потом капель, а потом жасмин, -
просто пиши стихи, а глаза прикрой.
Есть на любовный сплин журавлиный клин,
что пролетит по осени над тобой.
***
Набухли почки на ветвях
(и очень зря),
туман обманчивый пустого ноября
с капельной пылкостью апреля перепутав.
На той неделе обещают холода,
тогда в доверчивый мой сад придёт беда
с холодно-чёрными зрачками маламута,
а у меня в глазах июльская роса
и перевёрнутые Волгой небеса,
и над паромом
говорок весёлых стаек.
На той неделе обещают холода,
и на глазах
замёрзнет волжская вода, -
я буду ждать,
пока она опять
растает.
***
Зима лежит в асфальт лицом,
ей нынче всё по-тридевято...
Славянским пафосом объятый,
сосед восходит на крыльцо.
Как за окном его Людок
над оливье зеленоока,
а на стекле соседских окон
блестит узорами ледок.
Сверкает снежная глазурь,
по ней метелит белый парус, -
сосед глядит вослед, не парясь:
ему - соседу - не до бурь.
Груди расправив колесо,
такой величественно-трезвый,
он открывает дверь подъезда,
как открывают Curacao.
***
Рябина прищурилась карим дуплом
и пробует зимнюю терпкость терпенья,
вздыхая о чём-то крамольно-весеннем.
Мы нынче полночно-терпимы вдвоём.
Рябиновой тайной горчит на губах
когда-то любимое имя… И мнится:
весна терпеливой озябшей синицей
сидит на рябиновых тонких ветвях…
***
В какой реальности, когда
я целовала эти руки?
На поднебесные снега
смотрел декабрь близорукий
и бликовал чудным пенсне…
В той тридевятой стороне
ты разгадал мою кручину –
и стаял снег во всех садах…
Мне снится, как в твоих руках
теплеют стоны пианино,
и разделяясь меж двумя,
на сад
спускается
зима.
***
Собираюсь к тебе, словно к тайной священной вечере,
ощущая нещадное время намного острее,
и густеет внутри опьяняющий сбрендивший Шерри,
так что даже Манежная вместе со мной фонареет,
снегопад зажигая на тысячи радужных бликов,
рассыпая вокруг турмалины под цвет коньяка.
У меня на ресницах – растаявший иней уликой,
у тебя на ладони – снежинка не тает никак.
Мне идти от тебя и желать, чтоб, ударившись оземь,
обесцвеченный снег обернулся восторгом акаций,
а потом прислониться к дворовой плакучей берёзе,
закурить – и не плакать,
не думать,
не ждать,
не терзаться.
***
Не шепчи над стопарём, дескать, наглая,
зря, мол, было убеждать да названивать.
Ну, ушла к-себе-в-себя, типа, в Англию,
так, по-аглицки ушла, без лобзания.
Мнила, призраки мои – белы ангелы,
а над замками туман в цвет магнолии.
Я-то думала, к себе – словно в Англию,
оказалось, что в себя – как в Монголию.
И – ни замков, ни замков, - степи снежные,
и ветра по ним с утра и до вечера.
Пью кобылье молоко, веки смежила
в монголоидный разрез недоверчивый.
***
Ах, да что ж это за напасти,
небо зимнее так туманно,
на перилах и на балясинах
снег развесил тряпицы рваные…
Но яснее видны границы
и отчётливей жизнь иная…
А иные людские лица
так нечасто припоминаю
и скучаю без них всё реже,
и – сама по себе – всё чаще,
словно скульптор, ночами режу
это ?я?, под резцом хрустящее…
И всё ниже каблук и больше
с тёмной почвой пятно контакта,
всё длинней о весёлом прошлом,
а о будущем – всё компактнее…
***
Остыла пылкая влюблённость,
и ты, мой милый дуралей,
глядишь на склон холма, где клёны
голее голых королей.
Зима, мой друг. Похолодало…
Ни тусклый свет, ни тайный путь,
ни ?ледяная рябь канала?
уже не могут обмануть,
и ничего не повторится.
Опавший клён заледенел,
и улетают голубицы
в небесно-снежный беспредел.
И мне – с причудами, но в белом –
твоих портьер не волновать, -
заиндевелою омелой
стою, как ты наколдовал.
Влюблённость прежняя, похоже,
ушла в глубины чутких строф
и под корой продрогшей кожи
перерождается в любовь…
***
Куколкой в белом коконе
дремлет моя капустница.
Небо на землю спустится –
ляжет в саду под окнами,
ляжет в саду под окнами –
да всколыхнётся заметью.
Что снегири мне в памяти
северное наокали?
Ты мне, пригладив локоны,
снова слова запутаешь.
Хмурень, в тулуп закутанный,
ходит вокруг да около,
ходит вокруг да около
под руку с бледной спутницей,
но у моей капустницы
сердце звончей, чем колокол.
Слышишь – шурша под кожицей,
крепнут тугие крылышки.
Щедрой метелью вымышлен,
сон на окно уложится
странным цветком, подцвеченным
воском облитой свечечкой, -
тёплое лето-летичко
видится в нем и множится.
***
Под этим настом снежным,
под этой коркой льда
звенит во сне подснежник,
течёт во сне вода.
А я, идя по насту,
а я, скользя по льду,
машу руками часто,
боясь, что упаду,
но я иду прилежно
по корке на снегу,
надеясь, что подснежность
свою уберегу…
***
Снежно вокруг, и снег
нежный такой, а смех –
грустный.
И - как во сне –
хрупко всё так,
хрустко…
Снегу-то сколько – горы,
и под ногами хрустко.
Только зигзагом Зорро
вычеркнуть ложь Прокруста
вряд ли удастся. Зримы
будней тугие кросна,
снежно-прокрустны зимы,
нежно-прокрустны вёсны.
Ветка на ёлке хрустнет
стеблем цветка Данилы.
Зеленоельно-грустно
всё, что в себе хранила.
Как пред очами звонко,
а под ладонью хрупко:
что-то под кожей тонкой
рвётся, как юбка Любки.
Зеленохвойной елью
думки мои про это:
блещет елейным зельем
в стопке осенней лето…
***
Прихожу в Александровский сад, как в надсадность впадая,
и иду по не мною расхоженным тёмным аллеям…
На почившую осень слетает зима молодая,
чтоб останки склевать, ни крошинки её не жалея,
у меня на плече ворковать Гамаюновы сказы,
заговаривать мысли до цвета прохладной досады,
и припомнив тобою в саду обронённую фразу,
я ладонью зажму мне на душу осевший осадок.
Захотев от плеча отогнать эту вещую зиму,
я руками взмахну, словно крыльями зимняя птица,
и взлечу над аллеей с улыбкой Джульетты Мазины,
и уверую в то, что плохого со мной не случится.
Вопреки мне предсказанным хворям, обидам и стужам,
пролетая над садом, я снова поверю, возможно,
что по-прежнему сад мне садовую голову кружит,
что по-прежнему песни мои тебе сердце тревожат…
***
Вот уж которую осень прямо под ноги нам роняет,
высушив до черна, свои ягоды бузина.
А ты говоришь: - Снова тебе что-то не так, родная.
Я отвечаю: - Это просто пришла зима.
Махнём, говорю, в глухомань, где самые тёмные ночи ясны и зрячи,
а нить горизонта тоньше, чем звонко натянутая тетива.
А ты говоришь: - Отстань, уймись, маета, полно тебе маячить.
Мол, как-то не вовремя всё это затевать.
Я говорю, что в сад залетела какая-то странная птица
и плачет о Волге, как на сосновой ветке мышкинская сова.
А ты говоришь: О, господи! Да что ж тебе всё не спится?
Дескать, и без тебя на утро будет болеть голова.
Я, твоя женщина, говорю тебе о мечтах,
а ты на моём плече пальцами нервно выстукиваешь этюд Шопена,
и я смотрю, как моих желаний русалья пена
уже поблёскивает инеем у меня в волосах.
Ты бормочешь: - Постой, а кто ты, блондинка в белом?
И греешь мои ладони, и вздрагиваешь в полусне.
Зима, говорю, а зима – это такое дело…
Спи. Это снег.
***
Любит, а может, нет, ну и что с того?
Разве меняет дело такой расклад?
Видишь - танцует снег надо всей Москвой?
И наплевать, что кто-то ему не рад.
Может, не видит тот, кто кротово-слеп,
как преломляет снег этот лунный свет,
может, иному счастье - лишь только хлеб,
может, не знал он радости тыщу лет...
Может, всё так и кончится: отгорев,
в бледный безликий воск изойдёт свеча,
с дамой червовой ляжет шестёрка треф,
в сердце вольётся боль, алычой горча.
Снег, а потом капель, а потом жасмин, -
просто пиши стихи, а глаза прикрой.
Есть на любовный сплин журавлиный клин,
что пролетит по осени над тобой.
***
Набухли почки на ветвях
(и очень зря),
туман обманчивый пустого ноября
с капельной пылкостью апреля перепутав.
На той неделе обещают холода,
тогда в доверчивый мой сад придёт беда
с холодно-чёрными зрачками маламута,
а у меня в глазах июльская роса
и перевёрнутые Волгой небеса,
и над паромом
говорок весёлых стаек.
На той неделе обещают холода,
и на глазах
замёрзнет волжская вода, -
я буду ждать,
пока она опять
растает.
***
Зима лежит в асфальт лицом,
ей нынче всё по-тридевято...
Славянским пафосом объятый,
сосед восходит на крыльцо.
Как за окном его Людок
над оливье зеленоока,
а на стекле соседских окон
блестит узорами ледок.
Сверкает снежная глазурь,
по ней метелит белый парус, -
сосед глядит вослед, не парясь:
ему - соседу - не до бурь.
Груди расправив колесо,
такой величественно-трезвый,
он открывает дверь подъезда,
как открывают Curacao.
***
Рябина прищурилась карим дуплом
и пробует зимнюю терпкость терпенья,
вздыхая о чём-то крамольно-весеннем.
Мы нынче полночно-терпимы вдвоём.
Рябиновой тайной горчит на губах
когда-то любимое имя… И мнится:
весна терпеливой озябшей синицей
сидит на рябиновых тонких ветвях…
***
В какой реальности, когда
я целовала эти руки?
На поднебесные снега
смотрел декабрь близорукий
и бликовал чудным пенсне…
В той тридевятой стороне
ты разгадал мою кручину –
и стаял снег во всех садах…
Мне снится, как в твоих руках
теплеют стоны пианино,
и разделяясь меж двумя,
на сад
спускается
зима.
***
Собираюсь к тебе, словно к тайной священной вечере,
ощущая нещадное время намного острее,
и густеет внутри опьяняющий сбрендивший Шерри,
так что даже Манежная вместе со мной фонареет,
снегопад зажигая на тысячи радужных бликов,
рассыпая вокруг турмалины под цвет коньяка.
У меня на ресницах – растаявший иней уликой,
у тебя на ладони – снежинка не тает никак.
Мне идти от тебя и желать, чтоб, ударившись оземь,
обесцвеченный снег обернулся восторгом акаций,
а потом прислониться к дворовой плакучей берёзе,
закурить – и не плакать,
не думать,
не ждать,
не терзаться.
***
Не шепчи над стопарём, дескать, наглая,
зря, мол, было убеждать да названивать.
Ну, ушла к-себе-в-себя, типа, в Англию,
так, по-аглицки ушла, без лобзания.
Мнила, призраки мои – белы ангелы,
а над замками туман в цвет магнолии.
Я-то думала, к себе – словно в Англию,
оказалось, что в себя – как в Монголию.
И – ни замков, ни замков, - степи снежные,
и ветра по ним с утра и до вечера.
Пью кобылье молоко, веки смежила
в монголоидный разрез недоверчивый.
***
Ах, да что ж это за напасти,
небо зимнее так туманно,
на перилах и на балясинах
снег развесил тряпицы рваные…
Но яснее видны границы
и отчётливей жизнь иная…
А иные людские лица
так нечасто припоминаю
и скучаю без них всё реже,
и – сама по себе – всё чаще,
словно скульптор, ночами режу
это ?я?, под резцом хрустящее…
И всё ниже каблук и больше
с тёмной почвой пятно контакта,
всё длинней о весёлом прошлом,
а о будущем – всё компактнее…
***
Остыла пылкая влюблённость,
и ты, мой милый дуралей,
глядишь на склон холма, где клёны
голее голых королей.
Зима, мой друг. Похолодало…
Ни тусклый свет, ни тайный путь,
ни ?ледяная рябь канала?
уже не могут обмануть,
и ничего не повторится.
Опавший клён заледенел,
и улетают голубицы
в небесно-снежный беспредел.
И мне – с причудами, но в белом –
твоих портьер не волновать, -
заиндевелою омелой
стою, как ты наколдовал.
Влюблённость прежняя, похоже,
ушла в глубины чутких строф
и под корой продрогшей кожи
перерождается в любовь…
***
Куколкой в белом коконе
дремлет моя капустница.
Небо на землю спустится –
ляжет в саду под окнами,
ляжет в саду под окнами –
да всколыхнётся заметью.
Что снегири мне в памяти
северное наокали?
Ты мне, пригладив локоны,
снова слова запутаешь.
Хмурень, в тулуп закутанный,
ходит вокруг да около,
ходит вокруг да около
под руку с бледной спутницей,
но у моей капустницы
сердце звончей, чем колокол.
Слышишь – шурша под кожицей,
крепнут тугие крылышки.
Щедрой метелью вымышлен,
сон на окно уложится
странным цветком, подцвеченным
воском облитой свечечкой, -
тёплое лето-летичко
видится в нем и множится.
***
Под этим настом снежным,
под этой коркой льда
звенит во сне подснежник,
течёт во сне вода.
А я, идя по насту,
а я, скользя по льду,
машу руками часто,
боясь, что упаду,
но я иду прилежно
по корке на снегу,
надеясь, что подснежность
свою уберегу…
***
Снежно вокруг, и снег
нежный такой, а смех –
грустный.
И - как во сне –
хрупко всё так,
хрустко…
Метки: