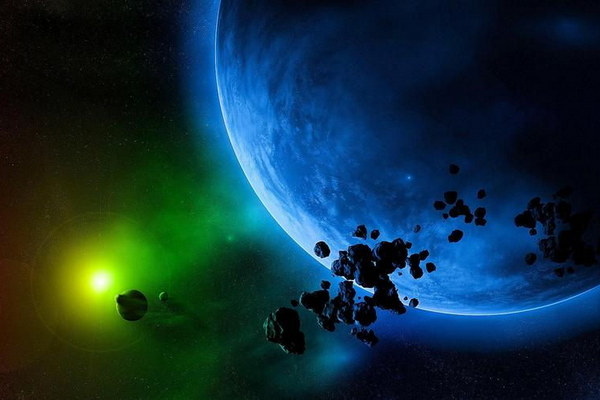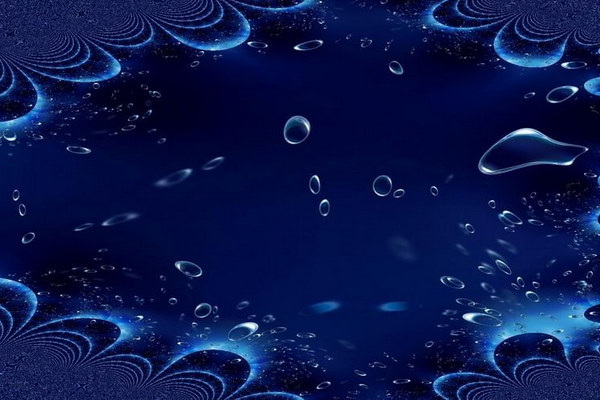Любовь в лесу чар
Егор Феофилович Друк особо не верил в чудеса, а если точнее выразиться, то и совсем не верил. Он был человеком серьезных устоев и не любил неожиданных шалостей, а когда заходил в булочную, то вся очередь затихала в ожидании строгих укоров за непорядок и вольное трактование фактов окружающей жизни.
В парикмахерской Егор Феофилович тщательно отчитывал мастера за случайный порез и долго тряс парусиновыми штиблетами перед носами любопытных граждан, сбежавшихся на его крики: “Вам бы только клиентов резать!”
На больших семейных торжествах Егор Феофилович обряжался в добротный сюртук деда Арчила, грузина по материнской линии, пил изумрудную чачу, поднося стопки ко рту руками, обтянутыми белыми дамскими перчатками: так ему казалось, что он лично не касается скверны.
По соседству с домиком Егора Феофиловича стоял флигелек давно ушедшей в мир иной старухи Капитолины Марковны Шумовой-Подбельской - родом то ли из купеческого, то ли из другого какого сословия повыше. Так говорили.
Историю старухину почти забыли, но судачили, что много было накручено в жизни у старорежимной бабки.
Ее сына уже после войны подозревали в чем-то антисоветском или разврат какой приписали с моральным разложением. Теперь точно никто не помнил. Но еще были живы те, кто знавал красавца-офицера, от которого сбежала молодая жена с каким-то богатым татарином из города Пензы, оставив на руках у мужа маленькую дочку-ангелочка высокой красоты.
Офицер, как у нас это водится, запил. Получил строгий выговор с занесением в учетную карточку и повесился прямо на сливе, росшей в палисаднике перед флигельком.
Старуха одна растила внучку. Читала ей книги из старозаветной библиотеки и часто водила в церковь.
Егор Феофилович Друк почти ничего бы не знал о старухином существовании, если бы та не дружила с его матерью - Мангазеихой. Дружба проистекала на церковно-бытовой почве и была непрочна.
Долгими зимними вечерами старуха углублялась в Четьи-Минеи и потом пересказывала содержимое матери Друка.
Обе старухи свято верили в сглаз и по этой причине часто обсуждали знакомых, по очереди зачисляя их в колдуны и колдовки.
- Матушка, вы бы поостерегались с чертовщиной-то валандаться, - вмешивался сын в бормотания матери по адресу очередного кандидата в клиенты нечистой силы. - Вы только здоровье гробите.
- Молчи, Фома Неверующий! - парировала мать сыновьи выпады. - И в кого ты пошел такой башибузук?
Внучка у старухи обещала вырасти куда тебе какой красавицей, если бы не одно “но”: девочка с детства прихрамывала на одну ножку.
- Капитолина Марковна, сглазили, сглазили твою королевну! - вздыхала мать Егора Феофиловича. - Да и весь твой род сглазен.
Старуха сжималась в жалобный комочек и подносила кольца обеих рук к нижней
губе:
- За что же, девонька? Что такого мы людям сделали?
- А и не надо было ничего делать, только сиди и жди, а он, сглаз, тут как тут - шмыг в дверь - и без всякого стука. Так-то подруженька.
Егор Феофилович при таких словах вскакивал со своего любимого места на летней скамеечке перед палисадом и уходил, громко хлопая калиткой.
Это он наружно так протестовал, а в душе проявлял беспокойство и обходил флигелек старухи по другой стороне улицы.
Но те дни остались в прошлом. Старуха, проболев положенный срок, тихо
скончалась, оставив сироту-внучку одну- одинешеньку на всем белом свете.
Странные события начались с похорон старухи. Оно-то, в общем, и не события совсем, но такое не часто случалось на похоронах.
Тогда лил дождь. Копачи торопились и один из них, опуская гроб на длинных рушниках, поскользнулся на мокрой глине и упал в могилу. Толпа ахнула и не знала: смеяться или плакать, когда пьяненького мужичонку извлекли прямо-таки с того света и дали отхлебнуть из початой бутылки.
“Эхе-хе! - сказала тогда еще мать Егора Феофиловича. - Тяжкие грехи наши”.
Событие так бы и осталось рядовым происшествием, если бы вскорости тот самый копач не был бы найден мертвым на том самом кладбище.
И хотя милиция все списала на обыкновенное пьянство, столь часто встречаемое у представителей почтенной профессии могильщиков, народная молва была настроена на иную версию. Сказать по правде, то версий было много, но все они отпали, когда еще три старухиных копача угорели в кладбищенской сторожке глухой осенней ночью.
С тех пор флигелек в глубине сливового сада стал как бы прямым упоминанием о покойнице, с именем которой стали привычно увязывать все напасти,постигавшие обывателей на тропе жизни.
Сдохнет ли выпестованный к праздникам хряк - она, раскрутятся ли сельповские цены - она, зять какой поставит фингал теще - тоже она!
Как-то, перехватив взгляд Егора Феофиловича, засмотревшегося на внучку-калечку, Мангазеиха взбеленилась:
- И он туды же. Где глаза твои, Егорий, слепеньким станешь. Она, бесстыдница, от бабки своей нахваталась и теперь сама кума - народ смущать.
- Ах, бросьте, мама, враки все!
- Не враки! И не враки! - не унималась мать. А чего же у фермера Порфирия кабанчик толстоухий издох?
- Мама, ну отчего эти кабанчики дохнут? Ну, не знаю - может, чумка какая-то приключилась.
- Не знаешь, так и молчи себе в портсигарчик! Поелику гласные и демократные стали, так и других думаете поучать! - мать сорвалась на крик. - Не допущу, чтобы мое родное дите какая-то колдовка смущала!
- Не кричите, мама, - ответствовал Егор Феофилович. - Она ведь сиротина круглая.
Мать выбирала место помягче и падала в обморок. Сын заботливо укрывал ее ряднушкой и шел досматривать бухгалтерские отчеты.
Все случилось внезапно и, конечно же, в лунную ночь... Егор Феофилович, оторвавшись от квартального отчета далеко за полночь, вышел до ветру во дворик.
Стояла та самая весна, когда цветут яблоневые сады и яркие тюльпаны, а воздух почище кокаина щекочет ноздри и кружит голову. Покончив с естественными надобностями, Друк решил поближе вдохнуть запахи первоцвета и продвинулся в глубину сада.
Кисточки сирени, полные росы, не больно били по лицу и так пахли, что на глазах от умиления выступали крупные слезы.
Дойдя до середины сада, Егор Феофилович остановился. Он не понимал, что с ним творится, но ноги сами понесли его к соседнему участку, где среди слив спрятался флигелек покойной старухи.
Окна флигелька были закрыты ставнями. Весь домик притаился в темноте и лишь в одном месте из-под слегка приоткрытой двери выбивалась желтая полоска электрического света.
“А и что это соседка не спит? - подумал Егор Феофилович и посмотрел на светящиеся фосфором стрелки часов. - Третий час ночи. Странно”.
Друк подкрался поближе. Сдвинул отодранную наполовину доску в штакетнике и пролез на чужой огород.
Кое-где уже хорошо подросла редиска и хрумтела сочными листьями под ногами. - “Заругает девчонка, если узнает, что урожай топчу, - застыдился Друк. - Объясняй потом: зачем это дядя лазил среди ночи по хрумтящей редиске”.
Но случившееся дальше отмело редиску на дальний-предальний план.
Как уже было сказано, Егор Феофилович заметил из-под двери полоску света. Так вот - эта полоска вдруг внезапно расширилась и выпустила на волю белое-пребелое колено, которое, разгибаясь, открыло Друку для обзора длинную девичью ногу - точь-в-точь как с нескромных картинок в парикмахерской.
Егор Феофилович перестал дышать, но и это не помогло. Ему казалось, что от ударов его сердца оборвались на землю яблоневые лепестки и залаяли соседские собаки.
Как раз в это время полоска света пропала.
Егор Феофилович растерялся и присел под куст крыжовника. Всякий интерес подсматривать чужую жизнь исчез у него, но то, что произошло минутою позже, было, как бы это выразиться поделикатнее, не совсем обычно.
Женская нога, пропав с электрическим светом, вновь обозначилась в робком сиянии луны. Но что это? На месте аккуратной ступни выросло козлиное копыто, а колготки покрылись шерстью и будто бы пахли керосином или нафталином.
“Матка Бозка Ченстоховска! - почему-то именно так подумал Егор Феофилович, размашисто перекрестив свой крупный бухгалтерский лоб. - Силою честна, животворящего креста, Господи, помилуй и сохрани”.
Но было уже поздно. Из-за двери позвали и у Друка не было сил сопротивляться. Волнение было настолько велико, что ноги теперь отказывались слушаться и словно проросли сквозь редиску. Спина вспыхнула огнем и зачесалась от шеи до поясницы.
- Егорушка! - опять позвали из глубины флигелька. - Иди же ко мне, мой козлик сизобородый”.
Друк машинально ощупал подбородок: никакой бороды там не было, только капельки пота скатывались на ладонь и нехорошо пахли страхом.
- Врешь, убогонькая, не замандрючишь, не защекочешь, - шептал Егор Феофилович непослушными полосками губ. - Брысь, нечистая...
- Егорушка, да чистая, чистая я, - снова донеслось из-за дверей. - Ты хоть один раз, хоть одним глазочком...
Но Друк по опыту общения с ревизорами из треста знал, что стоит только разок потрафить сатане и пиши-пропала вся честная жизнь до того самого момента. Так понравится в поддавки с законным оборотом средств играть и такой тебя бес разберет, что сидеть тому ревизору на том, что растет из пониже спины, до скончания дней твоих и сосать дотоле незапятнанную твою кровушку до самого красного семафора.
- Не возьмешь! - громко произнес Друк и тряхнул остатками шевелюры. - Растудыть тя в коромысло!
Но, по всей видимости, старуха-покойница и на том свете знала свое дело и ловко управляла оттуда действиями внучки. Иначе как степеннейший Егор Феофилович угодил бы в распутное нутро того флигелька?
Что увидел во флигельке Друк и что там потом началось, то никакому описанию не поддается. Можно лишь бледно передать общую картину и конвульсии особы мужского пола, заключенной в объятия страсти. Да надо ли? Таких описаний вы найдете тысячи в ларьках и ларечках, во всяческих шопах и прочих созвучных местах.
Надо только сказать, что затеям внучкиным удержу не было.
При таких забавах можно было лишь грустно вспоминать о неуклюжей супружнице, оставленной Друком на произвол судьбы и общественности в самом начале загадочного действа перестройки под руководством ангажированного южанина-недоучки.
Надо объяснить, что девчонка затеяла какую-то игру с Егором Феофиловичем. Заманивая кавалера по ночам к себе, она каждый раз представала перед ним все в более красивом обличье.
“Оборотень - да и только!” - Вздыхал Егор Феофилович, но от ласк не отказывался. А тут любопытство его одолело: кем негодница окажется следующей ночью?
Так он познал любовь пещерной дикарки, от которой пахло дымом костра, но с которой ничего не надо было делать: она все делала сама. И было бы это еще ничего, если бы ближе к утру дикарка не стала прилаживать нашего Друка на вертел из какой-то твердой породы дерева.
“Самшит или не самшит? - гадал Егор Феофилович, повиснув головой в костер. - Не самшит будто, а огня не боится”. Так и гадал бы он всю ночь и медленно бы поджаривался, если бы не петух, избавивший его от мучительного вопроса по поводу происхождения вертела.
Фараонова дева тоже была хороша и все смеялась. Всего Друка хохотушка обвешала нубийским золотом и даже пыталась продеть в ноздрю толстенную цепь, якобы с шеи самого бога Осириса. От девы пахло окрестностями Нила и сандаловым маслом. Она делала круглые глаза и так по-кошачьи выгибала спину, что на Друка нападала икотка и стартовый мандраж велогонщика.
Перед рассветом деву кто-то крепко запеленал бинтами и чем-то пропитал, вроде скипидара или вермута. Как ни пытался Друк содрать бинты, не вышло. Дева только произносила своим сиреневым ртом: “оу!” да “оу!”. При этом бинты принимали коричневый оттенок и твердели на глазах, чего уже нельзя было сказать о Егоре Феофиловиче. Он пытался обнимать деву и разглядеть в ее глазах остатки любви, но ничего, кроме отражения холодных звезд, он там не видел.- Мумия и только!
Гречанка-тавричанка порхала бабочкой и все кричала: “Орфей! Орфей!”
А какой он, если подумать, Орфей? Да и почему Орфей, если Егор? А? Кто скажет?
Все это было непонятно, но забавно. Гречанка была обучена всем тонким эллинским манерам, но еще тоньше была ткань туники и струйка дыма от курящихся благовоний.
“Умели же эти греки! - восторгался про себя Егор Феофилович. - Каких только тонкостев не навыдумывали: тут тебе поют, тут тебе пляшут, тут тебе вина всякие пьют и речи умные заводят и тут же тебе любовью занимаются. Вот колдуны-то!”
Разгадав мысли Друка, девушка приложила крохотный наманикюренный мизинчик к губам:
- Молчи, герой об этом в божьем храме!
- Почему герой и почему в божьем храме? - спрашивал Друк. Ответа не было.
Гречанка устраивала бега наперегонки и они добегались до того, что у Егора Феофиловича произошло растяжение жил в паховой области и выскочил ячмень на правом глазу. Сроду такого не бывало. И когда механиком на зернотоку работал и когда пожарником служил в клубе бочарного завода-гиганта. Что тут сказать? Когда ячмень на глазу, то уже не до гречанки. А то ничего себе бабенка: попка круглая, груди круглые, живот круглый и глаза сами по себе - круглые, а как засмеется, то и зубы - круглые тоже.
Друк ходил в этот флигелек, как зачарованный, а тем временем отошла редиска на огороде, отцвели тюльпаны. На помидорных кустах появились маленькие помидорчики. Стрелки молодого лука кое-где уже начали желтеть.
Картофель окучили, а колорадских жучков собрали в спичечные коробочки.
Свет в их регионе стали давать веером, а получку - совсем перестали.
“На что живем?” - возмущались поселяне и садились пить чай с йогуртом и салями. Но йогурта и салями становилось все меньше, а тревоги и долгов МВФ - все больше.
В прессе поговаривали о жидо-масонах, а кое-где и просто о масонах. Толстые журналы печатали тоненькие романы. Новаторов писательского производства именовали мудреными словами. За рассказы про наших непутевых хорьков давали премии не в нашей, но путевой валюте...
В столицах и прочих местах находчивые артисты заводили “обжорки” и на третье под сурдинку выдавали сцены из той - покрытой кумачом и густым матом - жизни.
Космонавты становились косметологами - советниками брокеров. Брокеры что-то там советовали президентам и попутно устраивали тараканьи бега кандидатов.
В культуре наметился рай попсы и коверных. Смеялись все. Даже те, кто в юморе ничего ровным счетом не понимал. А один писатель-юморист доюморился даже до того, что спутал цитатник Мао с “Золотым теленком”, вскармливая публику остротами с ладони, как мелкий рогатый скот - овсом.
Егор Феофилович, получив утеху естества ночью, днем добрел и прощал все и всем. Теперь в булочную он входил со светскими манерами. На службе допускал небрежности и ошибки в отчетах. Даже в одежде появились вольности, как то: отсутствовал галстук в горошек, на ногах были разные носки, сюртук деда Арчила был запачкан побелкой и надевался в будние дни.
Во флигельке все шло своим чередом. Гречанку снова сменила египтянка, но покруче и со змеей на груди. Долго мучила Егора Феофиловича загадками про то да про се. На эти загадки Друк ответил, но вот на вопрос “Что сильнее смерти?” он не смог ответить и уже был готов принять смерть, как пропел петушок - золотой гре-е-бе-ешок.
- А вот и отгадка! - вскричал обрадованно Егор Феофилович, но взошло солнце и змея со своей хозяйкой пропали, оставив острый запах мускуса и какого-то колониального напитка - ну чисто самогона, только коричнево подкрашенного.
На третью же ночь Мангазеиха раскумекала, что да к чему, а утром стала выть над вылеживающимся после бессонной ночи сыном, точно над новопреставленным:
- Ну кудай-то ты попал? Ну кудай-то головушка твоя бедная вмангузилась, да чтой-то энта сучка с тобой поделыват? Ай, ай, ай! Пропал свет, пропал человек! Совсем пропал!
- Ах, оставьте, мама! Что вы все в фантазии упадаете?
- Ах, не фантазивы это никакие, сынок! Всё суть, как ни есть - суконная правда!
Егор схватывался и бежал на службу, а старуха стояла на тряском крылечке и фартуком промокала затянутые катарактой и печалью глаза.
- Я гляделки ей повыцарапаю-то! - гремела мать. - Кобылища! Взялась бабкино рукомесло продолжать. Паскуда! Не бывать тому, колдовка!
На крики старой женщины стал собираться народ.
- На выборы што ль зовут? - спросил подслеповатый и глухопердий дед Ковтун.
- Да, не на выборы, деушка. Баушка Мангазеиха - Друкова чегой-то бубнами бьеть, - отвечали деду знающие.
Пока народ собирался, Мангазеиха уже высадила клюкою окошко флигелька. Она орала на всю улицу, пульсируя рубцом от старой внематочной беременности:
- Выходи, падла, всио равно мы тебе глаз на жопу натянем! – Дальше шли и вовсе непечатные слова.
Дело принимало положение, близкое к завороту кишок и злостной неуплате государственных налогов.
Внучка старухи не считала себя патриоткой отчизны, но она вышла на подиум социальной изжоги.
- Кому шумите? - просто спросила она орущую массу. - Почем икру мечете, православныя?
- Да она истчо издевается над корыстью народа! - завопили из толпы. - Бей, славяне, ее покрепше!
Толпа выплеснула к флигельку десятки щупалец и стала хватать за все, что попадалось под суетную и неуемную руку толпы.
Розовая юшка из внучкиной сопатки закапала на воздушную пелерину Анечки Карениной - женщины из несостоявшихся грез Егора Феофиловича.
Пелерина, вынутая из бабушкиного сундука пахла нафталином. Кусочки нафталина искрились на внучкиных плечах, подобно осколкам тибетского льда, и вовсе не собирались таять.
Эти-то кусочки нафталина и пытался подобрать в качестве вещественного доказательства явившийся вдруг участковый уполномоченный милиционэр по фамилии Посудоплясов.
Внучка при этом странно и дико покосилась на стража порядка и, сплевывая кровь на прах жизни, произнесла четко и внятно:
-Не то берешь, кобель драный. Мои чары только расцветают. - При этих словах она мотнула рассеченным лбом в сторону сада, где между старых слив и черешен пунцовело целое маковое поле.
- А и щас мы, едрить твою в сенокосилку! - ругнулся Посудоплясов и сквозь жиденькие жердочки палисадника ринулся в сад-огород, заметавшись волчком по головкам мака. - Едять тя мухи!
Толпа теток смекнула, что сию минуту участковому нужна помощь. Забыв о внучке, толпа ринулась за Посудоплясовым.
Мангазеиха, точно красный командир Кочубей, мчалась впереди этой уличной орды и, орудуя клюкой в качестве шашки, принялась рубить красные головки мака, при этом приговаривая:
- Вот тебе, вот тебе, колдовка такая-сякая. Потаскуха! И тебе башку свернем!
Толпа с участковым во главе так увлеклась маковой экзекуцией, что не заметила исчезновения внучки. Когда пропажа обнаружилась, то девушку стали искать и в домике. Расшвыряли по комнатенкам родовые маскарадные платья. Вытряхнув сундук, рассыпали остатки конфетти.
С разноцветными бумажными кружочками из сундука вывалился конногвардейский кивер с треснувшим козырьком. Никто не обратил внимания на этот кивер. Все искали внучку, которой нигде не было.
Егор Феофилович подоспел, как говорится, к шапочному разбору. К его приходу мак был вытоптан. Внучка пропала. Толпа рассосалась. Почему-то заглянув в колодец, исчез участковый Посудоплясов.
Егор Феофилович зашел во флигелек. Сел на опрокинутый сундук, примерил кивер с треснувшим козырьком. Подошел к старому трюмо. Когда он попытался стереть пыль с зеркала, то оно дзинкнуло и разлетелось на мелкие кусочки.
- Его куды мать! - только и произнес Друк. Ладонь, стиравшая пыль с зеркала, вспотела и дернулась к горячему кадыку, заходившему поршнем внутри глотки.
В ушах у Друка позванивали колокольчики и нарастало комариное пение. А из-за гобеленовых тропических островов на стене слышался внучкин голос, который то переходил в плач, то звал куда-то и можно было разобрать некоторые слова:
“Егорушка, мы с тобою, мы с тобою... лес чар, лес чар... ”
- Какой лес, каких чар? - вопрошал Друк.
- Наших, Егорушка! - звучало в ответ и отдавалось эхом в осиротевшем саду.
Вот такая с Друком в лесу чар приключилась любовь...
В парикмахерской Егор Феофилович тщательно отчитывал мастера за случайный порез и долго тряс парусиновыми штиблетами перед носами любопытных граждан, сбежавшихся на его крики: “Вам бы только клиентов резать!”
На больших семейных торжествах Егор Феофилович обряжался в добротный сюртук деда Арчила, грузина по материнской линии, пил изумрудную чачу, поднося стопки ко рту руками, обтянутыми белыми дамскими перчатками: так ему казалось, что он лично не касается скверны.
По соседству с домиком Егора Феофиловича стоял флигелек давно ушедшей в мир иной старухи Капитолины Марковны Шумовой-Подбельской - родом то ли из купеческого, то ли из другого какого сословия повыше. Так говорили.
Историю старухину почти забыли, но судачили, что много было накручено в жизни у старорежимной бабки.
Ее сына уже после войны подозревали в чем-то антисоветском или разврат какой приписали с моральным разложением. Теперь точно никто не помнил. Но еще были живы те, кто знавал красавца-офицера, от которого сбежала молодая жена с каким-то богатым татарином из города Пензы, оставив на руках у мужа маленькую дочку-ангелочка высокой красоты.
Офицер, как у нас это водится, запил. Получил строгий выговор с занесением в учетную карточку и повесился прямо на сливе, росшей в палисаднике перед флигельком.
Старуха одна растила внучку. Читала ей книги из старозаветной библиотеки и часто водила в церковь.
Егор Феофилович Друк почти ничего бы не знал о старухином существовании, если бы та не дружила с его матерью - Мангазеихой. Дружба проистекала на церковно-бытовой почве и была непрочна.
Долгими зимними вечерами старуха углублялась в Четьи-Минеи и потом пересказывала содержимое матери Друка.
Обе старухи свято верили в сглаз и по этой причине часто обсуждали знакомых, по очереди зачисляя их в колдуны и колдовки.
- Матушка, вы бы поостерегались с чертовщиной-то валандаться, - вмешивался сын в бормотания матери по адресу очередного кандидата в клиенты нечистой силы. - Вы только здоровье гробите.
- Молчи, Фома Неверующий! - парировала мать сыновьи выпады. - И в кого ты пошел такой башибузук?
Внучка у старухи обещала вырасти куда тебе какой красавицей, если бы не одно “но”: девочка с детства прихрамывала на одну ножку.
- Капитолина Марковна, сглазили, сглазили твою королевну! - вздыхала мать Егора Феофиловича. - Да и весь твой род сглазен.
Старуха сжималась в жалобный комочек и подносила кольца обеих рук к нижней
губе:
- За что же, девонька? Что такого мы людям сделали?
- А и не надо было ничего делать, только сиди и жди, а он, сглаз, тут как тут - шмыг в дверь - и без всякого стука. Так-то подруженька.
Егор Феофилович при таких словах вскакивал со своего любимого места на летней скамеечке перед палисадом и уходил, громко хлопая калиткой.
Это он наружно так протестовал, а в душе проявлял беспокойство и обходил флигелек старухи по другой стороне улицы.
Но те дни остались в прошлом. Старуха, проболев положенный срок, тихо
скончалась, оставив сироту-внучку одну- одинешеньку на всем белом свете.
Странные события начались с похорон старухи. Оно-то, в общем, и не события совсем, но такое не часто случалось на похоронах.
Тогда лил дождь. Копачи торопились и один из них, опуская гроб на длинных рушниках, поскользнулся на мокрой глине и упал в могилу. Толпа ахнула и не знала: смеяться или плакать, когда пьяненького мужичонку извлекли прямо-таки с того света и дали отхлебнуть из початой бутылки.
“Эхе-хе! - сказала тогда еще мать Егора Феофиловича. - Тяжкие грехи наши”.
Событие так бы и осталось рядовым происшествием, если бы вскорости тот самый копач не был бы найден мертвым на том самом кладбище.
И хотя милиция все списала на обыкновенное пьянство, столь часто встречаемое у представителей почтенной профессии могильщиков, народная молва была настроена на иную версию. Сказать по правде, то версий было много, но все они отпали, когда еще три старухиных копача угорели в кладбищенской сторожке глухой осенней ночью.
С тех пор флигелек в глубине сливового сада стал как бы прямым упоминанием о покойнице, с именем которой стали привычно увязывать все напасти,постигавшие обывателей на тропе жизни.
Сдохнет ли выпестованный к праздникам хряк - она, раскрутятся ли сельповские цены - она, зять какой поставит фингал теще - тоже она!
Как-то, перехватив взгляд Егора Феофиловича, засмотревшегося на внучку-калечку, Мангазеиха взбеленилась:
- И он туды же. Где глаза твои, Егорий, слепеньким станешь. Она, бесстыдница, от бабки своей нахваталась и теперь сама кума - народ смущать.
- Ах, бросьте, мама, враки все!
- Не враки! И не враки! - не унималась мать. А чего же у фермера Порфирия кабанчик толстоухий издох?
- Мама, ну отчего эти кабанчики дохнут? Ну, не знаю - может, чумка какая-то приключилась.
- Не знаешь, так и молчи себе в портсигарчик! Поелику гласные и демократные стали, так и других думаете поучать! - мать сорвалась на крик. - Не допущу, чтобы мое родное дите какая-то колдовка смущала!
- Не кричите, мама, - ответствовал Егор Феофилович. - Она ведь сиротина круглая.
Мать выбирала место помягче и падала в обморок. Сын заботливо укрывал ее ряднушкой и шел досматривать бухгалтерские отчеты.
Все случилось внезапно и, конечно же, в лунную ночь... Егор Феофилович, оторвавшись от квартального отчета далеко за полночь, вышел до ветру во дворик.
Стояла та самая весна, когда цветут яблоневые сады и яркие тюльпаны, а воздух почище кокаина щекочет ноздри и кружит голову. Покончив с естественными надобностями, Друк решил поближе вдохнуть запахи первоцвета и продвинулся в глубину сада.
Кисточки сирени, полные росы, не больно били по лицу и так пахли, что на глазах от умиления выступали крупные слезы.
Дойдя до середины сада, Егор Феофилович остановился. Он не понимал, что с ним творится, но ноги сами понесли его к соседнему участку, где среди слив спрятался флигелек покойной старухи.
Окна флигелька были закрыты ставнями. Весь домик притаился в темноте и лишь в одном месте из-под слегка приоткрытой двери выбивалась желтая полоска электрического света.
“А и что это соседка не спит? - подумал Егор Феофилович и посмотрел на светящиеся фосфором стрелки часов. - Третий час ночи. Странно”.
Друк подкрался поближе. Сдвинул отодранную наполовину доску в штакетнике и пролез на чужой огород.
Кое-где уже хорошо подросла редиска и хрумтела сочными листьями под ногами. - “Заругает девчонка, если узнает, что урожай топчу, - застыдился Друк. - Объясняй потом: зачем это дядя лазил среди ночи по хрумтящей редиске”.
Но случившееся дальше отмело редиску на дальний-предальний план.
Как уже было сказано, Егор Феофилович заметил из-под двери полоску света. Так вот - эта полоска вдруг внезапно расширилась и выпустила на волю белое-пребелое колено, которое, разгибаясь, открыло Друку для обзора длинную девичью ногу - точь-в-точь как с нескромных картинок в парикмахерской.
Егор Феофилович перестал дышать, но и это не помогло. Ему казалось, что от ударов его сердца оборвались на землю яблоневые лепестки и залаяли соседские собаки.
Как раз в это время полоска света пропала.
Егор Феофилович растерялся и присел под куст крыжовника. Всякий интерес подсматривать чужую жизнь исчез у него, но то, что произошло минутою позже, было, как бы это выразиться поделикатнее, не совсем обычно.
Женская нога, пропав с электрическим светом, вновь обозначилась в робком сиянии луны. Но что это? На месте аккуратной ступни выросло козлиное копыто, а колготки покрылись шерстью и будто бы пахли керосином или нафталином.
“Матка Бозка Ченстоховска! - почему-то именно так подумал Егор Феофилович, размашисто перекрестив свой крупный бухгалтерский лоб. - Силою честна, животворящего креста, Господи, помилуй и сохрани”.
Но было уже поздно. Из-за двери позвали и у Друка не было сил сопротивляться. Волнение было настолько велико, что ноги теперь отказывались слушаться и словно проросли сквозь редиску. Спина вспыхнула огнем и зачесалась от шеи до поясницы.
- Егорушка! - опять позвали из глубины флигелька. - Иди же ко мне, мой козлик сизобородый”.
Друк машинально ощупал подбородок: никакой бороды там не было, только капельки пота скатывались на ладонь и нехорошо пахли страхом.
- Врешь, убогонькая, не замандрючишь, не защекочешь, - шептал Егор Феофилович непослушными полосками губ. - Брысь, нечистая...
- Егорушка, да чистая, чистая я, - снова донеслось из-за дверей. - Ты хоть один раз, хоть одним глазочком...
Но Друк по опыту общения с ревизорами из треста знал, что стоит только разок потрафить сатане и пиши-пропала вся честная жизнь до того самого момента. Так понравится в поддавки с законным оборотом средств играть и такой тебя бес разберет, что сидеть тому ревизору на том, что растет из пониже спины, до скончания дней твоих и сосать дотоле незапятнанную твою кровушку до самого красного семафора.
- Не возьмешь! - громко произнес Друк и тряхнул остатками шевелюры. - Растудыть тя в коромысло!
Но, по всей видимости, старуха-покойница и на том свете знала свое дело и ловко управляла оттуда действиями внучки. Иначе как степеннейший Егор Феофилович угодил бы в распутное нутро того флигелька?
Что увидел во флигельке Друк и что там потом началось, то никакому описанию не поддается. Можно лишь бледно передать общую картину и конвульсии особы мужского пола, заключенной в объятия страсти. Да надо ли? Таких описаний вы найдете тысячи в ларьках и ларечках, во всяческих шопах и прочих созвучных местах.
Надо только сказать, что затеям внучкиным удержу не было.
При таких забавах можно было лишь грустно вспоминать о неуклюжей супружнице, оставленной Друком на произвол судьбы и общественности в самом начале загадочного действа перестройки под руководством ангажированного южанина-недоучки.
Надо объяснить, что девчонка затеяла какую-то игру с Егором Феофиловичем. Заманивая кавалера по ночам к себе, она каждый раз представала перед ним все в более красивом обличье.
“Оборотень - да и только!” - Вздыхал Егор Феофилович, но от ласк не отказывался. А тут любопытство его одолело: кем негодница окажется следующей ночью?
Так он познал любовь пещерной дикарки, от которой пахло дымом костра, но с которой ничего не надо было делать: она все делала сама. И было бы это еще ничего, если бы ближе к утру дикарка не стала прилаживать нашего Друка на вертел из какой-то твердой породы дерева.
“Самшит или не самшит? - гадал Егор Феофилович, повиснув головой в костер. - Не самшит будто, а огня не боится”. Так и гадал бы он всю ночь и медленно бы поджаривался, если бы не петух, избавивший его от мучительного вопроса по поводу происхождения вертела.
Фараонова дева тоже была хороша и все смеялась. Всего Друка хохотушка обвешала нубийским золотом и даже пыталась продеть в ноздрю толстенную цепь, якобы с шеи самого бога Осириса. От девы пахло окрестностями Нила и сандаловым маслом. Она делала круглые глаза и так по-кошачьи выгибала спину, что на Друка нападала икотка и стартовый мандраж велогонщика.
Перед рассветом деву кто-то крепко запеленал бинтами и чем-то пропитал, вроде скипидара или вермута. Как ни пытался Друк содрать бинты, не вышло. Дева только произносила своим сиреневым ртом: “оу!” да “оу!”. При этом бинты принимали коричневый оттенок и твердели на глазах, чего уже нельзя было сказать о Егоре Феофиловиче. Он пытался обнимать деву и разглядеть в ее глазах остатки любви, но ничего, кроме отражения холодных звезд, он там не видел.- Мумия и только!
Гречанка-тавричанка порхала бабочкой и все кричала: “Орфей! Орфей!”
А какой он, если подумать, Орфей? Да и почему Орфей, если Егор? А? Кто скажет?
Все это было непонятно, но забавно. Гречанка была обучена всем тонким эллинским манерам, но еще тоньше была ткань туники и струйка дыма от курящихся благовоний.
“Умели же эти греки! - восторгался про себя Егор Феофилович. - Каких только тонкостев не навыдумывали: тут тебе поют, тут тебе пляшут, тут тебе вина всякие пьют и речи умные заводят и тут же тебе любовью занимаются. Вот колдуны-то!”
Разгадав мысли Друка, девушка приложила крохотный наманикюренный мизинчик к губам:
- Молчи, герой об этом в божьем храме!
- Почему герой и почему в божьем храме? - спрашивал Друк. Ответа не было.
Гречанка устраивала бега наперегонки и они добегались до того, что у Егора Феофиловича произошло растяжение жил в паховой области и выскочил ячмень на правом глазу. Сроду такого не бывало. И когда механиком на зернотоку работал и когда пожарником служил в клубе бочарного завода-гиганта. Что тут сказать? Когда ячмень на глазу, то уже не до гречанки. А то ничего себе бабенка: попка круглая, груди круглые, живот круглый и глаза сами по себе - круглые, а как засмеется, то и зубы - круглые тоже.
Друк ходил в этот флигелек, как зачарованный, а тем временем отошла редиска на огороде, отцвели тюльпаны. На помидорных кустах появились маленькие помидорчики. Стрелки молодого лука кое-где уже начали желтеть.
Картофель окучили, а колорадских жучков собрали в спичечные коробочки.
Свет в их регионе стали давать веером, а получку - совсем перестали.
“На что живем?” - возмущались поселяне и садились пить чай с йогуртом и салями. Но йогурта и салями становилось все меньше, а тревоги и долгов МВФ - все больше.
В прессе поговаривали о жидо-масонах, а кое-где и просто о масонах. Толстые журналы печатали тоненькие романы. Новаторов писательского производства именовали мудреными словами. За рассказы про наших непутевых хорьков давали премии не в нашей, но путевой валюте...
В столицах и прочих местах находчивые артисты заводили “обжорки” и на третье под сурдинку выдавали сцены из той - покрытой кумачом и густым матом - жизни.
Космонавты становились косметологами - советниками брокеров. Брокеры что-то там советовали президентам и попутно устраивали тараканьи бега кандидатов.
В культуре наметился рай попсы и коверных. Смеялись все. Даже те, кто в юморе ничего ровным счетом не понимал. А один писатель-юморист доюморился даже до того, что спутал цитатник Мао с “Золотым теленком”, вскармливая публику остротами с ладони, как мелкий рогатый скот - овсом.
Егор Феофилович, получив утеху естества ночью, днем добрел и прощал все и всем. Теперь в булочную он входил со светскими манерами. На службе допускал небрежности и ошибки в отчетах. Даже в одежде появились вольности, как то: отсутствовал галстук в горошек, на ногах были разные носки, сюртук деда Арчила был запачкан побелкой и надевался в будние дни.
Во флигельке все шло своим чередом. Гречанку снова сменила египтянка, но покруче и со змеей на груди. Долго мучила Егора Феофиловича загадками про то да про се. На эти загадки Друк ответил, но вот на вопрос “Что сильнее смерти?” он не смог ответить и уже был готов принять смерть, как пропел петушок - золотой гре-е-бе-ешок.
- А вот и отгадка! - вскричал обрадованно Егор Феофилович, но взошло солнце и змея со своей хозяйкой пропали, оставив острый запах мускуса и какого-то колониального напитка - ну чисто самогона, только коричнево подкрашенного.
На третью же ночь Мангазеиха раскумекала, что да к чему, а утром стала выть над вылеживающимся после бессонной ночи сыном, точно над новопреставленным:
- Ну кудай-то ты попал? Ну кудай-то головушка твоя бедная вмангузилась, да чтой-то энта сучка с тобой поделыват? Ай, ай, ай! Пропал свет, пропал человек! Совсем пропал!
- Ах, оставьте, мама! Что вы все в фантазии упадаете?
- Ах, не фантазивы это никакие, сынок! Всё суть, как ни есть - суконная правда!
Егор схватывался и бежал на службу, а старуха стояла на тряском крылечке и фартуком промокала затянутые катарактой и печалью глаза.
- Я гляделки ей повыцарапаю-то! - гремела мать. - Кобылища! Взялась бабкино рукомесло продолжать. Паскуда! Не бывать тому, колдовка!
На крики старой женщины стал собираться народ.
- На выборы што ль зовут? - спросил подслеповатый и глухопердий дед Ковтун.
- Да, не на выборы, деушка. Баушка Мангазеиха - Друкова чегой-то бубнами бьеть, - отвечали деду знающие.
Пока народ собирался, Мангазеиха уже высадила клюкою окошко флигелька. Она орала на всю улицу, пульсируя рубцом от старой внематочной беременности:
- Выходи, падла, всио равно мы тебе глаз на жопу натянем! – Дальше шли и вовсе непечатные слова.
Дело принимало положение, близкое к завороту кишок и злостной неуплате государственных налогов.
Внучка старухи не считала себя патриоткой отчизны, но она вышла на подиум социальной изжоги.
- Кому шумите? - просто спросила она орущую массу. - Почем икру мечете, православныя?
- Да она истчо издевается над корыстью народа! - завопили из толпы. - Бей, славяне, ее покрепше!
Толпа выплеснула к флигельку десятки щупалец и стала хватать за все, что попадалось под суетную и неуемную руку толпы.
Розовая юшка из внучкиной сопатки закапала на воздушную пелерину Анечки Карениной - женщины из несостоявшихся грез Егора Феофиловича.
Пелерина, вынутая из бабушкиного сундука пахла нафталином. Кусочки нафталина искрились на внучкиных плечах, подобно осколкам тибетского льда, и вовсе не собирались таять.
Эти-то кусочки нафталина и пытался подобрать в качестве вещественного доказательства явившийся вдруг участковый уполномоченный милиционэр по фамилии Посудоплясов.
Внучка при этом странно и дико покосилась на стража порядка и, сплевывая кровь на прах жизни, произнесла четко и внятно:
-Не то берешь, кобель драный. Мои чары только расцветают. - При этих словах она мотнула рассеченным лбом в сторону сада, где между старых слив и черешен пунцовело целое маковое поле.
- А и щас мы, едрить твою в сенокосилку! - ругнулся Посудоплясов и сквозь жиденькие жердочки палисадника ринулся в сад-огород, заметавшись волчком по головкам мака. - Едять тя мухи!
Толпа теток смекнула, что сию минуту участковому нужна помощь. Забыв о внучке, толпа ринулась за Посудоплясовым.
Мангазеиха, точно красный командир Кочубей, мчалась впереди этой уличной орды и, орудуя клюкой в качестве шашки, принялась рубить красные головки мака, при этом приговаривая:
- Вот тебе, вот тебе, колдовка такая-сякая. Потаскуха! И тебе башку свернем!
Толпа с участковым во главе так увлеклась маковой экзекуцией, что не заметила исчезновения внучки. Когда пропажа обнаружилась, то девушку стали искать и в домике. Расшвыряли по комнатенкам родовые маскарадные платья. Вытряхнув сундук, рассыпали остатки конфетти.
С разноцветными бумажными кружочками из сундука вывалился конногвардейский кивер с треснувшим козырьком. Никто не обратил внимания на этот кивер. Все искали внучку, которой нигде не было.
Егор Феофилович подоспел, как говорится, к шапочному разбору. К его приходу мак был вытоптан. Внучка пропала. Толпа рассосалась. Почему-то заглянув в колодец, исчез участковый Посудоплясов.
Егор Феофилович зашел во флигелек. Сел на опрокинутый сундук, примерил кивер с треснувшим козырьком. Подошел к старому трюмо. Когда он попытался стереть пыль с зеркала, то оно дзинкнуло и разлетелось на мелкие кусочки.
- Его куды мать! - только и произнес Друк. Ладонь, стиравшая пыль с зеркала, вспотела и дернулась к горячему кадыку, заходившему поршнем внутри глотки.
В ушах у Друка позванивали колокольчики и нарастало комариное пение. А из-за гобеленовых тропических островов на стене слышался внучкин голос, который то переходил в плач, то звал куда-то и можно было разобрать некоторые слова:
“Егорушка, мы с тобою, мы с тобою... лес чар, лес чар... ”
- Какой лес, каких чар? - вопрошал Друк.
- Наших, Егорушка! - звучало в ответ и отдавалось эхом в осиротевшем саду.
Вот такая с Друком в лесу чар приключилась любовь...
Метки: