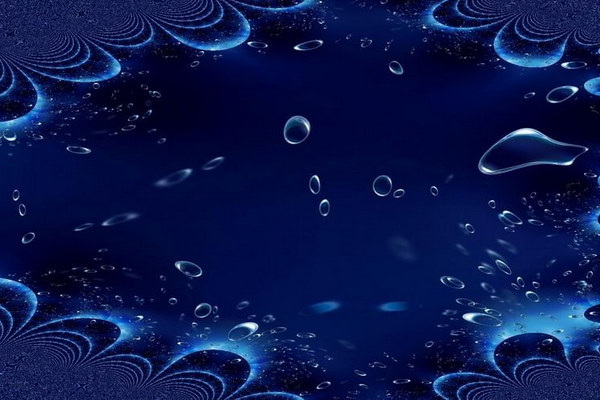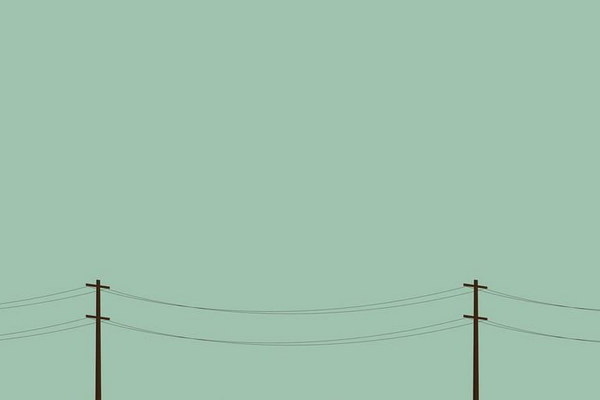Юзеф Чехович. Повесть о бумажной короне. Пролог
ПОВЕСТЬ О БУМАЖНОЙ КОРОНЕ
ПРОЛОГ
Творящая ли, губящая волна души человеческой изменчива– пёстрые весенние месяцы минуют хороводом солнечных дней.
Июль– зенит лета.
Заря встаёт из туманов, и в тихом покое светлеет серая мгла. Ночной диспут продолжается. Стоя у окна, Хэнрык говорит и смотрит на расцветшие маковые клумбы, говорит словно встающей заре, городам– людям, внемлющим ему.
...Вы полагаете, что есть рок. Верите вы в пугало всею верою глубоко убеждённых душ. А я вот не учён верить в то, что слепо. Иначе бы слишком походил на тех, чья наивысшая трагедия– вина и кара. Прибышевски верил в рок, поскольку верил в последствия вины: полагал, что наказание есть, а преступления нет. Однако, верил он и в вину, но обелял её и болезненно жаловался на несоразмерность её с местью.
Мы сами творим и вину, и кару.
Если даже ранит нас сие без гармонии аритмическое, невольное творчество, это нагромождение кары, приходится взвалить её на свою спину– не рока. Мы творим вину и кару. И безжалостность этой пары гнездится в нас самих.
И тут-то занепокоился в углу утонувший было в мехах и подушках священник Кляр.
— О мастер, — изрёк он, —люблю я до безумия душу твою, а слова –отнюдь: иные они чем ты. Вечерами, когда луна восходит над холмами, ужель невдомёк тебе, что жив Бог? Необходимость в нас самих, говоришь ты, но почему не извне– от Него?
В виду троих друзей Хэнрык едва улыбнулся. Те молча взглянули не него. Всю ночь они провели в беседе, а он смотрелся в звёзды, пока те не поблёкли– и взял слово.
— Как можешь ты говорить о внешнем, когда к нам ничто не приходит извне? Отторгнутые от мира, одинокие души живут собой в себе. Жизнь болотной души пасмурна. Порой– безоблачна, солнечна, бывает и напротив– титанически бурной. Встречаются души, попеременно упивающиеся дионисийским буством и аполлонически невозмутимой красотой. Все мы одиноки что ныряльшики на дне морском. А ты говоришь о веяниях извне. Мы глухи и слепы...
Всегда скептически трактовавший Хэнрыка Постум Порко глубоко задумался. Наморщенный лоб выдавал труд грузной, неожиданно логической мысли, которая математически точно или же вероятностно оценивала психические возможности: Постум критиковал.
Зато рядом с ним, в голубых огромных глазах Зыгмунта блуждала себе печаль, свидетельствующая правду. Зыгмунт именно был вечно одинок, наедине с меланхолической красотой жизни своей. Дитя полей на брусчатке мостовых.
Снова донёсся Хэнрыков голос, теряющийся в маковом духе, плывущей из сада вместе с утренней влагой:
— Солнце?
Его пока нет. Лишь проблеск сияния зарницы, чуть зарумянившейся в чистом небе.
...Сколь дивна красота чуткого сна под яблонями, усеянными плодами. Блаженны безволие и бездействие, не влекущие череду последствий. Ужель не правда, не правда ли, дорогие?
Но как быть ревнителем покоя тому, в ком бурный вихрь кружит с зари до зари? Безумные мои шаги ищут покоя,– знаю наверняка,– но следуют странами, посредством коих исчезает цель странствия. Ныне иду я краем грешной любви.
Будь играем болящей душою, грех должен быть велик. Он должен быть зрелищем с хорами, подобным греческой трагедии. А мой грех странен– нетрагедийно мал, он только что сладок и страшен.
И вы скажете снова, что вина– роскошь, а чувство греха– возмездие. Нет, нет, о чистые юные душонки. Ты, Кляр, ежедневно речёшь о грехе urbi et orbi, да не ведаешь его сущности. Также ты, Зыгмунт. А Постум запанибрата с непристойностью, да греха и наслаждения не знает...
Последний сорвался с места и откликнулся ущербным криком:
—... Я чист, чист! Верь мне. Искусство и Мысль всегда со мной. То, о чём думаешь ты, мыслишь ты– мой этап в дороге Поиска Жизни... Нет вины!..
Хэнрык всмотрелся в него глазами, притуманенными терзающей его мыслью:
— Ты лжёшь...
Ты есть тот, кто было сподобился на подлости. Ты оторвал Марысю Далеку от Короля, чтобы себе её бросить под ноги– и она осталась одинокой с тоской в девичьем сердце. Ты похотью осалил наш круг четырёх. Ты трезвонил миру и швырял на посмешище любовь Ахилла и Патрокла... Интриган!
В виду Хэнрыка Постум стушевался и вслед минутного размышления, глядя на дрожащие гневом губы визави, процедил:
—... Не суди других, актёр тра-гиче-ский...
И вышел вон.
А Хэнрык обратился к священнику:
— Мы подискутировали о вине и каре. Затем увидели покаяние. Он вернётся, ибо сердце в нём живо, хоть душа трачена тленом...
Юзеф Чехович
перевод с польского Терджимана Кырымлы
ПРОЛОГ
Творящая ли, губящая волна души человеческой изменчива– пёстрые весенние месяцы минуют хороводом солнечных дней.
Июль– зенит лета.
Заря встаёт из туманов, и в тихом покое светлеет серая мгла. Ночной диспут продолжается. Стоя у окна, Хэнрык говорит и смотрит на расцветшие маковые клумбы, говорит словно встающей заре, городам– людям, внемлющим ему.
...Вы полагаете, что есть рок. Верите вы в пугало всею верою глубоко убеждённых душ. А я вот не учён верить в то, что слепо. Иначе бы слишком походил на тех, чья наивысшая трагедия– вина и кара. Прибышевски верил в рок, поскольку верил в последствия вины: полагал, что наказание есть, а преступления нет. Однако, верил он и в вину, но обелял её и болезненно жаловался на несоразмерность её с местью.
Мы сами творим и вину, и кару.
Если даже ранит нас сие без гармонии аритмическое, невольное творчество, это нагромождение кары, приходится взвалить её на свою спину– не рока. Мы творим вину и кару. И безжалостность этой пары гнездится в нас самих.
И тут-то занепокоился в углу утонувший было в мехах и подушках священник Кляр.
— О мастер, — изрёк он, —люблю я до безумия душу твою, а слова –отнюдь: иные они чем ты. Вечерами, когда луна восходит над холмами, ужель невдомёк тебе, что жив Бог? Необходимость в нас самих, говоришь ты, но почему не извне– от Него?
В виду троих друзей Хэнрык едва улыбнулся. Те молча взглянули не него. Всю ночь они провели в беседе, а он смотрелся в звёзды, пока те не поблёкли– и взял слово.
— Как можешь ты говорить о внешнем, когда к нам ничто не приходит извне? Отторгнутые от мира, одинокие души живут собой в себе. Жизнь болотной души пасмурна. Порой– безоблачна, солнечна, бывает и напротив– титанически бурной. Встречаются души, попеременно упивающиеся дионисийским буством и аполлонически невозмутимой красотой. Все мы одиноки что ныряльшики на дне морском. А ты говоришь о веяниях извне. Мы глухи и слепы...
Всегда скептически трактовавший Хэнрыка Постум Порко глубоко задумался. Наморщенный лоб выдавал труд грузной, неожиданно логической мысли, которая математически точно или же вероятностно оценивала психические возможности: Постум критиковал.
Зато рядом с ним, в голубых огромных глазах Зыгмунта блуждала себе печаль, свидетельствующая правду. Зыгмунт именно был вечно одинок, наедине с меланхолической красотой жизни своей. Дитя полей на брусчатке мостовых.
Снова донёсся Хэнрыков голос, теряющийся в маковом духе, плывущей из сада вместе с утренней влагой:
— Солнце?
Его пока нет. Лишь проблеск сияния зарницы, чуть зарумянившейся в чистом небе.
...Сколь дивна красота чуткого сна под яблонями, усеянными плодами. Блаженны безволие и бездействие, не влекущие череду последствий. Ужель не правда, не правда ли, дорогие?
Но как быть ревнителем покоя тому, в ком бурный вихрь кружит с зари до зари? Безумные мои шаги ищут покоя,– знаю наверняка,– но следуют странами, посредством коих исчезает цель странствия. Ныне иду я краем грешной любви.
Будь играем болящей душою, грех должен быть велик. Он должен быть зрелищем с хорами, подобным греческой трагедии. А мой грех странен– нетрагедийно мал, он только что сладок и страшен.
И вы скажете снова, что вина– роскошь, а чувство греха– возмездие. Нет, нет, о чистые юные душонки. Ты, Кляр, ежедневно речёшь о грехе urbi et orbi, да не ведаешь его сущности. Также ты, Зыгмунт. А Постум запанибрата с непристойностью, да греха и наслаждения не знает...
Последний сорвался с места и откликнулся ущербным криком:
—... Я чист, чист! Верь мне. Искусство и Мысль всегда со мной. То, о чём думаешь ты, мыслишь ты– мой этап в дороге Поиска Жизни... Нет вины!..
Хэнрык всмотрелся в него глазами, притуманенными терзающей его мыслью:
— Ты лжёшь...
Ты есть тот, кто было сподобился на подлости. Ты оторвал Марысю Далеку от Короля, чтобы себе её бросить под ноги– и она осталась одинокой с тоской в девичьем сердце. Ты похотью осалил наш круг четырёх. Ты трезвонил миру и швырял на посмешище любовь Ахилла и Патрокла... Интриган!
В виду Хэнрыка Постум стушевался и вслед минутного размышления, глядя на дрожащие гневом губы визави, процедил:
—... Не суди других, актёр тра-гиче-ский...
И вышел вон.
А Хэнрык обратился к священнику:
— Мы подискутировали о вине и каре. Затем увидели покаяние. Он вернётся, ибо сердце в нём живо, хоть душа трачена тленом...
Юзеф Чехович
перевод с польского Терджимана Кырымлы
Метки: