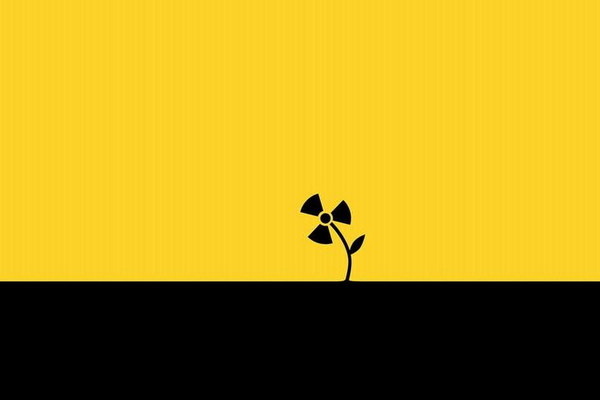Обезьяна Ходасевича
Стихотворение которое давно я мечтаю прокомментировать — это ?Обезьяна? Ходасевича.
Стихотворение, по нашим временам кажется скучноватым и затянутым.
И, честно говоря, если б не имя славное имя Ходасевича, я бы с трудом дочитал его до конца. Несмотря на предельную ясность и лаконичность слога, оно, особенно по нынешним временам, кажется немного затянутым.
Слишком долгое описание незнакомой мне жизни.
Но, с одной стороны, как объясняли мне мои учителя — тех, кто не умеет читать длинные стихи — тех надо гнать из поэтического цеха.
На что я, естественно, мог бы легко возразить, мол, по словам Эдгара По — длинного стихотворения не существует в природе.
Длинное стихотворение — это как бы оксюморон, или как это там называется по-научному, сочетание противоположностей, как ?горячий лёд?.
Его просто не может быть.
Стихотворение — одномоментно, а описательностью грешат лишь начинающие авторы.
И, что касается этого стихотворения, я вижу здесь лишь безукоризненно выверенную русскую речь, которой несколько даже мешают может быть невольные ?поэтические ухищрения?.
?Жевала жадно. Кожаный ошейник,
Оттянутый назад тяжёлой цепью?
— кажется здесь наблюдается избыток ?ж? и родственной ей ?ш?, но, тем не менее, изложить суть картины короче, здесь вряд ли бы получилось:
ОБЕЗЬЯНА
Была жара. Леса горели. Нудно
Тянулось время. На соседней даче
Кричал петух. Я вышел за калитку.
Там, прислонясь к забору, на скамейке
Дремал бродячий серб, худой и черный.
Серебряный тяжелый крест висел
На груди полуголой. Капли пота
По ней катились. Выше, на заборе,
Сидела обезьяна в красной юбке
И пыльные листы сирени
Жевала жадно. Кожаный ошейник,
Оттянутый назад тяжелой цепью,
Давил ей горло. Серб, меня заслышав,
Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я
Воды ему. Но, чуть ее пригубив —
Не холодна ли, — блюдце на скамейку
Поставил он, и тотчас обезьяна,
Макая пальцы в воду, ухватила
Двумя руками блюдце.
Она пила, на четвереньках стоя,
Локтями опираясь на скамью.
Досок почти касался подбородок,
Над теменем лысеющим спина
Высоко выгибалась. Так, должно быть,
Стоял когда-то Дарий, припадая
К дорожной луже, в день, когда бежал он
Пред мощною фалангой Александра.
Всю воду выпив, обезьяна блюдце
Долой смахнула со скамьи, привстала
И - этот миг забуду ли когда? -
Мне чёрную, мозолистую руку,
Ещё прохладную от влаги, протянула...
Я руки жал красавицам, поэтам,
Вождям народа - ни одна рука
Такого благородства очертаний
Не заключала! Ни одна рука
Моей руки так братски не коснулась!
И, видит Бог, никто в мои глаза
Не заглянул так мудро и глубоко,
Воистину - до дна души моей.
Глубокой древности сладчайшие преданья
Тот нищий зверь мне в сердце оживил,
И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось - хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные, незапамятные дни.
И серб ушел, постукивая в бубен.
Присев ему на левое плечо,
Покачивалась мерно обезьяна,
Как на слоне индийский магараджа.
Огромное малиновое солнце,
Лишённое лучей,
В опаловом дыму висело. Изливался
Безгромный зной на чахлую пшеницу.
В тот день была объявлена война.
Так вот.
Однажды, давным-давно, я прочитал в интернете некий текст.
В тексте была фраза — ?Ходасевич, с его гениальным стихотворением ?Обезьяна?.
Удивительным было то, что эта фраза не имела никакого отношения к основной теме повествования, было очевидно, что автор вставил её, эту фразу, как-то уж очень искусственно.
Из неё ничего не вытекало, да и не втекло в неё тоже ничего.
И вот, когда я прочитал в интернете этот текст, который, кстати говоря, совершенно не помню, то подумал — вот ведь как — оказывается, существует ещё некто, пусть и в единственном числе, кто тоже, пусть и по своему, но понимает вот такие вот странные вещи!
Вообще условно говоря, поэтов, по складу мышления можно разделить на три типа.
Он, поэт, или музыкант, и играет созвучиями слов, или он художник, и способен выдать необыкновенно яркую и неожиданную картинку, тем же самым единственно что простым подбором слов, может быть при этом греша против ритма, и, может быть даже и смысла, и третий тип — логики, или мыслители, они обычно склонятся к афористичности.
Или, если не к афористичности, в широком, разумеется смысле слова, это может быть и остроумная кода к сонету, или просто остроумное логическое четверостишие.
Это немного похоже на разделение у математиков, одни — алгебраисты — думают напрямую формулами, а вторые — геометры, используют визуальные представления, в виде графиков.
Ходасевич — ярко выраженный ?логик? он несколько ?суховат? но не важно.
Важно то, что последняя великая поэзия, почившая вместе с Александром Блоком, ещё жива здесь!
Если сравнить стихотворение с небольшим оркестром, то мы видим здесь сдержанно и может быть даже подчёркнуто бесстрастно, как группа людей занятых каким-то своим делом, и не обращающих ни малейшего внимания на окружающих их людей играет одним им понятную странную мелодию.
Но вдруг, этот самый обыкновеннейший состав оркестра, состоящий из труб, валторн, кларнета, тарелок, литавр, и прочего состава оркестра, вдруг он куда-то исчезает, растворяется в воздухе, и начинают свою игру уже ангельские трубы:
Я руки жал красавицам, поэтам,
Вождям народа - ни одна рука
Такого благородства очертаний
Не заключала! Ни одна рука
Моей руки так братски не коснулась!
И, видит Бог, никто в мои глаза
Не заглянул так мудро и глубоко,
Воистину - до дна души моей.
Глубокой древности сладчайшие преданья
Тот нищий зверь мне в сердце оживил,
И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось - хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной…
Чудесное превращение!
И затем ангельские трубы вдруг исчезают туда откуда они и явились — в никуда, и мы снова, с изумлением наблюдаем самый заурядный оркестр, наигрывающий странную, но мощную, какой-то непонятной мощью мелодию:
И серб ушел, постукивая в бубен.
Присев ему на левое плечо,
Покачивалась мерно обезьяна,
Как на слоне индийский магараджа.
Огромное малиновое солнце,
Лишённое лучей,
В опаловом дыму висело. Изливался
Безгромный зной на чахлую пшеницу.
В тот день была объявлена война.
…И последнее что хотел сказать по этому поводу.
Это даже странно, но это последняя строчка.
Она настолько здесь лишняя, что даже вызывает некоторое раздражение.
Хорошо.
Пусть в этот день действительно была объявлена война.
Но зачем??
Она ведь ломает всё стихотворение.
Это как-бы реверанс в сторону дурака.
А перед дураком не нужно извиняться, вернее, извиниться никогда не помешает, но просто это бесполезно.
Мене кажется, что человек, мало смыслящей в стихах, с недоумением дочитает, может быть до последней строчки, и на ней удовлетворённо крякнет:
— А! вот оказывается в чём здесь дело!
— Вот в чём здесь авторский замысел!
— Если продолжать сравнение, здесь сначала человеческий оркестр волшебным образом подменяется ангельским, затем снова становится человеческим, играющим свою загадочную мелодию, а в последней строчке оркестр вдруг пускает оглушительного петуха!
— Зачем?
— Этого требует форма?
— Нет, не требует!
— А тогда зачем?
— Зачем тогда пускать петуха?
— Чтобы маститый литературный критик одобрительно крякнул в ответ?
Стихотворение, по нашим временам кажется скучноватым и затянутым.
И, честно говоря, если б не имя славное имя Ходасевича, я бы с трудом дочитал его до конца. Несмотря на предельную ясность и лаконичность слога, оно, особенно по нынешним временам, кажется немного затянутым.
Слишком долгое описание незнакомой мне жизни.
Но, с одной стороны, как объясняли мне мои учителя — тех, кто не умеет читать длинные стихи — тех надо гнать из поэтического цеха.
На что я, естественно, мог бы легко возразить, мол, по словам Эдгара По — длинного стихотворения не существует в природе.
Длинное стихотворение — это как бы оксюморон, или как это там называется по-научному, сочетание противоположностей, как ?горячий лёд?.
Его просто не может быть.
Стихотворение — одномоментно, а описательностью грешат лишь начинающие авторы.
И, что касается этого стихотворения, я вижу здесь лишь безукоризненно выверенную русскую речь, которой несколько даже мешают может быть невольные ?поэтические ухищрения?.
?Жевала жадно. Кожаный ошейник,
Оттянутый назад тяжёлой цепью?
— кажется здесь наблюдается избыток ?ж? и родственной ей ?ш?, но, тем не менее, изложить суть картины короче, здесь вряд ли бы получилось:
ОБЕЗЬЯНА
Была жара. Леса горели. Нудно
Тянулось время. На соседней даче
Кричал петух. Я вышел за калитку.
Там, прислонясь к забору, на скамейке
Дремал бродячий серб, худой и черный.
Серебряный тяжелый крест висел
На груди полуголой. Капли пота
По ней катились. Выше, на заборе,
Сидела обезьяна в красной юбке
И пыльные листы сирени
Жевала жадно. Кожаный ошейник,
Оттянутый назад тяжелой цепью,
Давил ей горло. Серб, меня заслышав,
Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я
Воды ему. Но, чуть ее пригубив —
Не холодна ли, — блюдце на скамейку
Поставил он, и тотчас обезьяна,
Макая пальцы в воду, ухватила
Двумя руками блюдце.
Она пила, на четвереньках стоя,
Локтями опираясь на скамью.
Досок почти касался подбородок,
Над теменем лысеющим спина
Высоко выгибалась. Так, должно быть,
Стоял когда-то Дарий, припадая
К дорожной луже, в день, когда бежал он
Пред мощною фалангой Александра.
Всю воду выпив, обезьяна блюдце
Долой смахнула со скамьи, привстала
И - этот миг забуду ли когда? -
Мне чёрную, мозолистую руку,
Ещё прохладную от влаги, протянула...
Я руки жал красавицам, поэтам,
Вождям народа - ни одна рука
Такого благородства очертаний
Не заключала! Ни одна рука
Моей руки так братски не коснулась!
И, видит Бог, никто в мои глаза
Не заглянул так мудро и глубоко,
Воистину - до дна души моей.
Глубокой древности сладчайшие преданья
Тот нищий зверь мне в сердце оживил,
И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось - хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные, незапамятные дни.
И серб ушел, постукивая в бубен.
Присев ему на левое плечо,
Покачивалась мерно обезьяна,
Как на слоне индийский магараджа.
Огромное малиновое солнце,
Лишённое лучей,
В опаловом дыму висело. Изливался
Безгромный зной на чахлую пшеницу.
В тот день была объявлена война.
Так вот.
Однажды, давным-давно, я прочитал в интернете некий текст.
В тексте была фраза — ?Ходасевич, с его гениальным стихотворением ?Обезьяна?.
Удивительным было то, что эта фраза не имела никакого отношения к основной теме повествования, было очевидно, что автор вставил её, эту фразу, как-то уж очень искусственно.
Из неё ничего не вытекало, да и не втекло в неё тоже ничего.
И вот, когда я прочитал в интернете этот текст, который, кстати говоря, совершенно не помню, то подумал — вот ведь как — оказывается, существует ещё некто, пусть и в единственном числе, кто тоже, пусть и по своему, но понимает вот такие вот странные вещи!
Вообще условно говоря, поэтов, по складу мышления можно разделить на три типа.
Он, поэт, или музыкант, и играет созвучиями слов, или он художник, и способен выдать необыкновенно яркую и неожиданную картинку, тем же самым единственно что простым подбором слов, может быть при этом греша против ритма, и, может быть даже и смысла, и третий тип — логики, или мыслители, они обычно склонятся к афористичности.
Или, если не к афористичности, в широком, разумеется смысле слова, это может быть и остроумная кода к сонету, или просто остроумное логическое четверостишие.
Это немного похоже на разделение у математиков, одни — алгебраисты — думают напрямую формулами, а вторые — геометры, используют визуальные представления, в виде графиков.
Ходасевич — ярко выраженный ?логик? он несколько ?суховат? но не важно.
Важно то, что последняя великая поэзия, почившая вместе с Александром Блоком, ещё жива здесь!
Если сравнить стихотворение с небольшим оркестром, то мы видим здесь сдержанно и может быть даже подчёркнуто бесстрастно, как группа людей занятых каким-то своим делом, и не обращающих ни малейшего внимания на окружающих их людей играет одним им понятную странную мелодию.
Но вдруг, этот самый обыкновеннейший состав оркестра, состоящий из труб, валторн, кларнета, тарелок, литавр, и прочего состава оркестра, вдруг он куда-то исчезает, растворяется в воздухе, и начинают свою игру уже ангельские трубы:
Я руки жал красавицам, поэтам,
Вождям народа - ни одна рука
Такого благородства очертаний
Не заключала! Ни одна рука
Моей руки так братски не коснулась!
И, видит Бог, никто в мои глаза
Не заглянул так мудро и глубоко,
Воистину - до дна души моей.
Глубокой древности сладчайшие преданья
Тот нищий зверь мне в сердце оживил,
И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось - хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной…
Чудесное превращение!
И затем ангельские трубы вдруг исчезают туда откуда они и явились — в никуда, и мы снова, с изумлением наблюдаем самый заурядный оркестр, наигрывающий странную, но мощную, какой-то непонятной мощью мелодию:
И серб ушел, постукивая в бубен.
Присев ему на левое плечо,
Покачивалась мерно обезьяна,
Как на слоне индийский магараджа.
Огромное малиновое солнце,
Лишённое лучей,
В опаловом дыму висело. Изливался
Безгромный зной на чахлую пшеницу.
В тот день была объявлена война.
…И последнее что хотел сказать по этому поводу.
Это даже странно, но это последняя строчка.
Она настолько здесь лишняя, что даже вызывает некоторое раздражение.
Хорошо.
Пусть в этот день действительно была объявлена война.
Но зачем??
Она ведь ломает всё стихотворение.
Это как-бы реверанс в сторону дурака.
А перед дураком не нужно извиняться, вернее, извиниться никогда не помешает, но просто это бесполезно.
Мене кажется, что человек, мало смыслящей в стихах, с недоумением дочитает, может быть до последней строчки, и на ней удовлетворённо крякнет:
— А! вот оказывается в чём здесь дело!
— Вот в чём здесь авторский замысел!
— Если продолжать сравнение, здесь сначала человеческий оркестр волшебным образом подменяется ангельским, затем снова становится человеческим, играющим свою загадочную мелодию, а в последней строчке оркестр вдруг пускает оглушительного петуха!
— Зачем?
— Этого требует форма?
— Нет, не требует!
— А тогда зачем?
— Зачем тогда пускать петуха?
— Чтобы маститый литературный критик одобрительно крякнул в ответ?
Метки: