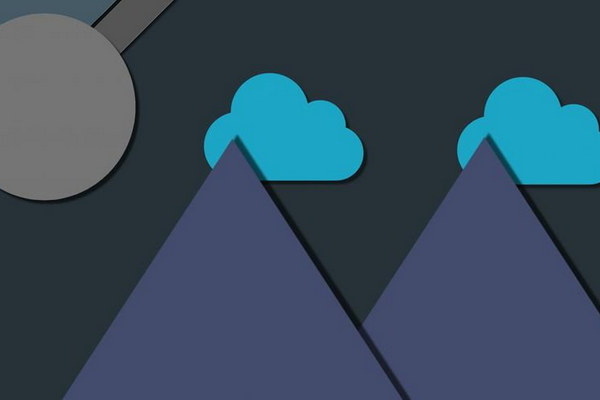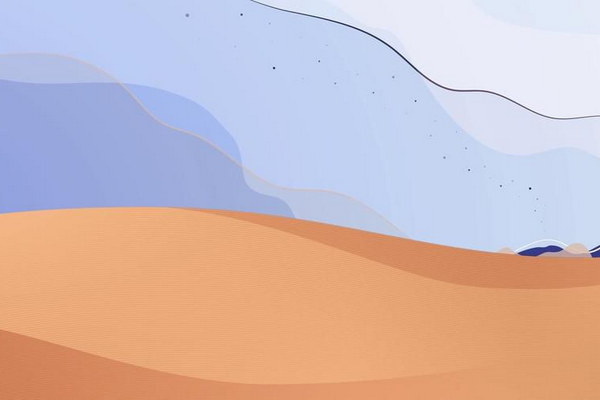Юность - не пустыня
вячеслав пасенюк
ЮНОСТЬ - НЕ ПУСТЫНЯ
(сентябрь 1965 - июнь 1966)
/ Впервые не уверен, что соберусь, смогу завершить эту часть припоминаний. Рискну отправить на “стихиру” в том виде, как есть сейчас, в январе 2021… Если удастся, то позднее заменю черновой набросок на полный текст, а если нет, то, значит, нет./
Эпиграфы, открывавшие дневниковую тетрадь шестнадцатилетнего одиннадцатиклассника. Вполне в духе того времени, в духе максималистских настроений того книжного юноши, но посмею ли посмеяться над ними?
Можно бы всплакнуть, но куда уместнее просто помолчать….
“Кто не горит, тот коптит. Да здравствует пламя жизни!” Н. Островский.
“Что ж, что не все ещё дороги прямы! Будь сам прямым и напрямик иди…
Вся жизнь моя, каждый день её должен быть упорным продвижением вперёд”. В. Кубанёв.
“...победа тоже не пропуск в царство покоя, сна. Она - лишь мгновение жизни. А жизнь - вечное кипение. В нём и в нежном трепете струны, что соединяет два сердца, - радость и счастье. Живи грядущим, настоящим, а не созерцанием того, что уже за плечами. Жизнь - в бою, а не в подсчёте трофеев”. Ю. Мушкетик.
На обложку тетради приклеен старательно перерисованный тушью рисунок Маяковского - “Человек идёт за солнцем”.
Добавлю пару эпиграфов от себя нынешнего. Этот - из “Самопознания” Николая Бердяева, считавшего память самой таинственной силой в человеке:
“В памяти есть воскрешающая сила, она хочет победить смерть. Память активна, в ней есть творческий преображающий элемент…”
“Как можно регулировать, что нужно помнить, а чего не нужно? Нет у человека такого регулятора…” В. Киселёв (“Воры в доме”).
Ну, дальше как обычно: дневник, письма, стихи и сновидения.
Сентябрь
Торжественная линейка состоялась после пяти уроков. Мы церемонно вручили цветы и напутственные открытки первоклассникам. Изнывая в костюмах от нахлынувшей жары, долго слушали хриплые неразборчивые речи наставников. Что-то разболталось в репродукторе, в звукоусилителе. Задний школьный двор, в обычные дни неприглядный и неприветливый, теперь расцвёл пышными увядающими на глазах букетами. Чего-то особенного недоставало в этом празднике…
Сходили с Ромским в горбиблиотеку, в книжный магазин. Проводил его на автобус, а сам заглянул в редакцию. Багонин усадил за написание заметки о первом школьном дне…
Вечером в который раз переделал “Вдохновение”: чем больше над ним колдую, тем меньше в нём следов этого самого вдохновения.
*
Голуби в голубом
мареве крылья полощут:
в высь врезаются лбом,
хлопоча суматошно.
Вкручиваются винтом,
воздух сминая с хрустом.
...Голуби были. Потом
стало особенно пусто.
От моей восторженно-размашистой заметки в публикации остались только самые штампованные фразы.
От Солоницына пришёл обескураживающий ответ на отосланные в августе стихи. Он их попросту отверг: я топчусь на месте, повторяюсь; мои белые стихи вовсе не белые; слишком много “сумбура, сутолоки строк”; мало находок, много неточностей. А закончил суровую отповедь так: “Мучайся, когда работаешь. Иначе ничего толкового не получится”. Неприятно признавать, но он прав.
Написал “Ромашки”. Попытался вывернуть банальное так, чтобы выйти на свежее. По цветам гадают о судьбе, доверяя им решение, и они становятся шестерёнками судьбы. Оторванные и отброшенные лепестки как неиспользованные, утраченные возможности. Отломанные зубцы шестерёнок уже никогда не войдут в сцепление, не потянут за собою…
Стою подолгу на балконе, уминаю груши, посвистываю, поглядываю, так сказать, вдаль и на прохожих. Особенно на девчонок моего возраста, но такие тут проходят слишком редко. Вот куда мои шестерёночки непрменно меня вытаскивают, подкручивают - к мыслям о “единственной”.
На днях завернул в читальный зал горбиблиотеки с преступной целью: вырезать из подшивки “Калининградского комсомольца” мою балладу - мою первую публикацию. Бритвенное лезвие не жгло моих пальцев! Но сперва ознакомился со всей третьей полосой, в верхнем левом углу которой и размещалась баллада - узеньким длинным столбцом. Интересно, сколько людей обратили на неё внимание, прочитали в этой подшивке? Хоть десятеро наберутся?
В зале пусто, если не считать двух девчонок впереди: шушукаются, посмеиваются, что-то выписывают из книг. Из нашей школы, между прочим, девятиклассницы. Обе симпатичные, с короткой стрижкой, но мне больше нравится светловолосая…
Знакомство можно было бы начать броско - с предъявления публикации (и “моя фамилия - в поэтической рубрике”), разумеется, с юмором, но и со значением. Но дело уже сделано: лезвием чикнуто четыре раза. Вырезка спрятана в блокнот, в котором я как бы что-то выписываю из свежего номера… На самом деле там повторяется фраза: “Подойти или не подойти? Заговорить или не заговорить?”
Выяснилось, что они готовились к сочинению по литературе - “Какие книги не умирают?”. Зашла речь о Есенине. Я тут же отрёкся от него, противопоставив ему Маяковского. Однако предложил свою помощь. Девчата улыбчиво, но решительно отказались. Тогда я предложил соревнование: кто быстрее напишет. Схватил листок и принялся катать. В общем вёл себя и смешно, и глуповато, но уж очень хотелось именно им приглянуться, поэтому из кожи вон лез, чтобы казаться весельчаком… Отдал им листок, раскланялся и выбежал.
Классное отчётно-выборное комсомольское собрание: сначала хвалили друг друга, потом критиковали друг друга. Сошлись на том, что признали прошлогоднюю нашу работу удовлетворительной. Меня выбрали редактором стенгазеты. Дома развернул самую бурную деятельность. Основа первого номера готова: ракета разрезает лист надвое, уносясь “в просторы”. Заглавие: “Старт в жизнь”. Разрисовал, а после дошло: значит, теперь мы не живём ещё? Думаем, чувствуем, спорим, переживаем, учимся, но это ещё не сама жизнь? Так ли? Не потому ли нас и задевает взрослое высокомерие, что мы не хотим себя считать недотёпами?
Впервые сходил вечером на математический кружок: Роза начинает нас всерьёз натаскивать к экзаменам. А я, сказать по правде, отстал сильно.
Прочитано: С. Есенин, собрание сочинений в 5 томах (самый сильный - второй: зрелые стихи, “Пугачёв”; много яркого в третьем: “Чёрный человек” и не только; прозу не принял, раннее творчество тоже не очень, надо будет вернуться).
И. Ефремов, “Час Быка”: “Целенаправленно ложь тоже создаёт своих демонов, искажая всё: прошлое, вернее, представление о нём, настоящее - в действиях, и будущее - в результатах этих действий. Ложь - главное бедствие, разъедающее человечность, честные устремления…”
Газета “Правда” и в 1934, и в 1937, и в 1949, и в 1956, и в 1961, и сейчас называлась и называется “Правдой”. “Комсомольская правда” тоже… Но какие же это разные газеты! А какими они будут через десять лет, через двадцать, через полвека?
Если нас к 1937 было 160 000 000, то при аресте одного из ста, число арестованных составит 1 миллион 600 тысяч, при аресте двоих из ста - 3 миллиона 200 тысяч.
Как ни мудрить, начало все нашей трагедии, которая названа “культом личности”, находится в самом Сталине. Но не только в нём, а в сотнях и сотнях тысяч сталиных местного масштаба.
Был ли он революционером в самом прямом и простом значении этого слова? Если нет, то и говорить особенно нечего: “враг народа”, “агент империалистических разведок”, “изменник Родины” (как клеймили убиаемых в тридцатые годы) напрямую можно отнести и к самому Сталину.
Если же да, то - каким революционером? До какого момента?
Ягода, Ежов, Берия… Если бы так случилось один раз, то можно было бы рассуждать об ошибке с кадрами или о враге, втёршемся в доверие. Почему именно такие люди оказывались во главе всевластных органов? Их словно бы специально находили и вытаскивали наверх, чтобы после того, как они совершат необходимое (кому?) кровопролитие, убрать, вычеркнуть...
Октябрь
*
Есть название - “Юношеская поэма”. Начинаю складывать текст. Может, вот это в начало поставить?
Алфавит. Автоматная очередь.
Стайка спугнутых птиц.
И бросается в очи ведь,
что не стало границ.
Может быть, опрометчиво?
Поздно воду толочь,
если, будто разведчики,
буквы двинулись в ночь.
Прочитано: Б. Полевой, “На диком бреге” (самые разные герои плывут на теплоходе по сибирской реке, на которой развернулась огромная гидростройка, потом действие ускоряется пожаром, сшибка характеров, их самораскрытие и так далее; последнее, что у него читал года два тому, повесть “Золото”: 1941, старик и девушка - работники городского Госбанка, на их долю выпадает уволочь из-под носа фашистов 17 килограммов золота… опасная дорога к партизанам, потом уже одна Муся тащит груз сотни километров до фронта…).
Как Сталин на самом деле относился к Ленину? Ведь понимал же он, что совершенно извратил ленинские заветы? Или он так их и понимал?
А ведь Ленин видел червоточину в нём и предвидел опасность, скрытую в нём, предупредил о ней в обращении к партии. Почему не прислушались? Что-то неправильное было в ней самой?
По-моему, Сталин презирал рукоплещущие массы. Именно за то,что они готовы на всё во имя него: отказаться от себя, от своих близких, от самого святого… Они не могли поступать так, как он. Но ведь и он не мог поступать так, как они…
*
Математикой не отравленный
(от загадочных знаков першит),
я решил задачу неправильно,
главное, что решил.
Уравнение не заборе
и такое же на снегу:
стало меньше одной заботой...
И сбежал бы, да не сбегу.
Читаю М. Горького, роман за романом: “Фома Гордеев”, “Жизнь Матвея Кожемякина”, “Дело Артамоновых”. Начинаешь жить в этом мире людей, говорящих с тобой на одном как бы языке, но живущих совершенно иначе: жестоко, душно, страшно. И ведь это в начале того же века, в котором живём мы.
*
Люблю красивые слова -
от некрасивых сводит скулы:
у них конструкция слаба,
они на откровенья скупы.
Вот флибустьеры - это да,
не убеждайте - мол, пираты.
Произнесёшь - и вмиг борта
гремят от пушечной тирады.
Прочитано: мемуары А. Игнатьева (графа, царского генерала и советского дипломата) “Двадцать лет в строю” (в двух томах).
А что такое “личность”? Личностью способен стать тот, у кого есть за душой личное, особенное, неповторимое, единственное в своём роде. И он проявляет это особенное, защищает его, делает содержанием всей своей жизни. Личность - исключение из правила. За это на такого человека обрушиваются гонения, его могут и на костре сжечь, но то, что делало его “личностью”, не сгорает вместе с ним. Личность может притягивать или отталкивать тех, кто вокруг. Этим определяется величина личности. Историческая личность влияет на ход событий, организует их. “Юноше, обдумывающему житьё, решающему, сделать бы жизнь с кого, скажу не задумываясь: делай её с товарища Дзержинского…” По-моему, как раз юноши с задатками личности не задумываются, “с кого им сделать жизнь”, а делают свою жизнь, ни на кого не оглядываясь, самостоятельно…
Кстати: Ягода, Ежов, Берия и прочие следовали ли Дзержинскому в своих злодеяниях?
Исторический деятель и историческая личность - это одно и то же?
Прошёл всего лишь год, а ни одна газета больше не цитирует Хрущёва. Значит ли это, что всё, что он говорил, было неправильно, шло вразрез с коммунистическим учением?
Ни о чём таком на уроках обществоведения мы не говорим. Что удерживает меня от того, чтобы спросить об этом нашего Бирковского? Он умный человек, у него, конечно же, есть свой взгляд, своё отношение, но поймёт ли он меня, согласится ли со мной? Или оборвёт на полуслове. Мы оба верим в коммунизм, но почему-то не можем быть откровенными…
Не потому ли и многие свои стихи я не показываю никому? Трусоватая осторожность.
*
На заборе написано:
“А + Б = Л”.
А вот чёрта вам лысого:
на трубе не осталось дел?
Сроду не уважал признания,
сделанные на асфальте или на стене.
Осыпаю морозом презрения:
эти прописи не по мне!
...Почему ж, от стихов отрывая,
карандашик украдкой тащу:
торопливо у самого края
своё заклинанье пишу?
Ноябрь
*
Как же он прост, этот вопрос,
когда не себе задаёшь,
а так он заноза из всех заноз -
не вырвешь, не извлечёшь.
Подумаешь, фраза из тысячи фраз -
легко даётся другим,
но это ж зараза из всех зараз,
когда отвечать самим.
Взялся за большое собрание сочинений Маяковского: буду прорабатывать том за томом. Два уже проработанных тома = двум прожитым годам (таково ощущение).
*
Простыня - не пустыня,
да и я не верблюд.
Если мама простила,
и другие поймут.
Лишь бы сам не зарылся
в облака с головой,
лишь бы сам не закрылся
ото всех - пеленой.
В передачах “Радиостанция “Юность” часто передают студенческие песни. Вот одна из них: “Убегу - не остановишь, потеряюсь - не найдёшь: я нелепое сокровище - ласкающийся ёж… Вверх по лесенке позвольте пройти, любимой песенки замучил мотив… Голова закружится, будто во хмелю. Люблю по лужам, по небу люблю…” И другая: “Люди идут по свету,им, вроде, немного надо, была бы прочна палатка, да был бы не скучен путь… Но грустная нежность песни ласкает сухие губы, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят…” И ещё одна сразу легла на душу: “В ночной степи ни тропок, ни дорог, лишь ветра одичавшего порыв. Земля умчалась прямо из-под ног, нас в небе августовском позабыв. А мы её не будем звать назад: пускай летит, у нас иной маршрут. Мы не имеем пра опоздать: за нас друзья волнуются и ждут…”
*
Всё реже встречаю раздел:
“Борцы за великое дело”.
Железное слово - расстрел -
слишком чёрное, если на белом.
Заметки все до одной
заканчиваются невесело -
припечатаны общей плитой:
“Пал жертвой репрессий”.
Перебираю, над столом вися:
вырезкам в пухлой папке тесно.
А вдруг революция вся
пала жертвой репрессий?
Прочитано в журнале “Юность”, №№ 1 - 5 за 1964: стихи Э.Межелайтиса, поэма Б. Ахмадулиной “Моя родословная”,повесть Я. Голованова “Кузнецы грома”; стихи Б. Окуджавы, искусствоведческий очерк Л. Волынского “Зелёное дерево жизни” (импрессионисты!); Юрий Пилляр, “Люди остаются людьми”, вторая книга; стихи Р.Рождественского, Е. Винокурова, повесть Б.Никольского “Триста дней ожидания” (солдатская служба на станции слежения в Заполярье (серьёзные происшествия заканчиваются хорошо, вообще чуть ли не лирично всё описано, - и я мог бы там отслужить положенное через два года, если не поступлю, но ведь я поступлю?); стихи Ф. Искандера.
Декабрь
*
Толковый урок - физика:
массы, энергии, силы.
Ты близко и даже близенько,
а стрелки сошлись и застыли.
Пора сдавать, а я бестолковый
рядом с формулами рисую:
в тёмной шали ты на балконе
сам я - с гитарой - внизу.
Сопротивлений в цепи слишком много?
Не вмыкается схема хитрая.
Физика для тех, кто мыслит строго,
а мне по душе... химия.
В военном книжном (это на Победе узкий магазинчик: чуть ли не от самых дверей книжные полки слева и справа, посреди - длинный прилавок, на нём тоже выложены книги, много продукции “Воениздата”, поэтов и писателей в погонах) купил новенький двухтомничек Леонида Мартынова. Сразу на улице стал листать, ища знакомое, выхватывая незнакомое. “...вдруг видно всё, чему ещё не верят к вчерашнему привыкшие глаза, чего вершки вчерашние не мерят, вчерашние не держат тормоза…” “О, крохотные бюстики великих, ни на вершок не свинутые с места! Как благонравен коллективный лик их, - из одного как будто слеплен теста…” И поэмы, написанные нестерпимо длинной строкой, - их ещё предстоит освоить. Одна так и называется в лоб: “Поэзия как волшебство” - о Бальмонте и его брате.
*
Мамиными стараниями,
под её руками шершавыми
цветы раскустились престранные
и в воздухе мягко зашарили.
Не знали визгливой вьюги,
осени гиблой не знали.
Просто обычный угол
был мягкою зеленью занят.
В ящиках и горшках,
застыв, потому что вкопанные,
фикусы исподтишка
поглядывали в окна.
Дивились деревьям голым,
ценили тепло.
Алоэ колючие головы
задирали, стучась в стекло.
Комнатная свобода:
и олеандрам нервным
достаточно водопроводной
и земли, что скупо отмерена.
Читаю “Избранное” Твардовского. “Дом у дороги” воздействует сильнее, чем “За далью - даль”: и поэтически, и по-человечески.
Читаю: Лев Кассиль, “Маяковский сам. Очерк жизни и работы поэта”; Виктор Шкловский, “О Маяковском”.
*
“Вышина. Глубина. Снеговая тишь.
И ты молчишь…”
Это Блок. Это эхо чердачных ниш,
черепичных крыш.
Небо в городе - вырванный синий клок.
От чего себя остеречь?
Это Блок. Предисловие и эпилог
наших нескольких встреч.
Прочитано №11 “Знамени” за 1963 год: поэма А. Вознесенского “Лонжюмо”.
“Радиостанция “Юность”: поют студенты. “Когда зимний вечер уснёт тихим сном, сосульками ветер звенит за окном, луна потихоньку из снега втаёт и жёлтым цыплёнком по небу идёт. А в окна струится миреневыц свет, на хвою ложится серебряный снег…”
*
Ночь на город, как маска, натянута:
уши заячьи, волчья пасть.
Открывается сказка обманутым -
обманувшим туда не попасть.
В январе начинаешь заново
обретать естество:
привыкаешь себя обманывать,
точно белка, попав в колесо.
Новый год - перекладины прежние:
чем шустрее перебирать,
чем к успеху стремиться прилежнее,
тем скорее привыкнешь терять.
Прочитано: К. Паустовский, “Книга скитаний”. Теперь опять с первой книги начну перечитывать всю эпопею (пусть критики её таковой и не считают). И вообще не хочу, чтобы она завершалась началом тридцатых годов, а длилась и длилась - до наших дней. Ведь он жив и видит то же, что и мы, только совсем не так, как мы.
А “Книга скитаний” начинается со строк Марины Цветаевой (“Воспоминане слишком давит плечи, я о земном заплачу и в раю…”), а на последней странице звучит крепкая строфа Павла Васильева. Это так дорого мне!
В среду ушёл с физкультуры и до начала шестого проторчал в комитете над огромным праздничным номером стенгазеты. Хочется, чтобы именно огромная и чтобы неповторимая. Две девчонки помогали разрисовывать пространство между колонками стихов и заметок. Заглянула Лариса. Мы как раз о будущих профессиях речь завели. Я возьми и ляпни, мол, знаю о мечте Ларисы стать космическим инженером. Она вспыхнула, отрезала, что наврала, лишь бы я отвязался. Фыркнула, ушла…
Неужели я настолько привык к бездружию и безлюбию, что обречён на одиночество?
Вчера фантастическим образом попал на олимпиаду по физике. Хоть каким-то чудом вытянул её на четвёрку, на самом деле давно утратил всякую реальную связь с предметом. Списал у Корытникова ползадачки, а в остальное время клоунничал, пошучивал, читал прихваченную книжку стихов. Корчил из себя неунываку, поглядывая на сидевшую в соседнем ряду Ларису…
Вечером смотрел спектакль: мешало обилие слишком патетических восклицаний, слишком литературной речи… Словно бы откликаясь, до половины первого написал большую часть новой поэмы. Она задумывалась как очередное большое стихотворение, но намеченные рамки явно оказались тесными.
Нередко слышим высокомерно бросаемое: “Это всё высокие слова! А жизнь - иное”. Но разве поэзия - это не жизнь? А ведь она вся на высоком строе держится.
Новогодний огонёк до полуночи и после неё. Смотрели с мамой, потом один остался. Космонавты… Серго Закариадзе (“Отец солдата”). Майя Плисецкая. Ирина Бржевская. Тарапунька и Штепсель (хлёстко насчёт министерства хорошего отношения к людям: к комедиям Маяковского возвращает). Анатолий Соловьяненко: голос! Михаил Ульянов (“Председатель”). Райкин: монолог и диалог. Человек-театр. Николай Сличенко: цыганский романс и “Очи чёрные”. Лев Барашков: “Есть у лётчика мечта”. Во второй части: Райкин (“Как вспомню, так вздрогну. Как вздрогну, так мороз по коже…”). Квартет “Улыбка”: песня о пингвинах. Лариса Мондрус… Ещё и ещё Райкин, и всякий раз неожиданно раскрывается. Эдуард Хиль: “Это было недавно”. Незабвенная троица: Никулин, Моргунов, Вицин.
Майя Кристалинская: “Аист”. Муслим Магомаев: “Шагает солнце по бульварам…” И не только они. В хорошей компании проводил старый и встретил новый год, особенный для меня.
1966
Январь
Читаю: Илья Эренбург, “Люди, годы, жизнь”, 3 и 4 книги (первые две печатались в трёх номерах “Нового мира” за 1960 и в начале 1961, их давно уже нету в библиотеке: стащили). Это не просто воспоминания: если бы эпоха могла говорить о себе сама, это была бы её автобиография. Сколько имён обрушивается: в литературе, в искусстве, в политике! О некоторых даже не слышал, а теперь понимаю, что без них просто никак дальше нельзя. Составлю список и буду искать всё о каждом.
Оформил и “выпустил” третий сборник стихов: “Баллада о нас”.
*
Под колёса и под ноги брошенный,
снег - самый дешёвый продукт.
К тебе не приду непрошеным,
незваным к тебе не приду
Здесь как раз половина дороги,
даже если проделать крюк.
Не зовёт никуда, не торопит
виадук, молчаливый друг.
Аккуратное снежное крошево
подо мною лежит на виду.
Я сюда прихожу непрошеным
и незваным отсюда уйду.
Неплохая фамилия для не очень хорошего героя с вызовом: Вдохновеньев.
*
Меня не пугает парк безлиственный,
в котором трудно приметить диковинку.
Вдогонку ветру кричать бессмысленно,
ещё бессмысленней тебе вдогонку.
Согласен вальсы столбам высвистывать,
в стоге готов отыскать иголку.
Вдогонку ветру кричать бессмысленно,
ещё бессмысленней тебе вдогонку.
Опять сдаётся зима без выстрела,
просто укладывает котомку.
Вдогонку ветру кричать бессмысленно,
ещё бессмысленней тебе вдогонку.
№№ 6 - 12 “Юности” за прошлый год: стихи Н. Рубцова, Г. Бокарев, повесть о молодых рабочих - “Мы”; стихи Р.Рождественского, А. Жигулина; повесть Василя Быкова “Западня” (фронтовая повесть, я таких ещё не встречал); стихи А. Вознесенского (“Тишины хочу, тишины нервы, что ли, обожжены…”); повесть А. Приставкина “Селигер Селигерович”; стихи Е. Винокурова; повесть В. Амлинского “Тучи над городом встали” (тыл, эвакуация, школа, “весна сорок третьего года только начиналась...”): стихи о. Берггольц, молодых поэтов-ленинградцев; повесть А. Битова “Такое долгое детство”; рассказы В. Аксёнова, стихи Б. Окуджавы (“Пока Земля ещё вертится, пока ещё ярок свет…” - переписал и выучил).
*
Родство, уродство, воровство:
набор бессвязный привязался,
как будто погружал в раствор,
чтоб я бесследно растворялся.
Уродство, если нет родства:
ремня, на коем правят бритву.
Приходит время воровства:
воруешь ритм, размер и рифму.
Живёшь с ворованным, пока
своё в тебе не отстоится,
но это не наверняка:
как повезёт, так и случится.
*
Океан припрятал свой задор,
когти подобрал и не грозит клыками.
Вместо океана - коридор,
репродукция в дешёвой раме.
Мореплаватель к песку припал,
выбился из сил первопроходец.
Дышит притаившийся провал,
а тебе мерещился колодец.
*
Брат-писатель твердит: “Ерепенитесь!
Поскромнее будьте, юнцы!”
Что мне делать, когда нетерпение
распирает во все концы?
Я боюсь не успеть за весною,
за летящим по ветру днём,
я чего-то опять не усвою,
расшибаясь о стену лбом.
“Юношеская поэма” (октябрь 65 - январь 66).
Покуда человек щекотится и раздумывает над собой,
на него отовсюду с неимоверной быстротой
надвигаются волны житейских мелочей,
и захлёстнутый ими - он кто? он чей?
(Перефразируя М. Е. Салтыкова-Щедрина -
“Господа Молчалины”.)
1
Постой-ка, парень, кто ты такой?
Давай-ка заполним анкету:
имя, фамилия, пол мужской…
Но прочь канцелярщину эту!
Далее без крикливых прикрас
и без ехидных сплетен:
я один из миллиона вас -
юных, шестнадцатилетних.
Считают, что возраст наш
сплошная лучезарность и легкомыслие.
Пусть главы, взятые на карандаш,
как вёдра на коромысле,
не расплескав, донесут своё
до каждого собеседника.
Клянусь, это не просто словьё,
подстать пересудам соседкиным.
2
Пожалуй, рано за мемуары браться:
пока вмещаемся в анекдот.
Можно вольготно болтаться паяцем,
а будущее, оно не завтра придёт.
Можно клепать кроличьи клетки:
дело не плоше многих.
Но как позабыть, что мы наследники
революционной эпохи?
Кому ни скажи - кривятся,
спасибо - не крутят пальцем у виска.
Просто таскаем плакаты на демонстрациях,
не заносясь в облака?
Мы проживаем слишком подробно
каждый из взятых в отдельности дней.
Судьба наделила большой тревогой
за целую землю, за жизнь на ней.
3
Есть у человека такая потребность -
высказать себя дотла кому-то,
не заикаясь о насущном хлебе
и не барахтаясь в пошлости мутной.
Можно и так, через боль перешагивая,
чужое доверие разрушивая,
и тает на глазах надежда жалкая,
что больше нету былого бездружия.
Я, наверное, был в тот час смешон,
чуть похож на сумасшедшего был,
когда воспарял, оттого что нашёл:
на плече почувствовал руку судьбы.
4
Нынче слишком метелью наверчено.
Дремлет город, в сугробы одет и обут.
Ты глядела так недоверчиво:
думаешь, в сказках я ни бум-бум?
Будет диво - куда оно денется? -
и в неволе у чуда-юда,
как положено, красная девица,
добрый молодец тоже будет.
А пока на окраине где-то ютится
сердце поэмы, стрелой пробитое.
Кто бы живой притащил водицы
из родника у куста ракитова?
5
Сколько всего человеку надо?
Каждому надо столько,
чтобы хватило для склада и лада
и сверху ещё стопка.
Или напёрсток, или пушинка,
с которою полный ажур.
Беда: эталонного нету аршина,
у всякого свой прищур.
От пращуров это, от бабки и деда,
странно: я вырос без их присмотра.
С первого класса слыл всеведом,
из абзацев и литер собран.
Я и маленьким нюнился чаще, чем нужно,
и эта тяга к нахмуренности
в страсть перешла натужную
к поэтическим премудростям.
Стихами исчёркивал клочки бумаги,
хоть видел отчётливо: этого мало -
ничтожно мало копаться в истории,
точно в ржавом металле искать подспорье.
Я буквально купался в словах,
особенно в тех, что с блеском,
готовый платить сполна,
как мушкетёр за подвески.
Ковал и клепал про всё подряд -
самозабвенно и бесполезно:
исчезали строфы - за отрядом отряд -
безвестно и бестелесно.
6
И последний лист запоздалый
метнулся с ветки родной.
Меня опять освистали,
не взглянув, что главный герой...
У тебя всё дела, дела:
тебе секретарствовать надо.
В сторонку меня отмела,
как ненужную пока помаду.
В памяти картинка пляшет:
мероприятийного толка вечер
тащился, как тощая кляча,
скукою изувеченный.
Я тупо смотрел на стену,
а на ней: “Носите с честью имя…” -
и не мог разобрать, глазами пустея,
имя, нашлёпанное красками густыми.
Заугольной стычки тёмная сцена:
я снова не на высоте.
Какова цена желаемого целого,
если не соответствуешь своей мечте?
Чего же стоишь, когда,
сколько в стихах ни пыжишься,
боишься удара, боишься стыда
и вообще боишься?
И вновь - от ворот поворот,
а большего, значит, не стою.
Ушёл шестнадцатый год
дорожкой кривою.
7
Кто бежит в толпу и прячется в ней -
я же удрал в одиночество:
мне отсюда наглядней, то есть видней
вымученность моего творчества.
Ты сказала, что я невозможный чудак:
всюду нахожу непонятное, сложное,
а жить надо просто - этак и так.
Но ведь не всё по полкам разложено!
И не всё развешено горстками,
как в детстве играли, деля кашку.
Я бы, может, и рад относиться попросту,
но это даётся не каждому.
8
Крепнет с давнишним сцепка -
с раствором ведро подай:
растёт шлакоблочная стенка -
наш дровяной сарай.
Скребёт штыковая лопата
по дну дощатого короба.
Идёт штыковая атака -
против какого ворога?
Ведь должен смысл движения каждого
жечься, будто крапива.
Мне справедливо укажут
(или всё же несправедливо?):
“Живёте на всём готовеньком -
погодите, жизнь обломает:
пообтешет сучки и задоринки -
повзрослеете мало-помалу”.
И хотел бы ответить резче:
мол, проживём по-другому,
да по сути отрезать нечем,
остаётся жевать солому.
9
Не смешной, не остряк, не ворчун -
ты не знаешь меня: я другой.
И отныне, как счастья, хочу
быть только самим собой.
А это не шутка, не дважды два,
если свыкся и сросся с маской,
если прячешься за слова,
а они бесстрастно-прекрасны.
Во мне двое бьются, как об стенку башкой,
отвергая сходство, избегая скотства:
один из них смелый, честный, прямой,
другой шесть лет, точно студень, трясётся.
Как суметь быть только с первым вровень?
Я мечтал: только хорошее пусть!
Я старался не замечать второго,
а не замечал того, что сдаюсь.
Хватит: наотшельничался, насиделся в углу,
но если выбраться в люди,
то там ни гу-гу и с тем ни гу-гу,
а то жареный петух клюнет.
Поле будто бы выписано мелом:
на доске ночи - бледным заревом.
Я своё “я” разобрал на мелочи -
начинаю собирать заново.
10
В твистах рассвистывать свою молодость,
из ершистых вырастать в покладистых -
угодливо расшаркиваться перед подлостью,
на высокое только осклабиться?
Или, изнурясь борьбою бесплодною
против очумело-вздорного,
отупело захлёстываться водкою
до состояния живодёрного?
Ведь с нами такого не может случиться,
мы же заговорённые?
В какую дверку сердце стучится,
в наглухо затворённую?..
В изголовье Рима выла волчица,
потому империя пала.
Наш коровий мир кормится и плодится,
не зная пятилетнего плана.
За утро с Ромским вскопали делянку:
здесь будут роскошные гряды.
Прилегли и прикидываем на полянке:
что для полной радости надо?
Чтобы вся как есть Латинская Америка
была как свободный остров.
Чтобы Африка вся - от берега до берега -
сама решала вопросы.
Чтобы все на земле ушли от неволи,
чтобы атомный гриб не качался:
так уходят влюблённые от погони
и замирают от счастья.
Чтобы коммунизм и, конечно, Марс…
Тут мы ещё наддали:
чтобы девятиклассницы уважали нас
и не смели смеяться над нами.
А что если б Колумб не доплыл -
что ещё придумали б майя?
А инки, ацтеки - во что свой пыл
воплотили бы, процветая?
Чего-то ещё недоставало,
чтобы во всём разобраться с людьми...
Когда очнулись, корова мычала:
её донимали слепни.
11
Дождями раскосыми
земля засеяна.
Ты пришла вместе с осенью,
но совсем не осенняя:
вопреки календарям,
расчерченно-строгим,
в разгаре октября -
апрель вне сроков...
Дни за днями гурьбою:
спешат следы на снегу.
Гонюсь за тобою,
а догнать не могу.
Я один, а тебя нет и нет,
и по сердцу все кошки мира скребут.
По жухлым листьям от берёзы к сосне
вымеряю свою судьбу.
Может быть, в этом самом углу,
где не сразу начнут искать,
револьвер, приставив к виску,
гимназист перестал тосковать.
Запустение, нищая жуть,
арматура, торчащая грубо:
серый, блёклый парк обхожу
по седьмому кругу.
12
Это всё. А может, не всё?
Обойдусь без фальшивой блажи.
Ожидания и надежды - в песок,
и прямее, точнее не скажешь.
А что дальше? Стоит ли рыпаться?
Вдоль надоевшей до чёртиков тропинки
снег протухший, как белорыбица,
и рифмовать, её-богу, противно.
Небо замороженное или заворожённое:
плотно укрыты звёзды пылкие.
А это что ещё за воробышек?..
Звякают слова, как монетки в копилке.
Куда торопиться? Поторчу у депо:
о чём бормочут паровозы чумазые?
А эти двое в немодных пальто -
им торопиться некуда разве?
Грустно и до нелепого пусто.
Подмывает запеть первое попавшееся.
В какой куплет втиснется чувство,
в лунном свете себя искупавшее?
13
Вдруг стало жарко даже декабрю:
сугроб расстёгивает за сугробом.
Иду к тебе: убраться подобру
да поздорову даже не попробую.
Что на лице написано моём?
Что на домах и улицах начертано?
Могли бы прочитать вдвоём:
зима не тайна же врачебная?
Навстречу влеклась старушка,
кошёлку несла бережно.
Заметив меня, струхнувши,
укрылась за голое дерево.
Не рассмеюсь: чересчур задумчив,
погружён в дороги, тревоги, разлуки.
Какие-то вихри, какие-то тучи:
одно настоящее - наши руки.
Согласен, я выражаюсь коряво.
Послушай Блока - нет резче света:
“Только влюблённый имеет право
на высокое звание человека”.
14
Из желторотости себя выломав:
хватит попрекать нас наперебой -
плывём по воздуху стылому
за разомлевшей зарёй.
Завещаем глухие дворы и песочницы:
больше нечего пока завещать.
Доказать основательность хочется:
мы знаем, что защищать.
Дождь отбренчал сырое сольфеджио
на кривых желобах цинковых.
Даже лужи кажутся нежными,
словно вывели циркулем.
И ловим себя на щемящем,
отсюда куда несущем?
Наверное, это щенячье,
да главное, что не сучье.
Возможно, не все достигнут, дойдут,
до седины доживут ковыльной.
Не таковые какие-нибудь,
мы всё-таки штыковые.
Не каприз и не поза - характер
в общем потоке шествий.
Нам бы себя истратить
не на пустом месте.
15
В год, когда началась мировая война,
достроен был этот дом,
в котором сижу возле окна,
отстранив недочитанный том:
четырнадцатый продолжается год,
юнцы сбегают на фронт,
им хочется большего - время даёт
столько, что невпроворот.
Кто-то из них без руки придёт,
кто-то с обрубком ноги.
Кто-то опишет, должно быть, приврёт
об этих или других.
Каждому поколению - свою войну?
Намотаться на ленту липкую?
Нам бы великую стройку одну,
но без обмана великую.
Чтобы осталась одна на всех,
видимая из космоса.
Или на всех не хватает вех,
вместо этого скука несносная?
Как хорошо, что не знаем сейчас,
сколько жить предстоит.
Как хорошо, что не знают нас,
а то бы замучил стыд.
16
Из круглого детства у доброй реки
с неказистым названием Шиша
выходим в круглые дураки,
стремясь забраться повыше.
Пускаемся, вымкнув настольные лампы
(подписью текст скреплён),
за любимой вдогонку, за громкою славой,
за трудным таёжным рублём.
Чем запомнится шестьдесят шестой?
Тем, что ушли, не оглядываясь?
А я оглянусь, зажимая рукой
рот, из какого не рвётся радость.
Верить в себя и не верить себе
уравнение с тремя неизвестными.
В голой степи, как на голом столе,
сердцу становится тесно.
Чацкий в столице, в метели Гринёв:
выбраться или выбиться?
Путь, уводящий из наших краёв,
мерещится или видится?
Прав тот, кто способен встать на колени,
чтобы слышать, что скажет калека.
Человек начинается с легенды,
как вселенная - с человека.
_ _ _
Это поэма (ну, поэмка)? Или очередной слитстих? Всё равно. Это составило четвёртую самодельную книжку.
В №1 “Юности”: стихи Л. Мартынова, А. Жигулина; “Стихи об Италии” Евтушенко; рассказ Булата Окуджавы “Промоксис” (нет, так нельзя: обычные люди, обычный дачный посёлок, обычная электричка,обычная драка с разбирательством в обычной милиции, но описано так, словно это всё вообще не в нашей жизни и не в нашем свете, и никакой идеи, а только гитара (“кифара”) сама по себе звенящая…).
Февраль
Прочитано: Артём Весёлый, “Россия, кровью умытая” и другие произведения, изданные тяжёлым томом - надгробным камнем над отсутствующей могилой: где закапывали тайком их, расстрелянных в годы сталинщины? Он писал про Россию революции и гражданской войны, а ей предстояло ещё много раз умываться кровью - всю первую половину века.
Очень необычная проза. Напрашиваются слова: хоровое исполнение, оратория, симфония, но и они очень приблизительные.
Оформил и “выпустил” пятый сборник - “Флибустьеры”.
*
Снег зимою всего беспечнее:
не ограбят, не украдут.
Я приду осторожным вечером -
ничего, что я вновь приду?
Знаю, знаю, что ты не выгонишь:
у ослепшего сядешь окна -
над бесконечною книгою
невозмутимо одна.
Будешь ты. Будет так. А наутро -
мелких радостей скучный делёж.
Забывать - это тоже наука.
Ты старательно преподаёшь.
*
Поэт Вознесенский предан параболе:
ею пронизан том.
Я вверх и вниз пробегаю по радуге
за день разиков сто.
Вниз по лестнице - в комитет,
вверх по ступеням - в класс.
Тревожно, если тебя нет,
радостно в свете твоих глаз.
Может, не я, а мои стихи
выдумывают про любовь:
я в них занимаю не больше строки,
тебе - весь букетище слов.
В “Знамени коммунизма” за 20.02 в разделе “Стихи наших поэтов” есть и моё:
“Холм опрокинулся кружкой…” - под дурацким излишним эпиграфом: сам ли присобачил? Пастушенко ли постарался?
Март
В №2 “Юности”: повесть А. Рыбакова, “Каникулы Кроша”; стихи С. Дрофенко и В. Британишского (геолога).
*
Бес попутал, вмешался тайно:
по улице разлинованной
после вечера я заглянул с гитарой
к большеглазой Галке Вольновой.
За стол усадили, налили чаю,
меня распирал необычный восторг.
Прижавшись к печке грифом печальным,
дека ухо держала востро.
Галка испытывала на мне чары:
я размахался неосторожно,
вот и остались от красивой гитары
некрасивые рожки да ножки.
Именной именинный мой инструмент,
об пол ударясь лбом,
стал деревяшкой в один момент
семиструнным дрожащим клубком.
Я крепился, прорезываясь хохотком,
бредя через парк домой.
Останки, как пелось в романсе том,
тайком принёс под полой.
Прочитано: В. Киселёв, “Воры в доме” (уже первые два эпиграфа настораживают: один, жёсткий, - от генерал-майора, другой, философский, - из Корана; 1942 год,Средняя Азия, польская армия Андерса, наша контрразведка против непонятно кого, и вдруг действие перебрасывается в 1961 год, на советско-афганскую границу… Необычный финал: двое едут отдыхать на юг и беседуют о только что прочитанной ими (и нами) книге, мол, зачем автор взялся описывать двоих любящих людей,едущих на юг и т.д.).
*
На этажерке, обложкой светя,
рядом со сказками светлыми -
запретная книга “Мать и дитя”,
а что в ней такого запретного?
Запретное у поэта - про “шею воловью”
и “потноживотых женщин”:
в полный голос читать неловко -
читай вперекор першению.
Я подбирался, когда в квартире
только сопенье моё,
и раскрывал на той самой картинке,
где обнажённое всё.
Значит, именно так устроено,
чтобы мы родились и состарились:
вот так у скромных и у нескромных,
у кристальных и некристальных.
Там излагалось сухими терминами
(а ведь открывался Сезам!)
про то, как протекает беременность
по дням и по месяцам.
Как мне теперь глядеть на девчонок,
на женский особенный рой?
Ведь я не тот, кто “певец кипячёной
и ярый враг воды сырой”.
Впрочем, недолго это заботило,
не заводило в топь:
брёл стороной, как обходят болотину,
не засосало чтоб.
Тела боялся и сторонился -
чужого и своего.
Влюбляясь, бог знает к чему стремился,
впадая в безумье стихов.
Безумье надёжней, чем бестелесность,
тем более чем телеса.
Поэтому слава тебе, словесность,
и слава вам, словеса!
“Судьба ему выпала такая…” А ещё: “Судьбу не обманешь, её не обминёшь...” Что в этих присловьях? Согласие с обречённостью? Заранее, загодя, ещё до всего-всего? Но это же унизительно. Уничижительно!
Что крупнее, объёмнее - жизнь или судьба? Жизнь может быть длинной или короткой, а к судьбе применяются иные определения.
Мне кажется, человек не столько выбирает в предложенной ему жизни, сколько заполняет в ней ячейку, окоп, ход сообщения… Сколько заполнил, столько у тебя судьбы. Сколько прошёл, столько у тебя дороги.
Астрология и астрономия: гадания и гипотезы. Чему верить больше? Каким звёздам себя вверять?
*
Состаримся, осунемся,
как древние папирусы.
Каштаны нашей юности
когда-нибудь да вырастут.
Царапнут веткой по небу
каким-то знаком письменным.
Когда-нибудь кого-нибудь
на берег славы вынесет.
Как будто по заданию -
дерзать в пределах хитрости -
кого-нибудь когда-нибудь
на скудный остров выбросит.
Апрель
Оформил и “выпустил” шестой сборник: “Вселенная начинается с человека”.
Сто лет или тысяча - всё равно мало: покуда живу человек, эта тема не исчерпает себя. Труд выпрямил человека - любовь его окрылила, укрепила в нём право надеяться, верить. В древневавилонском “Эпосе о Гильгамеше” звучит завет: “Сломай дом - построй корабль, оставь берег - ищи жизнь”. Искать жизнь - это найти применение заложенным в тебе силам, способностям по самой высокой мере: мере любви к человеку, матери, подвигу, родине…
“Чтоб день, который горем старящ, не христарадничать, моля. Чтоб вся на первый крик: - Товарищ! - оборачивалась Земля. Чтоб жить не в жертву дома дырам, чтоб мог в родне отныне стать отец - по крайней мере - миром, землёй - по крайней мере - мать”.
Василий Кубанёв: “Не понимаю, как это можно - полюбить и остаться таким же, каким был вчера”. Любовь способна открыть в человеке такие возможности, о которых он сам и не догадывался. А главная из них - способность и готовность отдать собственную жизнь во имя другого, во имя других.
Андрей Вознесенский: “Животные жизнь берут. Лишь люди жизнь отдают. Тревожаще и прожекторно, в отличие от зверей, - способность к самопожертвованию единственна у людей”.
В мартовской “Юности”: стихи И. Шкляревского и три великолепных рассказа Фазиля Искандера.
*
Знаю - откуда, не знаю - куда же
возраст относит меня
от художеств моих и чудачеств,
дёргая и дразня.
Взросличаю, раздувая щёки:
мол, страдаю, грущу.
Потом пляшу, звонко прищёлкивая,
смехом себя глушу.
Нет, никакое не противоречие
эта двоякость моя:
столько накручено, столько наверчено -
столькое жаждет, маня!
Не разорваться! А я б разорвался -
на всадника и коня,
и разревелся б, и разорался,
чтоб услыхали меня.
*
Бывают теории стойкие,
хоть не в ладах с вещами.
О наличии флогистона
долго химики копья скрещали.
Смещали и совмещали
кислород с водородом,
целый век друг друга стращали
полным переворотом.
О таинственная сверхтонкая
огненная субстанция!
Та наука, почти допотопная,
чем-то вроде легенды останется.
Но когда ночами безлунными
свет пронизывает все стороны,
вспоминаю догадки безумные
о наличии флогистоновом.
*
Раньше, помню, писали: “Стою в вышине,
и Кавказ вон там, подо мною…”
А теперь стою у стола, и мне
Кавказ не заменишь стеною.
Споры о том, кто и в чём виноват,
ей-богу, тут ни при чём.
И эта разлука ничуть не нова,
просто ветер все листья прочёл.
Просто я промолчал, а ты не пришла,
просто холодно стало вокруг,
и, никому не желая зла,
дождь зло захлёстывал вдруг.
Как наносят рисунок, именно так
мысль о тебе нанесло
на мой распорядок, на мой кавардак,
на будущее ремесло.
*
Апрели, апрели, куда вы, ребята?
Закончились прения и дебаты.
Выстрел выстыл, упал человек.
Синие листья коснулись век.
Я хочу, чтобы склочный
мир менялся в лице,
чтобы всё-таки точки,
а не пули в конце.
Из поэмы “Плавания и возвращения”.
*
Если хозяйство плановое,
бросьте ужимки тщетные.
Но я за внезапные плавания
и внезапные возвращения.
Юность, которая выдохлась, -
не направленье, а - возраст,
проще говоря, видимость,
а нам подавай серьёзность.
Какое же это собрание,
из беканья всё и меканья,
когда решено заранее
и возразить некому?
Любим играть в прятки,
принимаем с ленью тюленьей
дерзание по разнарядке,
смелость по распределению.
Уже среди нас заметнее,
кого не хватает в президиуме:
лбы расшибают медные
отличий и званий носители...
*
Броситься, броситься, броситься
под бешеный поезд дней,
пока над чересполосицей
далёкая даль видней.
Как велосипедные спицы,
завертелись дорожные стрелы.
Кому дано ошибиться,
не удержат ни скрепки, ни скрепы.
Всё так, я готов, но куда же
время относит меня?
То мелом мажет, то сажей -
по датам, по именам…
Просится, просится, просится
сердце забиться сильней:
не страшно опростоволоситься
в начале судьбы своей.
Убегают назад расставанья -
расстоянья набегают взамен.
Мы в погоне за утром ранним:
позднее - для измен.
Значит, доказывать лишне:
приняты меры крайние.
Просто мы рано вышли -
просто мы люди ранние.
Май
В апрельском номере “Юности”: роман-баллада Ицхокаса Мераса “На чём держится мир” (“Ant ko laikosi pasaulis”). Потом непременно прочитаю в оригинале.
*
Одуванчики раздуешь парашютиками
и обманчиво простую сказку с шуткою ли
заведёшь и загадаешь - заколотится
среди бела дня такая околёсица!
Я пущу стрелу куда-то за семь озёр,
за девятый распадоок и тринадцать зорь.
В той дали, где она в разнотравье ляжет,
ни одна дотемна не плачет над пряжей…
Заблудился я в загадках, и камня нет,
чтобы ёмкий и краткий выдал ответ.
Налево ли, направо ли, прямо иль назад?
Что будет, кто явится - хотел бы узнать.
Ёжусь от раздумий в одуванчиках сплошь:
раздуть-то раздуешь, да не соберёшь.
*
Не знаю, как получится -
без славы иль со славою? -
я загадал певучее
желание главное.
...Зари цветными стёклами
понаснет день.
По галечнику тёплому
я подойду к звезде -
с невымерянной массою,
боками неровными,
ещё не названной
астрономами,
а потому таинственной -
до цыпочек, до шороха.
Камыш начнёт насвистывать,
а ночь пойдёт нашёптывать.
Звезду поднимем с берега,
не спрячем, не укроем,
а донесём бережно,
зажжём над горою -
на четыре дороги,
на стороны четыре:
до звезды дотронешься -
вовек не остынешь.
26: семнадцать!
Допустим, бессмертие возможно. А хорошо ли это? Для человечества, для общества, для каждого из нас? Начнём с того, что если бы Сталин не умер, я жил бы сейчас при нём… А ведь и войны стали бы невозможны, разве что техника, оружие сами за нас воевать могли бы. Тогда, у кого больше оружия и мощнее техника, тот и прав?
Сколько бессмертных может прокормить планета?
Бессмертные Добро и Разумность, но ведь бессмертны Зло и Неразумие…
Куда и к чему, зачем стремиться, если впереди вечность?
Всё-таки смертность естественна, а бессмертие нет.
*
Вот дни рожденья, будто привиденья,
проходят чередой:
какие разноликие явленья
стыкуются в коробке черепной!
Ах, если б передумать, перебрать
все дни, как раковины, на ладони
и то извлечь, чего не переврать,
тем более - не поделить на доли…
Откуда эта вяжущая злость
и чувство непокрытой недостачи?
Чего прошу я у бесстрастных звёзд,
о чём на ветре пересохшем плачу?
*
Я вслушиваюсь, вслушиваюсь в голоса из прошлого,
в голоса из будущего, напрягаясь весь,
и вовсе не игрушечная, с пулевой порошею
слышится война - попробуй это взвесь.
Я всматриваюсь, всматриваюсь в лица ушедшие,
в лица которые ещё встретятся мне,
в облака матовые и в зёрнышки маковые,
ветром сумасбродным рассеянные по земле.
Я вдыхаю запахи смолы сосновой
и хлеба ржаного с горячими боками.
И каждым ранним утром снова и снова
кругосветный запах газет вдыхаю.
Я трогаю пальцами струны и клавиши -
в поисках мелодии необычной одной.
Мне б найти решения самые главные…
Я в свои ладони беру твою маленькую ладонь.
Я с веточек срываю ягоды губами,
смородины ягоды - крупные, калёные,
я чернику срываю, и на губах голубая
остаётся память тонкими каёмками.
Когда смотришь фильмы о тысяча девятьсот семнадцатом по второму или третьему разу, обращаешь внимание на такую общую деталь, как семечки. Продают бойкие торговки, грызут революционные матросы. Заплёванные площади и перроны. Лузга шелестит под ногами. “Пролузгали Россию…”, - шипящий голос кого-то из бывших.
Велика роль семечек в событиях начала века. А ведь лузгали и до них, и после них. Но, возможно, никогда не щёлкали с таким вдохновенным остервенением…
Заносило нашу планету в этом столетии и пеплом, и прахом, смертью наглядной и невидимой. А ещё заносило шелухой, словесным сором…
Я так и не научился грызть семечки, не прибегая к помощи пальцев. Многие человеческие искусства не даются мне. Зато я умею шевелить ушами, “выстреливать” большими пальцами обеих рук, выворачивать в гримасе нижнюю губу так, что всё лицо укорачивается. И всему этому научился за одно лето 1956 года от своего одноклассника Сеньки Воробьёва.
*
Когда придёт зима и упадут снега,
и станет вдруг земля седа, совсем седа,
я буду далеко от города в зиме,
укрытого в покой, как весточка в письме.
Я буду далеко - за тридевять земель.
Пространство велико для милых пустомель,
времён хоть отбавляй - для славной кутерьмы,
и всё же - отплывай и сердце оторви.
Вот смысл и вот стезя - та красная строка,
сойти с какой нельзя: пусть долетит стрела.
Когда придёт зима и упадут снега,
не уплывут дома к туманным берегам.
Захлопнется судьба, как дверь от сквозняка.
В былом возьму слова и дальше передам.
“...и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире - борьбе за освобождение человечества”.
Завет, заповедь, задача. Цель, смысл и оправдание личного существования.
Да и вся мировая история разве не ради этого совершается? Отрываешься от учебника и видишь неохватные поля, пространства, по которым прошли поколение за поколением, полегли костьми, а перед тем мучились, трудились, боролись. Теперь и мы включены в эту всеобщую цепь.
Уже на моей памяти как сильно изменилась карта мира, насколько разноцветнее, разнообразнее стала!
Но: одни войны продолжаются другими, революции, восстания - почти на всех материках… Кровь и страдания. До конца нашего столетия осталось меньше, чем прожито под знаком двух мировых войн. Человечество успеет освободиться? Или оно освободит Землю от своего присутствия?
*
Поэты без утайки пишут о чувствах -
с Евы и Адама они их раскрывают.
Но как бы то ни было странно и грустно -
мы часто в своём чувстве перегораем.
Прежде волшебники - бороды до пяток -
бродили, а нынче ушли на покой.
Теперь телепаты пронизывают телепаток,
понятия сдвигают, не касаясь рукой.
Ночь топчется по комнат, и нету тебя в ней,
и карандаш ломается, на слоге ЛА… хрустнув.
С каждой поэмой оно всё непонятней -
это человеческое седьмое чувство.
Июнь
*
Рассыпается небо раскатами,
будто выдернули каркас.
Вот и стали мы адресатами:
разлетелся единый класс.
Как в загадке: горох рассыпался
на семьдесят семь дорог.
Словно город нами насытился -
отправляет гулять за порог.
Это правильно, в общем, придумано:
поколение, шаг вперёд! -
чтоб хватило свечения юного,
если надо, пойти поперёк.
***
Вот Литва, я скажу, вот Литва: золотые слова и листва.
Вот её небогатые реки, вот - послушай - свистящие речи.
Вот холмы: не торопятся ввысь. Вот лесов сокровенная мысль.
Вот у моря, у моря, у ног уморился, прилёг янтарёк…
Это общие, скажешь, слова - покажи, где взаправду Литва?
Пусть беспомощным будет ответ: надо просто родиться в Литве.
*
Солнце выльется, а я стыну:
всё мне видится тонкий иней.
Иней тянется по июню.
Птицу-странницу не догоню я.
Не достану - не дотянуться.
Очень странные вьюги вьются:
из цветов, из цветистых бабочек,
снежных снов и румянцев яблочных.
Стало больно и не до смеха мне -
оттого ли, что ты уехала,
оттого ли, что синими кольцами
по снежному полю цветы хороводятся.
***
Родина. Литва. Дорога - по которой ты прошёл
и с собою взял немного, но достаточно: вошёл,
словно бы в мешок заплечный, в память, в опыт, в суть твою
и язык, огнём отмеченный, но отнюдь не онемеченный,
с “эс” всегдашним на краю;
и вошли поляны мамины, и оркестрика настрой -
деревенского, домашнего, задушевного: постой
и послушай - и запляшется по-литовски русаку,
и дослушай - и заплачется по-литовски русаку…
За год (с прошлого лета) несколько попыток без продолжения, увы, охватить себя, своё, взглянуть со стороны, насколько это возможно: что имею, что накоплено, с чем выхожу в мир (как ни высокопарно звучит)?
Под названием “Иду по меридианам жизни”: начало человека; а мир всё больше;”дни-мальчишки” (у Бориса Корнилова взято); ищу; год-карусель (слововерчение нарастает); выхожу из угла; октябрь - месяц весенний (в рифмах, как в кольчуге); жизнь, я пришёл ( стихами и прозой, используя приёмы Назыма Хикмета)
Или - лирический роман: “Правила движения по временам”.
Эпиграф из Евгения Винокурова:
“Есть слово “я”. Оно во тьме недаром
К небытию испытывает злость.
Оно во мне. Оно одним ударом
В меня по шляпку вбито, словно гвоздь”.
Или - сосредоточившись на основном: человеческое (до лета 1953); Украина; начальное; прорываясь к классике; девочка с красной ленточкой (весна-осень 1960); ребячество под дубом; Регина; отложенный выбор (геология); в углу; выход…
Или - “Книга себя”: генеалогическое древо; школа: вид снизу; Маяковский; любовь; вера; надежда; школа: вид сверху…
Названия для глав: “Тогда, когда я ходил под стол пешком”; “А что за тем лучом?”; “День - существительное мальчишеского рода”; “Вверх и вниз по радуге”; “Королева не из книжки”; “Звёзды падают для людей”; “Каштаны нашей юности”...
И - побольше самоиронии, как у Маяковского в “Я сам”.
*
Берега и воды к нам радушны,
бодро греем кости на камнях...
По столу рассыпаны ракушки:
это память о часах и днях.
Было и добыто, и натащено:
пусть забвение грозит клюкой!..
Сколько раз из ящичков и ящиков
выметал недрогнувшей рукой
и часы, и дни, и даже годы,
полные загадочной трухи.
Механизмы смазанные, годные
разобрал на разные стихи.
*
Солнцем проявлена щедрость -
вниманием не обошло:
до того загоравшего тщетно
за пару часов обожгло.
Да так, что ни охнуть,ни ахнуть:
стянулся кожный покров.
Ношу в себе под рубахой
угли погасших костров.
Я изделие керамическое:
осторожно - не стукните!
Распадусь на осколки фактически -
вы заплачете, спутники?
В майском номере “Юности”: стихи Б. Слуцкого, А. Прасолова (“Звени! Звени! Я буду слушать - и звуки вскинутся во мне, как рыб серебряные души - со дна к прорубленной луне”; в стихотворении “Я хочу, чтобы ты увидала…” лучше было бы ограничиться первыми двумя строфами, потому что две следующие ничего не добавляют к сильно выраженному ранее; “И кисть малярная - как факел - у встречной девушки в руке…” - мне не хватает зоркости для таких чётких деталей, впрочем, мне страшно многого не хватает). А ещё там же повесть Г. Гофмана “Братья молодогвардейцев”.
*
Кружатся над поездом степные птицы.
К тебе было боязно подступиться,
но уйти от тебя не смогу и подавно.
В загорелых степях твой поезд дальний.
Качнётся уточкой месяц тусклый:
хотя б на чуточку меньше грусти!
Станет подушка лежачим камнем...
Вдруг ворот душный рвану руками:
рванусь на улицу, но это после,
пускай докрутится пластинка-осень.
*
Дома - слепые котята
с помутневшими окон зрачками -
к ладоням моим пустым, как к молоку, бредут.
Никем не читаемыми зрачками
заполнены длинные столбцы минут.
Стало больно смотреть сквозь мозаику капель,
руки дождей закрывают лица берёз.
Посередине дороги - на сердце похожий камень:
вот и мне встретиться с ним довелось.
Листья в кулаках, вроде воспоминаний, скомканы,
и ветер уже не устраивает зелёных оваций.
Входим с улицы в ещё не покинутые нами комнаты,
где лишь полотенца тянутся обниматься.
В свежем номере “Юности” стихи О. Чухонцева, В. Казанцева и - Гиколая Рубцова.
Убираю из стола школьное, ставшее лишним. Заодно и прочее детское переглядываю. К примеру, вот это: самые небольшие страны мира. Как же они меня интриговали! До чего же хотелось попробовать жить в какой-то из них: почувствовать - каково это, когда не в почти бескрайнем СССР, а в крошечном, но самостоятельном государстве обитаешь. Почти как в стране лилипутов…
*
Манили маленькие страны,
какое-нибудь Сан-Марино:
там только маленькие страхи
и не доходит до надрыва.
Базарная толпа галдела,
бродила девушка Марина,
и нами песенка владела
сильней, чем сигарет “Прима”.
Ещё два лета, и не станет
ребяческого беззаботья:
как ни прищёлкивай перстами,
пора соскакивать с забора.
Кто будет в лишних и ничейных?
Что станет яблоком раздора?
...Вадуц - столица Лихтенштейна.
А что в Андорре? Там Андорра.
Ночую в беседке, просыпаюсь рано, наскрёбываются такие-сякие строчки. Хочется что-то посильнее сделать - предотъездное, отделяющее бывшее от предстоящего. Есть название: “Бессонная поэма”. И несколько набросков, которые потом свяжу или не свяжу в единое целое.
*
Яблони заглядывают в окна -
сладким сном забыться не дают.
Под роскошною росою мокнет
незамысловатый мой уют.
Здесь не новы споры, ожиданья,
и бессонница здесь не нова.
Хорошо бы, бешено шагая,
находить великие слова…
*
Стол, три стула, низкая кровать,
окна - в них фальшивые глубины.
Снова стены бледно-голубые
примутся упорно упрекать.
Бледно-голубые, словно дымка
над границей моря и земли,
но в углах уж ткутся паутинки -
не для них будильник прозвенит.
Отражение луны на блюде,
а луна такая - раз в году!
Всё останется - меня не будет,
всё состарится - я не приду!
*
Кто собирает карты мира,
тому понадобится рюкзак.
Поезд ночной кричит, как кикимора,
как будто его начинают терзать.
Мимо стадиона и через парк
по привычке срезаю наискось.
*
Так бывает: просто позабудешь,
а тебе до смерти не прощается.
Не загладишь, а потом загубишь:
счастье разменяется на счастьица.
*
Так случайно или не случайно
повстречал тебя я на земле,
и деревья за окном качались
всё определённей и сильней.
*
Не будет ни кратких, ни долгих провожаний.
Оставлять ни на столе записку
о том, что бог знает куда уезжаю,
что не надо меня разыскивать?
*
Усядусь так, чтоб не видеть перрон,
чтоб не видеть: тебя там нет.
Семафор внимательно посмотрит вдогон,
и невольно проверишь билет.
Буфера, смыкаясь, по очереди лязгнут,
подбирая вагоны по одному.
Так начинается мой праздник -
еду навстречу ему.
_ _ _ _ _
1964 - 1966: Советск/Тильзит
2020-2021: Макеевка
ЮНОСТЬ - НЕ ПУСТЫНЯ
(сентябрь 1965 - июнь 1966)
/ Впервые не уверен, что соберусь, смогу завершить эту часть припоминаний. Рискну отправить на “стихиру” в том виде, как есть сейчас, в январе 2021… Если удастся, то позднее заменю черновой набросок на полный текст, а если нет, то, значит, нет./
Эпиграфы, открывавшие дневниковую тетрадь шестнадцатилетнего одиннадцатиклассника. Вполне в духе того времени, в духе максималистских настроений того книжного юноши, но посмею ли посмеяться над ними?
Можно бы всплакнуть, но куда уместнее просто помолчать….
“Кто не горит, тот коптит. Да здравствует пламя жизни!” Н. Островский.
“Что ж, что не все ещё дороги прямы! Будь сам прямым и напрямик иди…
Вся жизнь моя, каждый день её должен быть упорным продвижением вперёд”. В. Кубанёв.
“...победа тоже не пропуск в царство покоя, сна. Она - лишь мгновение жизни. А жизнь - вечное кипение. В нём и в нежном трепете струны, что соединяет два сердца, - радость и счастье. Живи грядущим, настоящим, а не созерцанием того, что уже за плечами. Жизнь - в бою, а не в подсчёте трофеев”. Ю. Мушкетик.
На обложку тетради приклеен старательно перерисованный тушью рисунок Маяковского - “Человек идёт за солнцем”.
Добавлю пару эпиграфов от себя нынешнего. Этот - из “Самопознания” Николая Бердяева, считавшего память самой таинственной силой в человеке:
“В памяти есть воскрешающая сила, она хочет победить смерть. Память активна, в ней есть творческий преображающий элемент…”
“Как можно регулировать, что нужно помнить, а чего не нужно? Нет у человека такого регулятора…” В. Киселёв (“Воры в доме”).
Ну, дальше как обычно: дневник, письма, стихи и сновидения.
Сентябрь
Торжественная линейка состоялась после пяти уроков. Мы церемонно вручили цветы и напутственные открытки первоклассникам. Изнывая в костюмах от нахлынувшей жары, долго слушали хриплые неразборчивые речи наставников. Что-то разболталось в репродукторе, в звукоусилителе. Задний школьный двор, в обычные дни неприглядный и неприветливый, теперь расцвёл пышными увядающими на глазах букетами. Чего-то особенного недоставало в этом празднике…
Сходили с Ромским в горбиблиотеку, в книжный магазин. Проводил его на автобус, а сам заглянул в редакцию. Багонин усадил за написание заметки о первом школьном дне…
Вечером в который раз переделал “Вдохновение”: чем больше над ним колдую, тем меньше в нём следов этого самого вдохновения.
*
Голуби в голубом
мареве крылья полощут:
в высь врезаются лбом,
хлопоча суматошно.
Вкручиваются винтом,
воздух сминая с хрустом.
...Голуби были. Потом
стало особенно пусто.
От моей восторженно-размашистой заметки в публикации остались только самые штампованные фразы.
От Солоницына пришёл обескураживающий ответ на отосланные в августе стихи. Он их попросту отверг: я топчусь на месте, повторяюсь; мои белые стихи вовсе не белые; слишком много “сумбура, сутолоки строк”; мало находок, много неточностей. А закончил суровую отповедь так: “Мучайся, когда работаешь. Иначе ничего толкового не получится”. Неприятно признавать, но он прав.
Написал “Ромашки”. Попытался вывернуть банальное так, чтобы выйти на свежее. По цветам гадают о судьбе, доверяя им решение, и они становятся шестерёнками судьбы. Оторванные и отброшенные лепестки как неиспользованные, утраченные возможности. Отломанные зубцы шестерёнок уже никогда не войдут в сцепление, не потянут за собою…
Стою подолгу на балконе, уминаю груши, посвистываю, поглядываю, так сказать, вдаль и на прохожих. Особенно на девчонок моего возраста, но такие тут проходят слишком редко. Вот куда мои шестерёночки непрменно меня вытаскивают, подкручивают - к мыслям о “единственной”.
На днях завернул в читальный зал горбиблиотеки с преступной целью: вырезать из подшивки “Калининградского комсомольца” мою балладу - мою первую публикацию. Бритвенное лезвие не жгло моих пальцев! Но сперва ознакомился со всей третьей полосой, в верхнем левом углу которой и размещалась баллада - узеньким длинным столбцом. Интересно, сколько людей обратили на неё внимание, прочитали в этой подшивке? Хоть десятеро наберутся?
В зале пусто, если не считать двух девчонок впереди: шушукаются, посмеиваются, что-то выписывают из книг. Из нашей школы, между прочим, девятиклассницы. Обе симпатичные, с короткой стрижкой, но мне больше нравится светловолосая…
Знакомство можно было бы начать броско - с предъявления публикации (и “моя фамилия - в поэтической рубрике”), разумеется, с юмором, но и со значением. Но дело уже сделано: лезвием чикнуто четыре раза. Вырезка спрятана в блокнот, в котором я как бы что-то выписываю из свежего номера… На самом деле там повторяется фраза: “Подойти или не подойти? Заговорить или не заговорить?”
Выяснилось, что они готовились к сочинению по литературе - “Какие книги не умирают?”. Зашла речь о Есенине. Я тут же отрёкся от него, противопоставив ему Маяковского. Однако предложил свою помощь. Девчата улыбчиво, но решительно отказались. Тогда я предложил соревнование: кто быстрее напишет. Схватил листок и принялся катать. В общем вёл себя и смешно, и глуповато, но уж очень хотелось именно им приглянуться, поэтому из кожи вон лез, чтобы казаться весельчаком… Отдал им листок, раскланялся и выбежал.
Классное отчётно-выборное комсомольское собрание: сначала хвалили друг друга, потом критиковали друг друга. Сошлись на том, что признали прошлогоднюю нашу работу удовлетворительной. Меня выбрали редактором стенгазеты. Дома развернул самую бурную деятельность. Основа первого номера готова: ракета разрезает лист надвое, уносясь “в просторы”. Заглавие: “Старт в жизнь”. Разрисовал, а после дошло: значит, теперь мы не живём ещё? Думаем, чувствуем, спорим, переживаем, учимся, но это ещё не сама жизнь? Так ли? Не потому ли нас и задевает взрослое высокомерие, что мы не хотим себя считать недотёпами?
Впервые сходил вечером на математический кружок: Роза начинает нас всерьёз натаскивать к экзаменам. А я, сказать по правде, отстал сильно.
Прочитано: С. Есенин, собрание сочинений в 5 томах (самый сильный - второй: зрелые стихи, “Пугачёв”; много яркого в третьем: “Чёрный человек” и не только; прозу не принял, раннее творчество тоже не очень, надо будет вернуться).
И. Ефремов, “Час Быка”: “Целенаправленно ложь тоже создаёт своих демонов, искажая всё: прошлое, вернее, представление о нём, настоящее - в действиях, и будущее - в результатах этих действий. Ложь - главное бедствие, разъедающее человечность, честные устремления…”
Газета “Правда” и в 1934, и в 1937, и в 1949, и в 1956, и в 1961, и сейчас называлась и называется “Правдой”. “Комсомольская правда” тоже… Но какие же это разные газеты! А какими они будут через десять лет, через двадцать, через полвека?
Если нас к 1937 было 160 000 000, то при аресте одного из ста, число арестованных составит 1 миллион 600 тысяч, при аресте двоих из ста - 3 миллиона 200 тысяч.
Как ни мудрить, начало все нашей трагедии, которая названа “культом личности”, находится в самом Сталине. Но не только в нём, а в сотнях и сотнях тысяч сталиных местного масштаба.
Был ли он революционером в самом прямом и простом значении этого слова? Если нет, то и говорить особенно нечего: “враг народа”, “агент империалистических разведок”, “изменник Родины” (как клеймили убиаемых в тридцатые годы) напрямую можно отнести и к самому Сталину.
Если же да, то - каким революционером? До какого момента?
Ягода, Ежов, Берия… Если бы так случилось один раз, то можно было бы рассуждать об ошибке с кадрами или о враге, втёршемся в доверие. Почему именно такие люди оказывались во главе всевластных органов? Их словно бы специально находили и вытаскивали наверх, чтобы после того, как они совершат необходимое (кому?) кровопролитие, убрать, вычеркнуть...
Октябрь
*
Есть название - “Юношеская поэма”. Начинаю складывать текст. Может, вот это в начало поставить?
Алфавит. Автоматная очередь.
Стайка спугнутых птиц.
И бросается в очи ведь,
что не стало границ.
Может быть, опрометчиво?
Поздно воду толочь,
если, будто разведчики,
буквы двинулись в ночь.
Прочитано: Б. Полевой, “На диком бреге” (самые разные герои плывут на теплоходе по сибирской реке, на которой развернулась огромная гидростройка, потом действие ускоряется пожаром, сшибка характеров, их самораскрытие и так далее; последнее, что у него читал года два тому, повесть “Золото”: 1941, старик и девушка - работники городского Госбанка, на их долю выпадает уволочь из-под носа фашистов 17 килограммов золота… опасная дорога к партизанам, потом уже одна Муся тащит груз сотни километров до фронта…).
Как Сталин на самом деле относился к Ленину? Ведь понимал же он, что совершенно извратил ленинские заветы? Или он так их и понимал?
А ведь Ленин видел червоточину в нём и предвидел опасность, скрытую в нём, предупредил о ней в обращении к партии. Почему не прислушались? Что-то неправильное было в ней самой?
По-моему, Сталин презирал рукоплещущие массы. Именно за то,что они готовы на всё во имя него: отказаться от себя, от своих близких, от самого святого… Они не могли поступать так, как он. Но ведь и он не мог поступать так, как они…
*
Математикой не отравленный
(от загадочных знаков першит),
я решил задачу неправильно,
главное, что решил.
Уравнение не заборе
и такое же на снегу:
стало меньше одной заботой...
И сбежал бы, да не сбегу.
Читаю М. Горького, роман за романом: “Фома Гордеев”, “Жизнь Матвея Кожемякина”, “Дело Артамоновых”. Начинаешь жить в этом мире людей, говорящих с тобой на одном как бы языке, но живущих совершенно иначе: жестоко, душно, страшно. И ведь это в начале того же века, в котором живём мы.
*
Люблю красивые слова -
от некрасивых сводит скулы:
у них конструкция слаба,
они на откровенья скупы.
Вот флибустьеры - это да,
не убеждайте - мол, пираты.
Произнесёшь - и вмиг борта
гремят от пушечной тирады.
Прочитано: мемуары А. Игнатьева (графа, царского генерала и советского дипломата) “Двадцать лет в строю” (в двух томах).
А что такое “личность”? Личностью способен стать тот, у кого есть за душой личное, особенное, неповторимое, единственное в своём роде. И он проявляет это особенное, защищает его, делает содержанием всей своей жизни. Личность - исключение из правила. За это на такого человека обрушиваются гонения, его могут и на костре сжечь, но то, что делало его “личностью”, не сгорает вместе с ним. Личность может притягивать или отталкивать тех, кто вокруг. Этим определяется величина личности. Историческая личность влияет на ход событий, организует их. “Юноше, обдумывающему житьё, решающему, сделать бы жизнь с кого, скажу не задумываясь: делай её с товарища Дзержинского…” По-моему, как раз юноши с задатками личности не задумываются, “с кого им сделать жизнь”, а делают свою жизнь, ни на кого не оглядываясь, самостоятельно…
Кстати: Ягода, Ежов, Берия и прочие следовали ли Дзержинскому в своих злодеяниях?
Исторический деятель и историческая личность - это одно и то же?
Прошёл всего лишь год, а ни одна газета больше не цитирует Хрущёва. Значит ли это, что всё, что он говорил, было неправильно, шло вразрез с коммунистическим учением?
Ни о чём таком на уроках обществоведения мы не говорим. Что удерживает меня от того, чтобы спросить об этом нашего Бирковского? Он умный человек, у него, конечно же, есть свой взгляд, своё отношение, но поймёт ли он меня, согласится ли со мной? Или оборвёт на полуслове. Мы оба верим в коммунизм, но почему-то не можем быть откровенными…
Не потому ли и многие свои стихи я не показываю никому? Трусоватая осторожность.
*
На заборе написано:
“А + Б = Л”.
А вот чёрта вам лысого:
на трубе не осталось дел?
Сроду не уважал признания,
сделанные на асфальте или на стене.
Осыпаю морозом презрения:
эти прописи не по мне!
...Почему ж, от стихов отрывая,
карандашик украдкой тащу:
торопливо у самого края
своё заклинанье пишу?
Ноябрь
*
Как же он прост, этот вопрос,
когда не себе задаёшь,
а так он заноза из всех заноз -
не вырвешь, не извлечёшь.
Подумаешь, фраза из тысячи фраз -
легко даётся другим,
но это ж зараза из всех зараз,
когда отвечать самим.
Взялся за большое собрание сочинений Маяковского: буду прорабатывать том за томом. Два уже проработанных тома = двум прожитым годам (таково ощущение).
*
Простыня - не пустыня,
да и я не верблюд.
Если мама простила,
и другие поймут.
Лишь бы сам не зарылся
в облака с головой,
лишь бы сам не закрылся
ото всех - пеленой.
В передачах “Радиостанция “Юность” часто передают студенческие песни. Вот одна из них: “Убегу - не остановишь, потеряюсь - не найдёшь: я нелепое сокровище - ласкающийся ёж… Вверх по лесенке позвольте пройти, любимой песенки замучил мотив… Голова закружится, будто во хмелю. Люблю по лужам, по небу люблю…” И другая: “Люди идут по свету,им, вроде, немного надо, была бы прочна палатка, да был бы не скучен путь… Но грустная нежность песни ласкает сухие губы, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят…” И ещё одна сразу легла на душу: “В ночной степи ни тропок, ни дорог, лишь ветра одичавшего порыв. Земля умчалась прямо из-под ног, нас в небе августовском позабыв. А мы её не будем звать назад: пускай летит, у нас иной маршрут. Мы не имеем пра опоздать: за нас друзья волнуются и ждут…”
*
Всё реже встречаю раздел:
“Борцы за великое дело”.
Железное слово - расстрел -
слишком чёрное, если на белом.
Заметки все до одной
заканчиваются невесело -
припечатаны общей плитой:
“Пал жертвой репрессий”.
Перебираю, над столом вися:
вырезкам в пухлой папке тесно.
А вдруг революция вся
пала жертвой репрессий?
Прочитано в журнале “Юность”, №№ 1 - 5 за 1964: стихи Э.Межелайтиса, поэма Б. Ахмадулиной “Моя родословная”,повесть Я. Голованова “Кузнецы грома”; стихи Б. Окуджавы, искусствоведческий очерк Л. Волынского “Зелёное дерево жизни” (импрессионисты!); Юрий Пилляр, “Люди остаются людьми”, вторая книга; стихи Р.Рождественского, Е. Винокурова, повесть Б.Никольского “Триста дней ожидания” (солдатская служба на станции слежения в Заполярье (серьёзные происшествия заканчиваются хорошо, вообще чуть ли не лирично всё описано, - и я мог бы там отслужить положенное через два года, если не поступлю, но ведь я поступлю?); стихи Ф. Искандера.
Декабрь
*
Толковый урок - физика:
массы, энергии, силы.
Ты близко и даже близенько,
а стрелки сошлись и застыли.
Пора сдавать, а я бестолковый
рядом с формулами рисую:
в тёмной шали ты на балконе
сам я - с гитарой - внизу.
Сопротивлений в цепи слишком много?
Не вмыкается схема хитрая.
Физика для тех, кто мыслит строго,
а мне по душе... химия.
В военном книжном (это на Победе узкий магазинчик: чуть ли не от самых дверей книжные полки слева и справа, посреди - длинный прилавок, на нём тоже выложены книги, много продукции “Воениздата”, поэтов и писателей в погонах) купил новенький двухтомничек Леонида Мартынова. Сразу на улице стал листать, ища знакомое, выхватывая незнакомое. “...вдруг видно всё, чему ещё не верят к вчерашнему привыкшие глаза, чего вершки вчерашние не мерят, вчерашние не держат тормоза…” “О, крохотные бюстики великих, ни на вершок не свинутые с места! Как благонравен коллективный лик их, - из одного как будто слеплен теста…” И поэмы, написанные нестерпимо длинной строкой, - их ещё предстоит освоить. Одна так и называется в лоб: “Поэзия как волшебство” - о Бальмонте и его брате.
*
Мамиными стараниями,
под её руками шершавыми
цветы раскустились престранные
и в воздухе мягко зашарили.
Не знали визгливой вьюги,
осени гиблой не знали.
Просто обычный угол
был мягкою зеленью занят.
В ящиках и горшках,
застыв, потому что вкопанные,
фикусы исподтишка
поглядывали в окна.
Дивились деревьям голым,
ценили тепло.
Алоэ колючие головы
задирали, стучась в стекло.
Комнатная свобода:
и олеандрам нервным
достаточно водопроводной
и земли, что скупо отмерена.
Читаю “Избранное” Твардовского. “Дом у дороги” воздействует сильнее, чем “За далью - даль”: и поэтически, и по-человечески.
Читаю: Лев Кассиль, “Маяковский сам. Очерк жизни и работы поэта”; Виктор Шкловский, “О Маяковском”.
*
“Вышина. Глубина. Снеговая тишь.
И ты молчишь…”
Это Блок. Это эхо чердачных ниш,
черепичных крыш.
Небо в городе - вырванный синий клок.
От чего себя остеречь?
Это Блок. Предисловие и эпилог
наших нескольких встреч.
Прочитано №11 “Знамени” за 1963 год: поэма А. Вознесенского “Лонжюмо”.
“Радиостанция “Юность”: поют студенты. “Когда зимний вечер уснёт тихим сном, сосульками ветер звенит за окном, луна потихоньку из снега втаёт и жёлтым цыплёнком по небу идёт. А в окна струится миреневыц свет, на хвою ложится серебряный снег…”
*
Ночь на город, как маска, натянута:
уши заячьи, волчья пасть.
Открывается сказка обманутым -
обманувшим туда не попасть.
В январе начинаешь заново
обретать естество:
привыкаешь себя обманывать,
точно белка, попав в колесо.
Новый год - перекладины прежние:
чем шустрее перебирать,
чем к успеху стремиться прилежнее,
тем скорее привыкнешь терять.
Прочитано: К. Паустовский, “Книга скитаний”. Теперь опять с первой книги начну перечитывать всю эпопею (пусть критики её таковой и не считают). И вообще не хочу, чтобы она завершалась началом тридцатых годов, а длилась и длилась - до наших дней. Ведь он жив и видит то же, что и мы, только совсем не так, как мы.
А “Книга скитаний” начинается со строк Марины Цветаевой (“Воспоминане слишком давит плечи, я о земном заплачу и в раю…”), а на последней странице звучит крепкая строфа Павла Васильева. Это так дорого мне!
В среду ушёл с физкультуры и до начала шестого проторчал в комитете над огромным праздничным номером стенгазеты. Хочется, чтобы именно огромная и чтобы неповторимая. Две девчонки помогали разрисовывать пространство между колонками стихов и заметок. Заглянула Лариса. Мы как раз о будущих профессиях речь завели. Я возьми и ляпни, мол, знаю о мечте Ларисы стать космическим инженером. Она вспыхнула, отрезала, что наврала, лишь бы я отвязался. Фыркнула, ушла…
Неужели я настолько привык к бездружию и безлюбию, что обречён на одиночество?
Вчера фантастическим образом попал на олимпиаду по физике. Хоть каким-то чудом вытянул её на четвёрку, на самом деле давно утратил всякую реальную связь с предметом. Списал у Корытникова ползадачки, а в остальное время клоунничал, пошучивал, читал прихваченную книжку стихов. Корчил из себя неунываку, поглядывая на сидевшую в соседнем ряду Ларису…
Вечером смотрел спектакль: мешало обилие слишком патетических восклицаний, слишком литературной речи… Словно бы откликаясь, до половины первого написал большую часть новой поэмы. Она задумывалась как очередное большое стихотворение, но намеченные рамки явно оказались тесными.
Нередко слышим высокомерно бросаемое: “Это всё высокие слова! А жизнь - иное”. Но разве поэзия - это не жизнь? А ведь она вся на высоком строе держится.
Новогодний огонёк до полуночи и после неё. Смотрели с мамой, потом один остался. Космонавты… Серго Закариадзе (“Отец солдата”). Майя Плисецкая. Ирина Бржевская. Тарапунька и Штепсель (хлёстко насчёт министерства хорошего отношения к людям: к комедиям Маяковского возвращает). Анатолий Соловьяненко: голос! Михаил Ульянов (“Председатель”). Райкин: монолог и диалог. Человек-театр. Николай Сличенко: цыганский романс и “Очи чёрные”. Лев Барашков: “Есть у лётчика мечта”. Во второй части: Райкин (“Как вспомню, так вздрогну. Как вздрогну, так мороз по коже…”). Квартет “Улыбка”: песня о пингвинах. Лариса Мондрус… Ещё и ещё Райкин, и всякий раз неожиданно раскрывается. Эдуард Хиль: “Это было недавно”. Незабвенная троица: Никулин, Моргунов, Вицин.
Майя Кристалинская: “Аист”. Муслим Магомаев: “Шагает солнце по бульварам…” И не только они. В хорошей компании проводил старый и встретил новый год, особенный для меня.
1966
Январь
Читаю: Илья Эренбург, “Люди, годы, жизнь”, 3 и 4 книги (первые две печатались в трёх номерах “Нового мира” за 1960 и в начале 1961, их давно уже нету в библиотеке: стащили). Это не просто воспоминания: если бы эпоха могла говорить о себе сама, это была бы её автобиография. Сколько имён обрушивается: в литературе, в искусстве, в политике! О некоторых даже не слышал, а теперь понимаю, что без них просто никак дальше нельзя. Составлю список и буду искать всё о каждом.
Оформил и “выпустил” третий сборник стихов: “Баллада о нас”.
*
Под колёса и под ноги брошенный,
снег - самый дешёвый продукт.
К тебе не приду непрошеным,
незваным к тебе не приду
Здесь как раз половина дороги,
даже если проделать крюк.
Не зовёт никуда, не торопит
виадук, молчаливый друг.
Аккуратное снежное крошево
подо мною лежит на виду.
Я сюда прихожу непрошеным
и незваным отсюда уйду.
Неплохая фамилия для не очень хорошего героя с вызовом: Вдохновеньев.
*
Меня не пугает парк безлиственный,
в котором трудно приметить диковинку.
Вдогонку ветру кричать бессмысленно,
ещё бессмысленней тебе вдогонку.
Согласен вальсы столбам высвистывать,
в стоге готов отыскать иголку.
Вдогонку ветру кричать бессмысленно,
ещё бессмысленней тебе вдогонку.
Опять сдаётся зима без выстрела,
просто укладывает котомку.
Вдогонку ветру кричать бессмысленно,
ещё бессмысленней тебе вдогонку.
№№ 6 - 12 “Юности” за прошлый год: стихи Н. Рубцова, Г. Бокарев, повесть о молодых рабочих - “Мы”; стихи Р.Рождественского, А. Жигулина; повесть Василя Быкова “Западня” (фронтовая повесть, я таких ещё не встречал); стихи А. Вознесенского (“Тишины хочу, тишины нервы, что ли, обожжены…”); повесть А. Приставкина “Селигер Селигерович”; стихи Е. Винокурова; повесть В. Амлинского “Тучи над городом встали” (тыл, эвакуация, школа, “весна сорок третьего года только начиналась...”): стихи о. Берггольц, молодых поэтов-ленинградцев; повесть А. Битова “Такое долгое детство”; рассказы В. Аксёнова, стихи Б. Окуджавы (“Пока Земля ещё вертится, пока ещё ярок свет…” - переписал и выучил).
*
Родство, уродство, воровство:
набор бессвязный привязался,
как будто погружал в раствор,
чтоб я бесследно растворялся.
Уродство, если нет родства:
ремня, на коем правят бритву.
Приходит время воровства:
воруешь ритм, размер и рифму.
Живёшь с ворованным, пока
своё в тебе не отстоится,
но это не наверняка:
как повезёт, так и случится.
*
Океан припрятал свой задор,
когти подобрал и не грозит клыками.
Вместо океана - коридор,
репродукция в дешёвой раме.
Мореплаватель к песку припал,
выбился из сил первопроходец.
Дышит притаившийся провал,
а тебе мерещился колодец.
*
Брат-писатель твердит: “Ерепенитесь!
Поскромнее будьте, юнцы!”
Что мне делать, когда нетерпение
распирает во все концы?
Я боюсь не успеть за весною,
за летящим по ветру днём,
я чего-то опять не усвою,
расшибаясь о стену лбом.
“Юношеская поэма” (октябрь 65 - январь 66).
Покуда человек щекотится и раздумывает над собой,
на него отовсюду с неимоверной быстротой
надвигаются волны житейских мелочей,
и захлёстнутый ими - он кто? он чей?
(Перефразируя М. Е. Салтыкова-Щедрина -
“Господа Молчалины”.)
1
Постой-ка, парень, кто ты такой?
Давай-ка заполним анкету:
имя, фамилия, пол мужской…
Но прочь канцелярщину эту!
Далее без крикливых прикрас
и без ехидных сплетен:
я один из миллиона вас -
юных, шестнадцатилетних.
Считают, что возраст наш
сплошная лучезарность и легкомыслие.
Пусть главы, взятые на карандаш,
как вёдра на коромысле,
не расплескав, донесут своё
до каждого собеседника.
Клянусь, это не просто словьё,
подстать пересудам соседкиным.
2
Пожалуй, рано за мемуары браться:
пока вмещаемся в анекдот.
Можно вольготно болтаться паяцем,
а будущее, оно не завтра придёт.
Можно клепать кроличьи клетки:
дело не плоше многих.
Но как позабыть, что мы наследники
революционной эпохи?
Кому ни скажи - кривятся,
спасибо - не крутят пальцем у виска.
Просто таскаем плакаты на демонстрациях,
не заносясь в облака?
Мы проживаем слишком подробно
каждый из взятых в отдельности дней.
Судьба наделила большой тревогой
за целую землю, за жизнь на ней.
3
Есть у человека такая потребность -
высказать себя дотла кому-то,
не заикаясь о насущном хлебе
и не барахтаясь в пошлости мутной.
Можно и так, через боль перешагивая,
чужое доверие разрушивая,
и тает на глазах надежда жалкая,
что больше нету былого бездружия.
Я, наверное, был в тот час смешон,
чуть похож на сумасшедшего был,
когда воспарял, оттого что нашёл:
на плече почувствовал руку судьбы.
4
Нынче слишком метелью наверчено.
Дремлет город, в сугробы одет и обут.
Ты глядела так недоверчиво:
думаешь, в сказках я ни бум-бум?
Будет диво - куда оно денется? -
и в неволе у чуда-юда,
как положено, красная девица,
добрый молодец тоже будет.
А пока на окраине где-то ютится
сердце поэмы, стрелой пробитое.
Кто бы живой притащил водицы
из родника у куста ракитова?
5
Сколько всего человеку надо?
Каждому надо столько,
чтобы хватило для склада и лада
и сверху ещё стопка.
Или напёрсток, или пушинка,
с которою полный ажур.
Беда: эталонного нету аршина,
у всякого свой прищур.
От пращуров это, от бабки и деда,
странно: я вырос без их присмотра.
С первого класса слыл всеведом,
из абзацев и литер собран.
Я и маленьким нюнился чаще, чем нужно,
и эта тяга к нахмуренности
в страсть перешла натужную
к поэтическим премудростям.
Стихами исчёркивал клочки бумаги,
хоть видел отчётливо: этого мало -
ничтожно мало копаться в истории,
точно в ржавом металле искать подспорье.
Я буквально купался в словах,
особенно в тех, что с блеском,
готовый платить сполна,
как мушкетёр за подвески.
Ковал и клепал про всё подряд -
самозабвенно и бесполезно:
исчезали строфы - за отрядом отряд -
безвестно и бестелесно.
6
И последний лист запоздалый
метнулся с ветки родной.
Меня опять освистали,
не взглянув, что главный герой...
У тебя всё дела, дела:
тебе секретарствовать надо.
В сторонку меня отмела,
как ненужную пока помаду.
В памяти картинка пляшет:
мероприятийного толка вечер
тащился, как тощая кляча,
скукою изувеченный.
Я тупо смотрел на стену,
а на ней: “Носите с честью имя…” -
и не мог разобрать, глазами пустея,
имя, нашлёпанное красками густыми.
Заугольной стычки тёмная сцена:
я снова не на высоте.
Какова цена желаемого целого,
если не соответствуешь своей мечте?
Чего же стоишь, когда,
сколько в стихах ни пыжишься,
боишься удара, боишься стыда
и вообще боишься?
И вновь - от ворот поворот,
а большего, значит, не стою.
Ушёл шестнадцатый год
дорожкой кривою.
7
Кто бежит в толпу и прячется в ней -
я же удрал в одиночество:
мне отсюда наглядней, то есть видней
вымученность моего творчества.
Ты сказала, что я невозможный чудак:
всюду нахожу непонятное, сложное,
а жить надо просто - этак и так.
Но ведь не всё по полкам разложено!
И не всё развешено горстками,
как в детстве играли, деля кашку.
Я бы, может, и рад относиться попросту,
но это даётся не каждому.
8
Крепнет с давнишним сцепка -
с раствором ведро подай:
растёт шлакоблочная стенка -
наш дровяной сарай.
Скребёт штыковая лопата
по дну дощатого короба.
Идёт штыковая атака -
против какого ворога?
Ведь должен смысл движения каждого
жечься, будто крапива.
Мне справедливо укажут
(или всё же несправедливо?):
“Живёте на всём готовеньком -
погодите, жизнь обломает:
пообтешет сучки и задоринки -
повзрослеете мало-помалу”.
И хотел бы ответить резче:
мол, проживём по-другому,
да по сути отрезать нечем,
остаётся жевать солому.
9
Не смешной, не остряк, не ворчун -
ты не знаешь меня: я другой.
И отныне, как счастья, хочу
быть только самим собой.
А это не шутка, не дважды два,
если свыкся и сросся с маской,
если прячешься за слова,
а они бесстрастно-прекрасны.
Во мне двое бьются, как об стенку башкой,
отвергая сходство, избегая скотства:
один из них смелый, честный, прямой,
другой шесть лет, точно студень, трясётся.
Как суметь быть только с первым вровень?
Я мечтал: только хорошее пусть!
Я старался не замечать второго,
а не замечал того, что сдаюсь.
Хватит: наотшельничался, насиделся в углу,
но если выбраться в люди,
то там ни гу-гу и с тем ни гу-гу,
а то жареный петух клюнет.
Поле будто бы выписано мелом:
на доске ночи - бледным заревом.
Я своё “я” разобрал на мелочи -
начинаю собирать заново.
10
В твистах рассвистывать свою молодость,
из ершистых вырастать в покладистых -
угодливо расшаркиваться перед подлостью,
на высокое только осклабиться?
Или, изнурясь борьбою бесплодною
против очумело-вздорного,
отупело захлёстываться водкою
до состояния живодёрного?
Ведь с нами такого не может случиться,
мы же заговорённые?
В какую дверку сердце стучится,
в наглухо затворённую?..
В изголовье Рима выла волчица,
потому империя пала.
Наш коровий мир кормится и плодится,
не зная пятилетнего плана.
За утро с Ромским вскопали делянку:
здесь будут роскошные гряды.
Прилегли и прикидываем на полянке:
что для полной радости надо?
Чтобы вся как есть Латинская Америка
была как свободный остров.
Чтобы Африка вся - от берега до берега -
сама решала вопросы.
Чтобы все на земле ушли от неволи,
чтобы атомный гриб не качался:
так уходят влюблённые от погони
и замирают от счастья.
Чтобы коммунизм и, конечно, Марс…
Тут мы ещё наддали:
чтобы девятиклассницы уважали нас
и не смели смеяться над нами.
А что если б Колумб не доплыл -
что ещё придумали б майя?
А инки, ацтеки - во что свой пыл
воплотили бы, процветая?
Чего-то ещё недоставало,
чтобы во всём разобраться с людьми...
Когда очнулись, корова мычала:
её донимали слепни.
11
Дождями раскосыми
земля засеяна.
Ты пришла вместе с осенью,
но совсем не осенняя:
вопреки календарям,
расчерченно-строгим,
в разгаре октября -
апрель вне сроков...
Дни за днями гурьбою:
спешат следы на снегу.
Гонюсь за тобою,
а догнать не могу.
Я один, а тебя нет и нет,
и по сердцу все кошки мира скребут.
По жухлым листьям от берёзы к сосне
вымеряю свою судьбу.
Может быть, в этом самом углу,
где не сразу начнут искать,
револьвер, приставив к виску,
гимназист перестал тосковать.
Запустение, нищая жуть,
арматура, торчащая грубо:
серый, блёклый парк обхожу
по седьмому кругу.
12
Это всё. А может, не всё?
Обойдусь без фальшивой блажи.
Ожидания и надежды - в песок,
и прямее, точнее не скажешь.
А что дальше? Стоит ли рыпаться?
Вдоль надоевшей до чёртиков тропинки
снег протухший, как белорыбица,
и рифмовать, её-богу, противно.
Небо замороженное или заворожённое:
плотно укрыты звёзды пылкие.
А это что ещё за воробышек?..
Звякают слова, как монетки в копилке.
Куда торопиться? Поторчу у депо:
о чём бормочут паровозы чумазые?
А эти двое в немодных пальто -
им торопиться некуда разве?
Грустно и до нелепого пусто.
Подмывает запеть первое попавшееся.
В какой куплет втиснется чувство,
в лунном свете себя искупавшее?
13
Вдруг стало жарко даже декабрю:
сугроб расстёгивает за сугробом.
Иду к тебе: убраться подобру
да поздорову даже не попробую.
Что на лице написано моём?
Что на домах и улицах начертано?
Могли бы прочитать вдвоём:
зима не тайна же врачебная?
Навстречу влеклась старушка,
кошёлку несла бережно.
Заметив меня, струхнувши,
укрылась за голое дерево.
Не рассмеюсь: чересчур задумчив,
погружён в дороги, тревоги, разлуки.
Какие-то вихри, какие-то тучи:
одно настоящее - наши руки.
Согласен, я выражаюсь коряво.
Послушай Блока - нет резче света:
“Только влюблённый имеет право
на высокое звание человека”.
14
Из желторотости себя выломав:
хватит попрекать нас наперебой -
плывём по воздуху стылому
за разомлевшей зарёй.
Завещаем глухие дворы и песочницы:
больше нечего пока завещать.
Доказать основательность хочется:
мы знаем, что защищать.
Дождь отбренчал сырое сольфеджио
на кривых желобах цинковых.
Даже лужи кажутся нежными,
словно вывели циркулем.
И ловим себя на щемящем,
отсюда куда несущем?
Наверное, это щенячье,
да главное, что не сучье.
Возможно, не все достигнут, дойдут,
до седины доживут ковыльной.
Не таковые какие-нибудь,
мы всё-таки штыковые.
Не каприз и не поза - характер
в общем потоке шествий.
Нам бы себя истратить
не на пустом месте.
15
В год, когда началась мировая война,
достроен был этот дом,
в котором сижу возле окна,
отстранив недочитанный том:
четырнадцатый продолжается год,
юнцы сбегают на фронт,
им хочется большего - время даёт
столько, что невпроворот.
Кто-то из них без руки придёт,
кто-то с обрубком ноги.
Кто-то опишет, должно быть, приврёт
об этих или других.
Каждому поколению - свою войну?
Намотаться на ленту липкую?
Нам бы великую стройку одну,
но без обмана великую.
Чтобы осталась одна на всех,
видимая из космоса.
Или на всех не хватает вех,
вместо этого скука несносная?
Как хорошо, что не знаем сейчас,
сколько жить предстоит.
Как хорошо, что не знают нас,
а то бы замучил стыд.
16
Из круглого детства у доброй реки
с неказистым названием Шиша
выходим в круглые дураки,
стремясь забраться повыше.
Пускаемся, вымкнув настольные лампы
(подписью текст скреплён),
за любимой вдогонку, за громкою славой,
за трудным таёжным рублём.
Чем запомнится шестьдесят шестой?
Тем, что ушли, не оглядываясь?
А я оглянусь, зажимая рукой
рот, из какого не рвётся радость.
Верить в себя и не верить себе
уравнение с тремя неизвестными.
В голой степи, как на голом столе,
сердцу становится тесно.
Чацкий в столице, в метели Гринёв:
выбраться или выбиться?
Путь, уводящий из наших краёв,
мерещится или видится?
Прав тот, кто способен встать на колени,
чтобы слышать, что скажет калека.
Человек начинается с легенды,
как вселенная - с человека.
_ _ _
Это поэма (ну, поэмка)? Или очередной слитстих? Всё равно. Это составило четвёртую самодельную книжку.
В №1 “Юности”: стихи Л. Мартынова, А. Жигулина; “Стихи об Италии” Евтушенко; рассказ Булата Окуджавы “Промоксис” (нет, так нельзя: обычные люди, обычный дачный посёлок, обычная электричка,обычная драка с разбирательством в обычной милиции, но описано так, словно это всё вообще не в нашей жизни и не в нашем свете, и никакой идеи, а только гитара (“кифара”) сама по себе звенящая…).
Февраль
Прочитано: Артём Весёлый, “Россия, кровью умытая” и другие произведения, изданные тяжёлым томом - надгробным камнем над отсутствующей могилой: где закапывали тайком их, расстрелянных в годы сталинщины? Он писал про Россию революции и гражданской войны, а ей предстояло ещё много раз умываться кровью - всю первую половину века.
Очень необычная проза. Напрашиваются слова: хоровое исполнение, оратория, симфония, но и они очень приблизительные.
Оформил и “выпустил” пятый сборник - “Флибустьеры”.
*
Снег зимою всего беспечнее:
не ограбят, не украдут.
Я приду осторожным вечером -
ничего, что я вновь приду?
Знаю, знаю, что ты не выгонишь:
у ослепшего сядешь окна -
над бесконечною книгою
невозмутимо одна.
Будешь ты. Будет так. А наутро -
мелких радостей скучный делёж.
Забывать - это тоже наука.
Ты старательно преподаёшь.
*
Поэт Вознесенский предан параболе:
ею пронизан том.
Я вверх и вниз пробегаю по радуге
за день разиков сто.
Вниз по лестнице - в комитет,
вверх по ступеням - в класс.
Тревожно, если тебя нет,
радостно в свете твоих глаз.
Может, не я, а мои стихи
выдумывают про любовь:
я в них занимаю не больше строки,
тебе - весь букетище слов.
В “Знамени коммунизма” за 20.02 в разделе “Стихи наших поэтов” есть и моё:
“Холм опрокинулся кружкой…” - под дурацким излишним эпиграфом: сам ли присобачил? Пастушенко ли постарался?
Март
В №2 “Юности”: повесть А. Рыбакова, “Каникулы Кроша”; стихи С. Дрофенко и В. Британишского (геолога).
*
Бес попутал, вмешался тайно:
по улице разлинованной
после вечера я заглянул с гитарой
к большеглазой Галке Вольновой.
За стол усадили, налили чаю,
меня распирал необычный восторг.
Прижавшись к печке грифом печальным,
дека ухо держала востро.
Галка испытывала на мне чары:
я размахался неосторожно,
вот и остались от красивой гитары
некрасивые рожки да ножки.
Именной именинный мой инструмент,
об пол ударясь лбом,
стал деревяшкой в один момент
семиструнным дрожащим клубком.
Я крепился, прорезываясь хохотком,
бредя через парк домой.
Останки, как пелось в романсе том,
тайком принёс под полой.
Прочитано: В. Киселёв, “Воры в доме” (уже первые два эпиграфа настораживают: один, жёсткий, - от генерал-майора, другой, философский, - из Корана; 1942 год,Средняя Азия, польская армия Андерса, наша контрразведка против непонятно кого, и вдруг действие перебрасывается в 1961 год, на советско-афганскую границу… Необычный финал: двое едут отдыхать на юг и беседуют о только что прочитанной ими (и нами) книге, мол, зачем автор взялся описывать двоих любящих людей,едущих на юг и т.д.).
*
На этажерке, обложкой светя,
рядом со сказками светлыми -
запретная книга “Мать и дитя”,
а что в ней такого запретного?
Запретное у поэта - про “шею воловью”
и “потноживотых женщин”:
в полный голос читать неловко -
читай вперекор першению.
Я подбирался, когда в квартире
только сопенье моё,
и раскрывал на той самой картинке,
где обнажённое всё.
Значит, именно так устроено,
чтобы мы родились и состарились:
вот так у скромных и у нескромных,
у кристальных и некристальных.
Там излагалось сухими терминами
(а ведь открывался Сезам!)
про то, как протекает беременность
по дням и по месяцам.
Как мне теперь глядеть на девчонок,
на женский особенный рой?
Ведь я не тот, кто “певец кипячёной
и ярый враг воды сырой”.
Впрочем, недолго это заботило,
не заводило в топь:
брёл стороной, как обходят болотину,
не засосало чтоб.
Тела боялся и сторонился -
чужого и своего.
Влюбляясь, бог знает к чему стремился,
впадая в безумье стихов.
Безумье надёжней, чем бестелесность,
тем более чем телеса.
Поэтому слава тебе, словесность,
и слава вам, словеса!
“Судьба ему выпала такая…” А ещё: “Судьбу не обманешь, её не обминёшь...” Что в этих присловьях? Согласие с обречённостью? Заранее, загодя, ещё до всего-всего? Но это же унизительно. Уничижительно!
Что крупнее, объёмнее - жизнь или судьба? Жизнь может быть длинной или короткой, а к судьбе применяются иные определения.
Мне кажется, человек не столько выбирает в предложенной ему жизни, сколько заполняет в ней ячейку, окоп, ход сообщения… Сколько заполнил, столько у тебя судьбы. Сколько прошёл, столько у тебя дороги.
Астрология и астрономия: гадания и гипотезы. Чему верить больше? Каким звёздам себя вверять?
*
Состаримся, осунемся,
как древние папирусы.
Каштаны нашей юности
когда-нибудь да вырастут.
Царапнут веткой по небу
каким-то знаком письменным.
Когда-нибудь кого-нибудь
на берег славы вынесет.
Как будто по заданию -
дерзать в пределах хитрости -
кого-нибудь когда-нибудь
на скудный остров выбросит.
Апрель
Оформил и “выпустил” шестой сборник: “Вселенная начинается с человека”.
Сто лет или тысяча - всё равно мало: покуда живу человек, эта тема не исчерпает себя. Труд выпрямил человека - любовь его окрылила, укрепила в нём право надеяться, верить. В древневавилонском “Эпосе о Гильгамеше” звучит завет: “Сломай дом - построй корабль, оставь берег - ищи жизнь”. Искать жизнь - это найти применение заложенным в тебе силам, способностям по самой высокой мере: мере любви к человеку, матери, подвигу, родине…
“Чтоб день, который горем старящ, не христарадничать, моля. Чтоб вся на первый крик: - Товарищ! - оборачивалась Земля. Чтоб жить не в жертву дома дырам, чтоб мог в родне отныне стать отец - по крайней мере - миром, землёй - по крайней мере - мать”.
Василий Кубанёв: “Не понимаю, как это можно - полюбить и остаться таким же, каким был вчера”. Любовь способна открыть в человеке такие возможности, о которых он сам и не догадывался. А главная из них - способность и готовность отдать собственную жизнь во имя другого, во имя других.
Андрей Вознесенский: “Животные жизнь берут. Лишь люди жизнь отдают. Тревожаще и прожекторно, в отличие от зверей, - способность к самопожертвованию единственна у людей”.
В мартовской “Юности”: стихи И. Шкляревского и три великолепных рассказа Фазиля Искандера.
*
Знаю - откуда, не знаю - куда же
возраст относит меня
от художеств моих и чудачеств,
дёргая и дразня.
Взросличаю, раздувая щёки:
мол, страдаю, грущу.
Потом пляшу, звонко прищёлкивая,
смехом себя глушу.
Нет, никакое не противоречие
эта двоякость моя:
столько накручено, столько наверчено -
столькое жаждет, маня!
Не разорваться! А я б разорвался -
на всадника и коня,
и разревелся б, и разорался,
чтоб услыхали меня.
*
Бывают теории стойкие,
хоть не в ладах с вещами.
О наличии флогистона
долго химики копья скрещали.
Смещали и совмещали
кислород с водородом,
целый век друг друга стращали
полным переворотом.
О таинственная сверхтонкая
огненная субстанция!
Та наука, почти допотопная,
чем-то вроде легенды останется.
Но когда ночами безлунными
свет пронизывает все стороны,
вспоминаю догадки безумные
о наличии флогистоновом.
*
Раньше, помню, писали: “Стою в вышине,
и Кавказ вон там, подо мною…”
А теперь стою у стола, и мне
Кавказ не заменишь стеною.
Споры о том, кто и в чём виноват,
ей-богу, тут ни при чём.
И эта разлука ничуть не нова,
просто ветер все листья прочёл.
Просто я промолчал, а ты не пришла,
просто холодно стало вокруг,
и, никому не желая зла,
дождь зло захлёстывал вдруг.
Как наносят рисунок, именно так
мысль о тебе нанесло
на мой распорядок, на мой кавардак,
на будущее ремесло.
*
Апрели, апрели, куда вы, ребята?
Закончились прения и дебаты.
Выстрел выстыл, упал человек.
Синие листья коснулись век.
Я хочу, чтобы склочный
мир менялся в лице,
чтобы всё-таки точки,
а не пули в конце.
Из поэмы “Плавания и возвращения”.
*
Если хозяйство плановое,
бросьте ужимки тщетные.
Но я за внезапные плавания
и внезапные возвращения.
Юность, которая выдохлась, -
не направленье, а - возраст,
проще говоря, видимость,
а нам подавай серьёзность.
Какое же это собрание,
из беканья всё и меканья,
когда решено заранее
и возразить некому?
Любим играть в прятки,
принимаем с ленью тюленьей
дерзание по разнарядке,
смелость по распределению.
Уже среди нас заметнее,
кого не хватает в президиуме:
лбы расшибают медные
отличий и званий носители...
*
Броситься, броситься, броситься
под бешеный поезд дней,
пока над чересполосицей
далёкая даль видней.
Как велосипедные спицы,
завертелись дорожные стрелы.
Кому дано ошибиться,
не удержат ни скрепки, ни скрепы.
Всё так, я готов, но куда же
время относит меня?
То мелом мажет, то сажей -
по датам, по именам…
Просится, просится, просится
сердце забиться сильней:
не страшно опростоволоситься
в начале судьбы своей.
Убегают назад расставанья -
расстоянья набегают взамен.
Мы в погоне за утром ранним:
позднее - для измен.
Значит, доказывать лишне:
приняты меры крайние.
Просто мы рано вышли -
просто мы люди ранние.
Май
В апрельском номере “Юности”: роман-баллада Ицхокаса Мераса “На чём держится мир” (“Ant ko laikosi pasaulis”). Потом непременно прочитаю в оригинале.
*
Одуванчики раздуешь парашютиками
и обманчиво простую сказку с шуткою ли
заведёшь и загадаешь - заколотится
среди бела дня такая околёсица!
Я пущу стрелу куда-то за семь озёр,
за девятый распадоок и тринадцать зорь.
В той дали, где она в разнотравье ляжет,
ни одна дотемна не плачет над пряжей…
Заблудился я в загадках, и камня нет,
чтобы ёмкий и краткий выдал ответ.
Налево ли, направо ли, прямо иль назад?
Что будет, кто явится - хотел бы узнать.
Ёжусь от раздумий в одуванчиках сплошь:
раздуть-то раздуешь, да не соберёшь.
*
Не знаю, как получится -
без славы иль со славою? -
я загадал певучее
желание главное.
...Зари цветными стёклами
понаснет день.
По галечнику тёплому
я подойду к звезде -
с невымерянной массою,
боками неровными,
ещё не названной
астрономами,
а потому таинственной -
до цыпочек, до шороха.
Камыш начнёт насвистывать,
а ночь пойдёт нашёптывать.
Звезду поднимем с берега,
не спрячем, не укроем,
а донесём бережно,
зажжём над горою -
на четыре дороги,
на стороны четыре:
до звезды дотронешься -
вовек не остынешь.
26: семнадцать!
Допустим, бессмертие возможно. А хорошо ли это? Для человечества, для общества, для каждого из нас? Начнём с того, что если бы Сталин не умер, я жил бы сейчас при нём… А ведь и войны стали бы невозможны, разве что техника, оружие сами за нас воевать могли бы. Тогда, у кого больше оружия и мощнее техника, тот и прав?
Сколько бессмертных может прокормить планета?
Бессмертные Добро и Разумность, но ведь бессмертны Зло и Неразумие…
Куда и к чему, зачем стремиться, если впереди вечность?
Всё-таки смертность естественна, а бессмертие нет.
*
Вот дни рожденья, будто привиденья,
проходят чередой:
какие разноликие явленья
стыкуются в коробке черепной!
Ах, если б передумать, перебрать
все дни, как раковины, на ладони
и то извлечь, чего не переврать,
тем более - не поделить на доли…
Откуда эта вяжущая злость
и чувство непокрытой недостачи?
Чего прошу я у бесстрастных звёзд,
о чём на ветре пересохшем плачу?
*
Я вслушиваюсь, вслушиваюсь в голоса из прошлого,
в голоса из будущего, напрягаясь весь,
и вовсе не игрушечная, с пулевой порошею
слышится война - попробуй это взвесь.
Я всматриваюсь, всматриваюсь в лица ушедшие,
в лица которые ещё встретятся мне,
в облака матовые и в зёрнышки маковые,
ветром сумасбродным рассеянные по земле.
Я вдыхаю запахи смолы сосновой
и хлеба ржаного с горячими боками.
И каждым ранним утром снова и снова
кругосветный запах газет вдыхаю.
Я трогаю пальцами струны и клавиши -
в поисках мелодии необычной одной.
Мне б найти решения самые главные…
Я в свои ладони беру твою маленькую ладонь.
Я с веточек срываю ягоды губами,
смородины ягоды - крупные, калёные,
я чернику срываю, и на губах голубая
остаётся память тонкими каёмками.
Когда смотришь фильмы о тысяча девятьсот семнадцатом по второму или третьему разу, обращаешь внимание на такую общую деталь, как семечки. Продают бойкие торговки, грызут революционные матросы. Заплёванные площади и перроны. Лузга шелестит под ногами. “Пролузгали Россию…”, - шипящий голос кого-то из бывших.
Велика роль семечек в событиях начала века. А ведь лузгали и до них, и после них. Но, возможно, никогда не щёлкали с таким вдохновенным остервенением…
Заносило нашу планету в этом столетии и пеплом, и прахом, смертью наглядной и невидимой. А ещё заносило шелухой, словесным сором…
Я так и не научился грызть семечки, не прибегая к помощи пальцев. Многие человеческие искусства не даются мне. Зато я умею шевелить ушами, “выстреливать” большими пальцами обеих рук, выворачивать в гримасе нижнюю губу так, что всё лицо укорачивается. И всему этому научился за одно лето 1956 года от своего одноклассника Сеньки Воробьёва.
*
Когда придёт зима и упадут снега,
и станет вдруг земля седа, совсем седа,
я буду далеко от города в зиме,
укрытого в покой, как весточка в письме.
Я буду далеко - за тридевять земель.
Пространство велико для милых пустомель,
времён хоть отбавляй - для славной кутерьмы,
и всё же - отплывай и сердце оторви.
Вот смысл и вот стезя - та красная строка,
сойти с какой нельзя: пусть долетит стрела.
Когда придёт зима и упадут снега,
не уплывут дома к туманным берегам.
Захлопнется судьба, как дверь от сквозняка.
В былом возьму слова и дальше передам.
“...и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире - борьбе за освобождение человечества”.
Завет, заповедь, задача. Цель, смысл и оправдание личного существования.
Да и вся мировая история разве не ради этого совершается? Отрываешься от учебника и видишь неохватные поля, пространства, по которым прошли поколение за поколением, полегли костьми, а перед тем мучились, трудились, боролись. Теперь и мы включены в эту всеобщую цепь.
Уже на моей памяти как сильно изменилась карта мира, насколько разноцветнее, разнообразнее стала!
Но: одни войны продолжаются другими, революции, восстания - почти на всех материках… Кровь и страдания. До конца нашего столетия осталось меньше, чем прожито под знаком двух мировых войн. Человечество успеет освободиться? Или оно освободит Землю от своего присутствия?
*
Поэты без утайки пишут о чувствах -
с Евы и Адама они их раскрывают.
Но как бы то ни было странно и грустно -
мы часто в своём чувстве перегораем.
Прежде волшебники - бороды до пяток -
бродили, а нынче ушли на покой.
Теперь телепаты пронизывают телепаток,
понятия сдвигают, не касаясь рукой.
Ночь топчется по комнат, и нету тебя в ней,
и карандаш ломается, на слоге ЛА… хрустнув.
С каждой поэмой оно всё непонятней -
это человеческое седьмое чувство.
Июнь
*
Рассыпается небо раскатами,
будто выдернули каркас.
Вот и стали мы адресатами:
разлетелся единый класс.
Как в загадке: горох рассыпался
на семьдесят семь дорог.
Словно город нами насытился -
отправляет гулять за порог.
Это правильно, в общем, придумано:
поколение, шаг вперёд! -
чтоб хватило свечения юного,
если надо, пойти поперёк.
***
Вот Литва, я скажу, вот Литва: золотые слова и листва.
Вот её небогатые реки, вот - послушай - свистящие речи.
Вот холмы: не торопятся ввысь. Вот лесов сокровенная мысль.
Вот у моря, у моря, у ног уморился, прилёг янтарёк…
Это общие, скажешь, слова - покажи, где взаправду Литва?
Пусть беспомощным будет ответ: надо просто родиться в Литве.
*
Солнце выльется, а я стыну:
всё мне видится тонкий иней.
Иней тянется по июню.
Птицу-странницу не догоню я.
Не достану - не дотянуться.
Очень странные вьюги вьются:
из цветов, из цветистых бабочек,
снежных снов и румянцев яблочных.
Стало больно и не до смеха мне -
оттого ли, что ты уехала,
оттого ли, что синими кольцами
по снежному полю цветы хороводятся.
***
Родина. Литва. Дорога - по которой ты прошёл
и с собою взял немного, но достаточно: вошёл,
словно бы в мешок заплечный, в память, в опыт, в суть твою
и язык, огнём отмеченный, но отнюдь не онемеченный,
с “эс” всегдашним на краю;
и вошли поляны мамины, и оркестрика настрой -
деревенского, домашнего, задушевного: постой
и послушай - и запляшется по-литовски русаку,
и дослушай - и заплачется по-литовски русаку…
За год (с прошлого лета) несколько попыток без продолжения, увы, охватить себя, своё, взглянуть со стороны, насколько это возможно: что имею, что накоплено, с чем выхожу в мир (как ни высокопарно звучит)?
Под названием “Иду по меридианам жизни”: начало человека; а мир всё больше;”дни-мальчишки” (у Бориса Корнилова взято); ищу; год-карусель (слововерчение нарастает); выхожу из угла; октябрь - месяц весенний (в рифмах, как в кольчуге); жизнь, я пришёл ( стихами и прозой, используя приёмы Назыма Хикмета)
Или - лирический роман: “Правила движения по временам”.
Эпиграф из Евгения Винокурова:
“Есть слово “я”. Оно во тьме недаром
К небытию испытывает злость.
Оно во мне. Оно одним ударом
В меня по шляпку вбито, словно гвоздь”.
Или - сосредоточившись на основном: человеческое (до лета 1953); Украина; начальное; прорываясь к классике; девочка с красной ленточкой (весна-осень 1960); ребячество под дубом; Регина; отложенный выбор (геология); в углу; выход…
Или - “Книга себя”: генеалогическое древо; школа: вид снизу; Маяковский; любовь; вера; надежда; школа: вид сверху…
Названия для глав: “Тогда, когда я ходил под стол пешком”; “А что за тем лучом?”; “День - существительное мальчишеского рода”; “Вверх и вниз по радуге”; “Королева не из книжки”; “Звёзды падают для людей”; “Каштаны нашей юности”...
И - побольше самоиронии, как у Маяковского в “Я сам”.
*
Берега и воды к нам радушны,
бодро греем кости на камнях...
По столу рассыпаны ракушки:
это память о часах и днях.
Было и добыто, и натащено:
пусть забвение грозит клюкой!..
Сколько раз из ящичков и ящиков
выметал недрогнувшей рукой
и часы, и дни, и даже годы,
полные загадочной трухи.
Механизмы смазанные, годные
разобрал на разные стихи.
*
Солнцем проявлена щедрость -
вниманием не обошло:
до того загоравшего тщетно
за пару часов обожгло.
Да так, что ни охнуть,ни ахнуть:
стянулся кожный покров.
Ношу в себе под рубахой
угли погасших костров.
Я изделие керамическое:
осторожно - не стукните!
Распадусь на осколки фактически -
вы заплачете, спутники?
В майском номере “Юности”: стихи Б. Слуцкого, А. Прасолова (“Звени! Звени! Я буду слушать - и звуки вскинутся во мне, как рыб серебряные души - со дна к прорубленной луне”; в стихотворении “Я хочу, чтобы ты увидала…” лучше было бы ограничиться первыми двумя строфами, потому что две следующие ничего не добавляют к сильно выраженному ранее; “И кисть малярная - как факел - у встречной девушки в руке…” - мне не хватает зоркости для таких чётких деталей, впрочем, мне страшно многого не хватает). А ещё там же повесть Г. Гофмана “Братья молодогвардейцев”.
*
Кружатся над поездом степные птицы.
К тебе было боязно подступиться,
но уйти от тебя не смогу и подавно.
В загорелых степях твой поезд дальний.
Качнётся уточкой месяц тусклый:
хотя б на чуточку меньше грусти!
Станет подушка лежачим камнем...
Вдруг ворот душный рвану руками:
рванусь на улицу, но это после,
пускай докрутится пластинка-осень.
*
Дома - слепые котята
с помутневшими окон зрачками -
к ладоням моим пустым, как к молоку, бредут.
Никем не читаемыми зрачками
заполнены длинные столбцы минут.
Стало больно смотреть сквозь мозаику капель,
руки дождей закрывают лица берёз.
Посередине дороги - на сердце похожий камень:
вот и мне встретиться с ним довелось.
Листья в кулаках, вроде воспоминаний, скомканы,
и ветер уже не устраивает зелёных оваций.
Входим с улицы в ещё не покинутые нами комнаты,
где лишь полотенца тянутся обниматься.
В свежем номере “Юности” стихи О. Чухонцева, В. Казанцева и - Гиколая Рубцова.
Убираю из стола школьное, ставшее лишним. Заодно и прочее детское переглядываю. К примеру, вот это: самые небольшие страны мира. Как же они меня интриговали! До чего же хотелось попробовать жить в какой-то из них: почувствовать - каково это, когда не в почти бескрайнем СССР, а в крошечном, но самостоятельном государстве обитаешь. Почти как в стране лилипутов…
*
Манили маленькие страны,
какое-нибудь Сан-Марино:
там только маленькие страхи
и не доходит до надрыва.
Базарная толпа галдела,
бродила девушка Марина,
и нами песенка владела
сильней, чем сигарет “Прима”.
Ещё два лета, и не станет
ребяческого беззаботья:
как ни прищёлкивай перстами,
пора соскакивать с забора.
Кто будет в лишних и ничейных?
Что станет яблоком раздора?
...Вадуц - столица Лихтенштейна.
А что в Андорре? Там Андорра.
Ночую в беседке, просыпаюсь рано, наскрёбываются такие-сякие строчки. Хочется что-то посильнее сделать - предотъездное, отделяющее бывшее от предстоящего. Есть название: “Бессонная поэма”. И несколько набросков, которые потом свяжу или не свяжу в единое целое.
*
Яблони заглядывают в окна -
сладким сном забыться не дают.
Под роскошною росою мокнет
незамысловатый мой уют.
Здесь не новы споры, ожиданья,
и бессонница здесь не нова.
Хорошо бы, бешено шагая,
находить великие слова…
*
Стол, три стула, низкая кровать,
окна - в них фальшивые глубины.
Снова стены бледно-голубые
примутся упорно упрекать.
Бледно-голубые, словно дымка
над границей моря и земли,
но в углах уж ткутся паутинки -
не для них будильник прозвенит.
Отражение луны на блюде,
а луна такая - раз в году!
Всё останется - меня не будет,
всё состарится - я не приду!
*
Кто собирает карты мира,
тому понадобится рюкзак.
Поезд ночной кричит, как кикимора,
как будто его начинают терзать.
Мимо стадиона и через парк
по привычке срезаю наискось.
*
Так бывает: просто позабудешь,
а тебе до смерти не прощается.
Не загладишь, а потом загубишь:
счастье разменяется на счастьица.
*
Так случайно или не случайно
повстречал тебя я на земле,
и деревья за окном качались
всё определённей и сильней.
*
Не будет ни кратких, ни долгих провожаний.
Оставлять ни на столе записку
о том, что бог знает куда уезжаю,
что не надо меня разыскивать?
*
Усядусь так, чтоб не видеть перрон,
чтоб не видеть: тебя там нет.
Семафор внимательно посмотрит вдогон,
и невольно проверишь билет.
Буфера, смыкаясь, по очереди лязгнут,
подбирая вагоны по одному.
Так начинается мой праздник -
еду навстречу ему.
_ _ _ _ _
1964 - 1966: Советск/Тильзит
2020-2021: Макеевка
Метки: