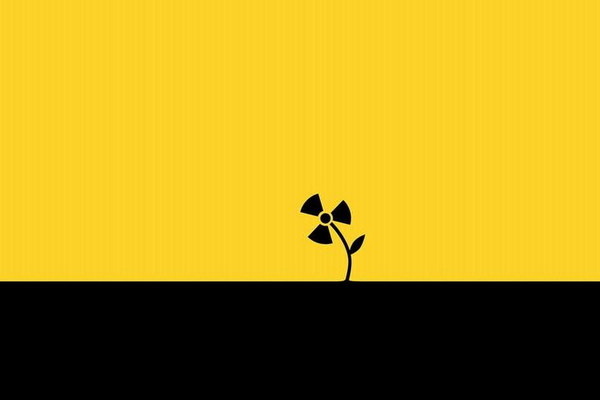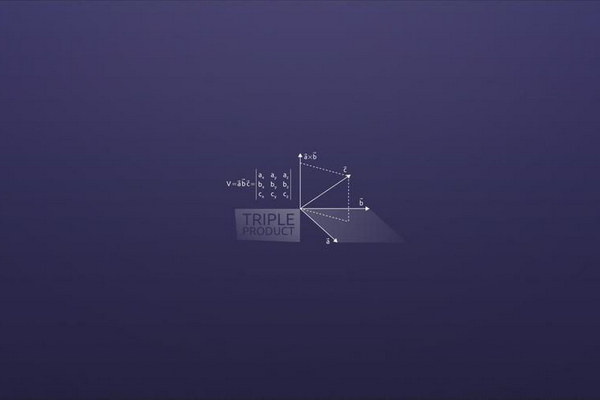Дитя цветов
(Посвящается бесконечно любимой Оксане Олеговне Гуровой).
Жило как – то одно племя, и все в нём были слепые и глухие. Они питались землёй и кореньям, которые собирали, ползая, потому что не могли охотиться, и из - за этого каждое поколение было слабее предыдущего. Даже не тьма была перед их пустыми глазницами, но Неизвестное. Оно переливалось в свете дня и темноте ночи, в холоде и в тепле, в статике и в динамике. Но им это всё было неизвестно. Неизвестной для них была даже сама Неизвестность. Она просто была и всё. Была Она и были они.
Общались они исключительно прикосновениями: их устная и письменная речь за века глухоты и слепоты деградировала до полного исчезновения. Обоняние у них сохранилось, как и осязание, и было даже время, когда они разделяли съедобное и несъедобное, но они уже и сами забыли, как давно это было. Они ползали по земле, охая и ахая без разбора, таща в рот всё от червяков до простой грязи да без конца лапая друг друга. Так же они и размножались. Королём их считался тот, кто жалкой трухой полуфантома своего тела поднимался надо всеми остальными. Сегодня это был один забредший на случайную возвышенность, завтра – другой. Кто – то неизвестный касался его тела, отчего – то находящегося выше, и метался по округе, пока не наталкивался на кого – то, чтобы потрогать его или её где – то ниже бёдер, как бы призывая поклониться новому Богу. Тот делал то же самое. Так и существовали. Они были обречены.
Но родилось в этом племени Дитя. Оно было слепо так же, как и все остальные, но оно могло слышать. И сразу, как родилось, оно испугалось бессвязных воплей вокруг и громко заплакало, а его лишь передавали по рукам, и ничего оно не могло сделать. Мать, вероятно, сказала им, что умерла во время родов, то есть промолчала, когда её трогали где – то около ‘’третьей руки’’ – так, стало быть, они бы называли сердце, если бы знали, что такое сердце и что такое руки, ведь оно тоже как бы касается того, кто трогает его, своими ударами. К тому же она начала, как пахнет то, что они обычно едят. Если это вообще была она, конечно. Отца никто никогда не щупал и не чуял. Быть может, его задавили, когда кто – то вцепился в кого – то, сжал, вырывая у него землю изо всех отверстий, и они так катались до тех пор, пока за них не зацепились все, кроме, видимо, Бога. Хотя, может, он тоже был с ними.
Когда Дитя так же, как все, ползало и ело, оно неосознанно потянулось вверх, а там оказалось будто что – то податливое и пахучее, и оно сорвало оттуда тонкий кусочек этого чего - то. Оно явно что – то делало и что – то значило, ведь оно давало ему жизнь: иногда, когда ему было совсем тяжело, дитя легонько откусывало маленькую его частицу, чтобы не погубить то немногое, что не вызывало у него ужас. Так дитя и рвало эти тонкие кусочки и обмазывало себя их запахом, питаясь ими, живя в них, прячась в их шелесте от всего пугающего… Но оно подросло.
Парный крик пронзил его уши. Оно слышало очень много криков и стонов и содрогалось от каждого, но эти крики вдруг показались ему такими жалобными и в то же время такими громкими, будто зовущими на помощь… А иначе зачем было бы так громко и в то же время жалобно кричать?...
Грязные руки мяли тонкую кожу, обводя пальцами кости. Можно было бы сказать, что племя не забыло свои грязные корни, но разве могло существовать для них само понятие грязи и корней? Но даже если и могло, то не было уже в этих корнях жизненной силы, была только безумно - тусклая, неизвестная, но почему - то непреодолимая нужда испить что – то чужое, высосать всё без остатка, и вместе с этим - крайняя ломка перед осязанием имеющегося, слепая и глухая, как и они сами. И когда они предавались этому, то раскрывали рты и чудовищно напрягались, силились всем своим существом Почувствовать и неосознанно передать Почувствованное куда - то в пустоту как осязание Неизвестного, яростно зарывались в эти кости, свои и чужие, натягивались на другое тело, поглощали его, и сами натягивали другое тело на себя будто до его разрыва, и так поглощались им же до самого главного. Запахи земли и камней тогда полностью сливались для них с запахами грязных тел, они впивались друг в друга и сжимали, кусали, царапали и рвали…
Дитя побежало на крик. Звуки насилия, страшного, жестокого насилия только сейчас дошли до него во всей их ужасной полноте. Оно подбежало и с силой начало разъединять кричавших – как же так?! И без того довольно было боли и страха!
Две разные руки оттолкнули дитя, которое тут же упало на землю не столько от толчка, сколько от ошеломления. Все замерли. Дитя услышало сотни приближающихся шагов со всех сторон. Вода укрывала его, но лишь отчасти. Ливень смывал его запах, и вместе с тем размывал его по земле, оставляя лёгкий шлейф. Так всё и должно было быть. Путь Прекрасного был открыт. Однако смешение девственно – чистого дыхания жизни с грязными душами придавало тонкой нити доселе неуловимого Живого начала слепую агрессию приторно – страстного, неостановимого, резко – манящего следа…
Шум ливня продавливался неуклюжим и беспорядочным шлёпаньем множества босых ног по наклонной грязи. Они были всё ближе и ближе. Прекрасное будто опьяняло их. Неведомая сила наполняла Дитя, и оно ползло прочь, падало, скользило вниз, но вставало и изо всех сил пыталось сохранить то Прекрасное, которое теперь казалось всё ближе, всё шире, всё яснее, и вместе с тем всё глубже и необъятнее. Ещё, казалось, немного – и – вот Прекрасное распрострёт свои объятия во всю их непостижимую ширину, и станет Прекрасное всем миром, Светом в нескончаемой тьме. Свет, Свет, Свет… И откуда он только узнал это слово?…
Вдруг дитя остановилось. Дождь закончился. Оно ощущало где – то внизу запах, похожий на его. Впервые ему не было холодно. Перед ним была будто светлая вершина, заполнявшая белки его глаз своим мягким теплом. Где – то рядом, на земле были лепестки на стебле. Их запах уже небыл спрятан дождём. Ему не от кого было здесь прятаться. Он был, не скрыт и доступен, только успей остановиться и найти. Дитя медленно провело пальцем от земли и стебля до лепестков, как вдруг что – то живое и очень – очень маленькое осторожно заползло на его руку. Нечто о нескольких тончайших лапках даже не было слышно, и пахло оно теми самыми лепестками. Дитя боялось шевельнуться… Оно медленно подняло руку вверх, после чего маленькое нечто исчезло с руки. Вот оно было – и вот оно всё равно есть, но как – то всё же есть слегка по – грустному, где – то там, в такой великой, светлой бескрайности. И лишь он, этот свет, с безветренного и сухого молчания ужасного буйства имел и имеет могущественную осторожность играть с хрупкостью тончайших, неслышных даже вблизи живых лепестков - крылышек…
И так легко, так свободно вдруг стало ему, что Дитя не спеша подняло голову вверх, и губы его сами собой нежно растянулись уголками чуть кверху. Так дитя пошло на раскатистый, то прибывающий, то убывающий звук, в который, как ему казалось, перешло Прекрасное…
Они потеряли запах Прекрасного, но продолжили бежать в ту же сторону.
Зенит заиграл обновляющей радостью на свежести орошённого солёной водой утёса. Там никого не было.
Жило как – то одно племя, и все в нём были слепые и глухие. Они питались землёй и кореньям, которые собирали, ползая, потому что не могли охотиться, и из - за этого каждое поколение было слабее предыдущего. Даже не тьма была перед их пустыми глазницами, но Неизвестное. Оно переливалось в свете дня и темноте ночи, в холоде и в тепле, в статике и в динамике. Но им это всё было неизвестно. Неизвестной для них была даже сама Неизвестность. Она просто была и всё. Была Она и были они.
Общались они исключительно прикосновениями: их устная и письменная речь за века глухоты и слепоты деградировала до полного исчезновения. Обоняние у них сохранилось, как и осязание, и было даже время, когда они разделяли съедобное и несъедобное, но они уже и сами забыли, как давно это было. Они ползали по земле, охая и ахая без разбора, таща в рот всё от червяков до простой грязи да без конца лапая друг друга. Так же они и размножались. Королём их считался тот, кто жалкой трухой полуфантома своего тела поднимался надо всеми остальными. Сегодня это был один забредший на случайную возвышенность, завтра – другой. Кто – то неизвестный касался его тела, отчего – то находящегося выше, и метался по округе, пока не наталкивался на кого – то, чтобы потрогать его или её где – то ниже бёдер, как бы призывая поклониться новому Богу. Тот делал то же самое. Так и существовали. Они были обречены.
Но родилось в этом племени Дитя. Оно было слепо так же, как и все остальные, но оно могло слышать. И сразу, как родилось, оно испугалось бессвязных воплей вокруг и громко заплакало, а его лишь передавали по рукам, и ничего оно не могло сделать. Мать, вероятно, сказала им, что умерла во время родов, то есть промолчала, когда её трогали где – то около ‘’третьей руки’’ – так, стало быть, они бы называли сердце, если бы знали, что такое сердце и что такое руки, ведь оно тоже как бы касается того, кто трогает его, своими ударами. К тому же она начала, как пахнет то, что они обычно едят. Если это вообще была она, конечно. Отца никто никогда не щупал и не чуял. Быть может, его задавили, когда кто – то вцепился в кого – то, сжал, вырывая у него землю изо всех отверстий, и они так катались до тех пор, пока за них не зацепились все, кроме, видимо, Бога. Хотя, может, он тоже был с ними.
Когда Дитя так же, как все, ползало и ело, оно неосознанно потянулось вверх, а там оказалось будто что – то податливое и пахучее, и оно сорвало оттуда тонкий кусочек этого чего - то. Оно явно что – то делало и что – то значило, ведь оно давало ему жизнь: иногда, когда ему было совсем тяжело, дитя легонько откусывало маленькую его частицу, чтобы не погубить то немногое, что не вызывало у него ужас. Так дитя и рвало эти тонкие кусочки и обмазывало себя их запахом, питаясь ими, живя в них, прячась в их шелесте от всего пугающего… Но оно подросло.
Парный крик пронзил его уши. Оно слышало очень много криков и стонов и содрогалось от каждого, но эти крики вдруг показались ему такими жалобными и в то же время такими громкими, будто зовущими на помощь… А иначе зачем было бы так громко и в то же время жалобно кричать?...
Грязные руки мяли тонкую кожу, обводя пальцами кости. Можно было бы сказать, что племя не забыло свои грязные корни, но разве могло существовать для них само понятие грязи и корней? Но даже если и могло, то не было уже в этих корнях жизненной силы, была только безумно - тусклая, неизвестная, но почему - то непреодолимая нужда испить что – то чужое, высосать всё без остатка, и вместе с этим - крайняя ломка перед осязанием имеющегося, слепая и глухая, как и они сами. И когда они предавались этому, то раскрывали рты и чудовищно напрягались, силились всем своим существом Почувствовать и неосознанно передать Почувствованное куда - то в пустоту как осязание Неизвестного, яростно зарывались в эти кости, свои и чужие, натягивались на другое тело, поглощали его, и сами натягивали другое тело на себя будто до его разрыва, и так поглощались им же до самого главного. Запахи земли и камней тогда полностью сливались для них с запахами грязных тел, они впивались друг в друга и сжимали, кусали, царапали и рвали…
Дитя побежало на крик. Звуки насилия, страшного, жестокого насилия только сейчас дошли до него во всей их ужасной полноте. Оно подбежало и с силой начало разъединять кричавших – как же так?! И без того довольно было боли и страха!
Две разные руки оттолкнули дитя, которое тут же упало на землю не столько от толчка, сколько от ошеломления. Все замерли. Дитя услышало сотни приближающихся шагов со всех сторон. Вода укрывала его, но лишь отчасти. Ливень смывал его запах, и вместе с тем размывал его по земле, оставляя лёгкий шлейф. Так всё и должно было быть. Путь Прекрасного был открыт. Однако смешение девственно – чистого дыхания жизни с грязными душами придавало тонкой нити доселе неуловимого Живого начала слепую агрессию приторно – страстного, неостановимого, резко – манящего следа…
Шум ливня продавливался неуклюжим и беспорядочным шлёпаньем множества босых ног по наклонной грязи. Они были всё ближе и ближе. Прекрасное будто опьяняло их. Неведомая сила наполняла Дитя, и оно ползло прочь, падало, скользило вниз, но вставало и изо всех сил пыталось сохранить то Прекрасное, которое теперь казалось всё ближе, всё шире, всё яснее, и вместе с тем всё глубже и необъятнее. Ещё, казалось, немного – и – вот Прекрасное распрострёт свои объятия во всю их непостижимую ширину, и станет Прекрасное всем миром, Светом в нескончаемой тьме. Свет, Свет, Свет… И откуда он только узнал это слово?…
Вдруг дитя остановилось. Дождь закончился. Оно ощущало где – то внизу запах, похожий на его. Впервые ему не было холодно. Перед ним была будто светлая вершина, заполнявшая белки его глаз своим мягким теплом. Где – то рядом, на земле были лепестки на стебле. Их запах уже небыл спрятан дождём. Ему не от кого было здесь прятаться. Он был, не скрыт и доступен, только успей остановиться и найти. Дитя медленно провело пальцем от земли и стебля до лепестков, как вдруг что – то живое и очень – очень маленькое осторожно заползло на его руку. Нечто о нескольких тончайших лапках даже не было слышно, и пахло оно теми самыми лепестками. Дитя боялось шевельнуться… Оно медленно подняло руку вверх, после чего маленькое нечто исчезло с руки. Вот оно было – и вот оно всё равно есть, но как – то всё же есть слегка по – грустному, где – то там, в такой великой, светлой бескрайности. И лишь он, этот свет, с безветренного и сухого молчания ужасного буйства имел и имеет могущественную осторожность играть с хрупкостью тончайших, неслышных даже вблизи живых лепестков - крылышек…
И так легко, так свободно вдруг стало ему, что Дитя не спеша подняло голову вверх, и губы его сами собой нежно растянулись уголками чуть кверху. Так дитя пошло на раскатистый, то прибывающий, то убывающий звук, в который, как ему казалось, перешло Прекрасное…
Они потеряли запах Прекрасного, но продолжили бежать в ту же сторону.
Зенит заиграл обновляющей радостью на свежести орошённого солёной водой утёса. Там никого не было.
Метки: