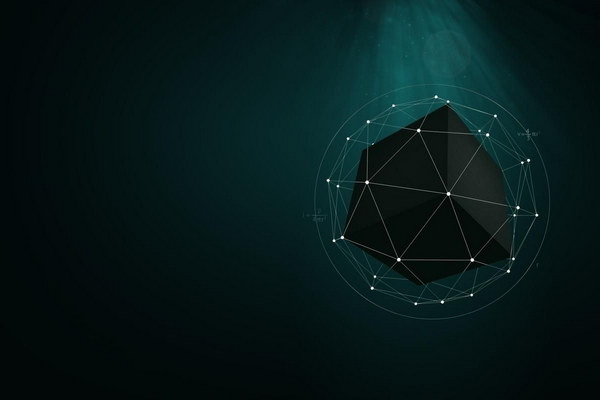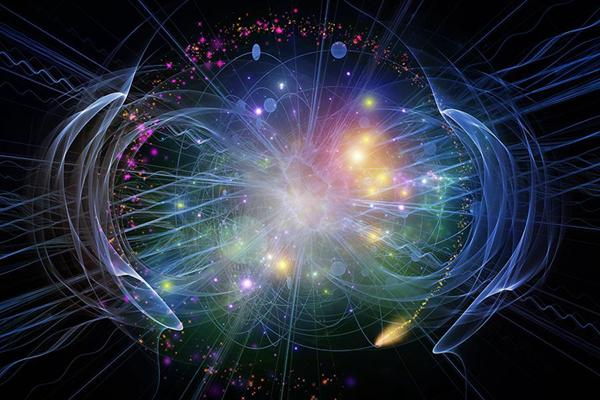За ягодой
- От ягод-то мне вроде полегчало, - сказала мне мать, когда я проснулся утром. Сегодня у меня и аппетит появился, и желудок так не болит. А не то станешь есть, а вкуса во рту никакого нет, точно глину жуёшь.
Я очень обрадовался словам матери и был счастлив оттого, что собранная мною вчера на лугах клубника так благотворно сказалась на состоянии её здоровья. Ещё месяца два назад у неё отказали ноги, и она не могла ходить. Мать увезли в районную больницу, где она пролежала около месяца. Кроме того, из-за недостаточного питания и перенесённого голода во время войны, у неё стал болеть желудок. Когда отец привёз её домой, она была очень бледная и еле передвигалась по дому. Приходили соседки и, глядя на неё, охали:
- Случись что, кому они нужны будут?
Это относилось к нам, её детям, пятерым из которых нужно было расти и расти до самостоятельной жизни.
Я тоже переживал за свою мать, но изо всех сил старался ей это не показывать. Хотелось в её глазах выглядеть более взрослым и самостоятельным. Пытался добросовестно и как можно больше сделать домашней работы. И так, чтобы она не чувствовала угрызения совести, что из-за её болезни все домашние заботы легли на детские плечи. Готовил суп, мыл посуду, пытался стирать бельё. Мать показывала мне как после стирки и полоскания отжимать крупные вещи, пытаясь это делать сама, но я видел, что сил у неё на это не хватало. Она садилась на табурет к окну и наблюдала за моими действиями.
В глазах её отражалась печаль, а в голосе чувствовалась слабость. Но сегодня в нём было больше уверенности. Надо было бы обнять её и поцеловать, но в нашем обиходе не принято было так изливать свои чувства. Я только пообещал ей:
- Сегодня пойду в Ендову, там клубники больше бывает, и насобираю ещё.
- Вот было бы хорошо, - дала согласие мать.
II
В свободное от домашних дел время я уходил на улицу, где меня ждал мой товарищ Гришин Анатолий. Он был на три года младше меня, но это не мешало нам дружить. В своей семье он был баловнем, единственным ребёнком мужского рода. Отец его боготворил, видя в нём продолжателя своего рода. Вся семья спешила выполнять пришедшие в его голову капризы. Такое отношение к себе он пытался перенести и на улицу среди ребят. Но те не хотели ни в чём уступать ему, и дело иногда переходило в потасовку. В таком случае Анатолий поднимал крик и, заслышав его рёв, на выручку ему выходила бабушка Платонья с хворостиной в руках. Завидев её, кто-нибудь из ребят кричал:
- Бабушка Платонья с прутом!
Словно напуганные воробьи, вся ребятня разбегалась и пряталась за дворы, и на лужайке оставался один Анатолий, размазывая слёзы и грязь по своему лицу. Бабушка брала его за руку и уводила домой, грозя хворостиной в пустоту:
- Ну, дьяволы, погодите! Я вас ужо всех накажу, идолы проклятые. Попляшет хворостина по вашим спинам.
Бабушка с Анатолием скрывались за дверью своего дома. Хворостину она прятала до очередного своего выхода, а ребятня снова высыпала на лужайку и продолжала свои игры. Через некоторое время Анатолий тоже присоединялся к ним.
Но я пытался не обижать Анатолия и старался как-то сдружиться с ним. А основной тому причиной была его старшая сестра, в семье которую звали Шуркой. В неё я был влюблён, как говорят, по самые уши. Её появление, её голос во мне вызывали неописуемое волнение. Она всюду жила в моём воображении.
Выходя на улицу, я жаждал увидеть или услышать её. Но об этом она не знала, а я не смел заговорить с ней на эту тему, боясь потерять надежду на взаимность, или ещё хуже того – настроить её против себя. Я думал, что моя дружба с Анатолием как-то сблизит меня с ней, и мы будем чаще с ней видеться. Но этого не произошло. С Анатолием мы встречались только на улице, и ни разу я не был в их доме, и эта дружба никак не сказалась на наших отношениях с Шурой. Она по-прежнему не очень-то обращала на меня внимание, зато их бабушка была довольна нашей дружбой, потому что стала реже слышать с улицы плаксивый голос своего внука и выходить с хворостиной на улицу для его защиты. А наша дружба переросла в привязанность друг к другу, и мы всё больше времени проводили вместе, пропадая где-нибудь за селом в лугах. Там мы собирали щавель, тмин, борщовник и нещадно, убивая своё здоровье, как взрослые, курили махру, которую Анатолий воровал у своего отца. Махра у него была отменная, саксонская, светло-желтоватого цвета. Она не так сильно драла в горле, но слегка туманила наши мозги, отчего мы испытывали некоторое удовольствие.
III
В тот день я старался побыстрее закончить с домашними делами, чтобы, уговорив Анатолия, пораньше пойти за ягодами и насобирать их ещё больше, чем вчера. Когда чугун с варевом для обеда был поставлен на шестке на таган и под ним разведён огонь, мать согласилась на то, что сегодня она доварит обед. Забрав с собой под ягоды литровую банку, я отправился на улицу разыскивать Анатолия.
Он стоял на крыльце дома Семёновых, где тоже Анатолий, но Семёнов, его ровесник, шустро перебирая пальцами пуговки гармошки, мастерски выводил мелодию песни ?Катюша?. Ребята с наслаждением вслушивались в её звуки, завидуя таланту его игры. Мать ему редко разрешала выносить гармонь на улицу. Берегла её для старшего сына, который служил в армии. Вынес он её тайно, нарушив запрет матери, уступая просьбе ребят. В душе я его считал соперником, так как Шурка, когда она была на улице, всегда увивалась возле его, стараясь привлечь к себе его внимание, несмотря на то, что он был на два года моложе, и завидовал его умению игры на гармошке.
- За ягодами пойдёшь?- предложил я Гришину Анатолию.
- Надоело. Вчера за ягодами, сегодня… Не хочу. Давай лучше послушаем гармонь.
Отказ Анатолия меня огорчил. Как же он мог не понять, что это для меня было очень важно? Ягоды нужны были моей матери, которая была больна, они были для неё лекарством.
- А я не хочу гармонь слушать, - несмотря на то, что гармонь любил, заявил я. Мне надо идти за ягодами.
- Ну и иди, а я не пойду.
- Тогда оставайся,- уже злясь на него, проговорил я.
Скучно было идти одному, но я всё-таки решил непременно идти. И тут Семёнов Анатолий, сложив меха гармошки, вдруг заявил:
- А мне с тобой можно?
- А нам? – сразу запросились остальные. Их было человек десять. Среди них были и маленькие, которых было опасно уводить далеко от дома, так как на обратном пути их пришлось бы нести на руках, да мне и не хотелось брать с собой много ребят, так как я не любил ходить большими компаниями. Жалко было смотреть на клубничную полянку, где больше вытаптывали ягоды, чем собирали. Наконец отобралось человек пять, и мы вышли за огороды, направляясь в ягодные места, которые находились вдоль небольшой речушки Речлейки, разделяющей село на две почти равные части и впадавшей в речку Инсар.
IY
Дорога наша шла сначала по ровному полю, упираясь в низкий правый берег Речлейки. Левый берег был высокий и крутой, взобравшись на него, тут же оказываешься на сельском кладбище, огороженным земляным рвом и обсаженном густой жёлтой акацией.
Можно было, обогнув его, и не заходить на кладбище. Какая-то неведомая сила отталкивала от этого клочка земли и в то же время заставляла с волнением сердца вступить в это пространство с низкими холмиками и прогнившими деревянными крестами.
Выйдя с кладбища и обогнув глубокий овраг, который выходил к Речлейки, оказываешься у скотомогильника. Сюда возили и здесь закапывали сельчане подохшую скотину, в основном старых, отслуживших свой срок лошадей.
Миновав скотомогильник, оказываешься у большой, как огромная чаша, впадины. Стоишь на возвышенности, а там внизу бежит Речлейка, и за ней расстилается ровное поле. За ним виднеются маленькие домишки селений. С правой стороны, к западу, начинается постепенный подъём, который заканчивается ровным плато. Внизу этой ?чаши? небольшой овраг, поросший осокой, по краям которого выступают грунтовые воды, питающие Речлейку. Вверху ровное плато распахано и засеяно. Сама ?чаша?, видимо, из-за боязни эрозии почвы, не распахивалась и оставалась под луга.
Таких ?чаш?, по которым мы ходили, насчитывалось четыре, и каждая под своим именем; Малая Ива, Большая Ива, Малая Ендова и Большая Ендова, и чем дальше мы шли к истоку речушки, тем чаша оказывалась размером больше, чем предыдущая.
На дне этих ?чаш? из-за влажности росла буйная зелень. Трава доходила до колен. Но чем выше поднимаешься по взгорью, тем она всё ниже и ниже, а на самом верху – чуть ниже вершка, но зато чаще попадались полянки с разросшимся клубничником и с вкусными спелыми ягодами.
Малая Ива сельчанами использовалась под выпас общественного стада. Трава там поедалась скотиной, и клубники в ней было мало, лишь кое-где по краям маленьких овражков, поэтому мы сразу, миновав её, направились в Большую Иву, где нас встретил своим криком встревоженный чибис. Он кружил над нами и с беспокойством расспрашивал нас: ?Чьи вы? Чьи Вы??. Этот крик сельчанами переводился как ?вшивик?, по нему и называли эту птицу вшивиком. Кроме него низко над травой, выискивая очередную жертву, порхали жёлтые трясогузки, которые, усевшись на кочку, затейливо трясли своим хвостиком: вниз-вверх, вниз-вверх. А вверху, трепыхая крылышками, зависали серенькие жаворонки, приветствуя нас мелодичной трелью.
На этот раз и в Большой Иве спелой клубники оказалось мало, а клубничник был потоптан. Видимо, по этим местам прошёл кто-то раньше нас. Разочарованные ребята стали ворчать на меня, что напрасно я их соблазнил идти за ягодами, и собрались идти назад, домой. Но я не мог вернуться домой без ягод, меня дома ждала мать и ей необходимы были мои ягоды. А их у меня в банке было всего несколько пригоршен.
- Идите,- Заявил я им, а я пойду в Ендову.
Они встали в кучку, решая, как поступить.
- Дай закурить,- попросил я у Гришина Анатолия.
- Не давай, раз не хочет идти с нами, пусть без курева остаётся,- попытался повлиять на моё решение Семёнов Анатолий, но тот не стал его слушать и протянул мне щепоть махры. Я ловко скрутил ?козью ножку?, затянулся порцией дыма, и, не оглядываясь на ребят, зашагал в Ендову.
Y
Перевал, отделяющий Большую Иву от Малой Ендовы, напомнил мне эпизод из собственной жизни.
1944 год. Страна жила радостными вестями с фронта о новых успехах Красной Армии, но голод оставался таким же, как и в сорок втором и сорок третьем годах, в дни неудач на военном фронте.
Чтобы как-то заглушить его, мы со старшим братом отправились в эти места тоже по ягоды. Здесь на колхозном поле был посеян горох, который в это время ещё цвёл, но одновременно появились и первые несозревшие его стручки – лопатки. В них еле обозначились горошины, но они были съедобны целиком, поэтому пришедшие по ягоды голодные ребята тайком прокрадывались на поле и старались ими утолить голод. Для отпугивания их правление колхоза на это время содержало специального человека – объездчика, выделив ему лошадь. Мы с братом тоже не удержались и зашли на поле с горохом. Я жадно рвал стручки и засовывал их в рот, стараясь быстрее утолить голод, но от ароматного их сока ещё больше хотелось их есть.
В это время по полю разнеслись голоса:
- Объездчик!
Все мигом залегли на землю, пытаясь укрыться в зелёных зарослях гороха. Я поднял голову и увидел скачущего прямо на меня объездчика. Он щёлкал в воздухе кнутом. Путаясь в сплетениях гороха, я бросился наутёк, стараясь выбраться на луговину, где легче было бежать. Лошадь дышала за моей спиной, над головой щёлкал кнут объездчика, а он, забавляясь, дико хохотал над моей беспомощностью. От страха, от ожидания удара кнутом у меня сжимались плечи. Силы покидали меня. Многие любители гороха, уже не боясь объездчика, высунувшись, наблюдали за происходящей сценой. В голове промелькнуло: ?А что он мне может сделать? Убить? Пусть убьёт!?. Я резко остановился и повернулся лицом к объездчику. Лошадь чуть не уткнулась в меня, тоже встала. Я увидел довольную, хохочущую рожу объездчика и занесённый над моей головой кнут для очередного хлопка. С искажённым от обиды и злости лицом, из последних сил я с ненавистью прокричал:
- Ну, бей! Бей! Что? Испугался?!
Я стал наступать на него. Лошадь попятилась назад, а объездчик вдруг изменился в лице, улыбка сменилась смятением. Я нагнулся и схватил ком засохшей земли.
- Ты что, хлопец? Я ведь пошутил,- бросил он и, повернув лошадь, ускакал прочь.
YI
Вспомнив это, я вдруг наткнулся на небольшую полянку, где краснели нетронутые ягоды. Нагнувшись, стал спешно обрывать, отбирая крупные и спелые в банку для матери, а помельче и зелёные – себе в рот. Собрав ягоды с этой полянки, я стал подниматься выше и снова наткнулся на полянку нетронутых ягод. Через несколько минут моя банка была наполнена крупными, спелыми ягодами. Поднявшись ещё выше, я снова вышел на ягоды. Их уже не во что было собирать, и тогда я, оставив банку на земле, стал их собирать в свою фуражку. Обобрав очередную полянку, и, чтобы не нести фуражку в руках, её я с ягодами надел на голову так, чтобы они не могли просыпаться. Поднялся выше на самое плато. Вздохнув всей грудью, я огляделся. Там, на восточной стороне, далеко-далеко виднелись домишки селений, похожие на спичечные коробки. Ближе ко мне, у самой Речлейки, сидели мои друзья, которые ещё не ушли домой, курили махорку. С западной стороны зеленело поле, по которому когда-то я бегал от объездчика. В небе продолжали звенеть песни жаворонка, а чибис, провожавший нас, успокоился и скрылся где-то в траве.
Я снова наклонился и стал смотреть под ноги, разыскивая ягоды покрупней. Неожиданно мне прямо под ноги упал серенький комочек. Я вздрогнул и увидел жаворонка. Хотел его машинально схватить руками, но он, отлетев от меня шага на два, снова юркнул мне под ноги. Такое повторилось два раза. В третий раз я сорвал с головы фуражку и, рассыпав по земле находящиеся в ней ягоды, накрыл ею жаворонка. В это время меня кто-то сильно ударил по голове. Я взглянул вверх и увидел огромную птицу, пролетавшую надо мной. Она готовилась снова на меня в атаку.
Коршун! Так мы называли птицу, которая иногда, кружась над селом, утаскивала у хозяев зазевавшихся кур и цыплят, а мы, ребятня, завидев её, хватали пустые вёдра и, гремя ими, отпугивали её от села.
Теперь я понял странное поведение жаворонка. Спасаясь от коршуна, он искал защиту у человека и видел в нём своего спасителя. Я держал в руках этот трепещущий комочек, а коршун требовал его возврата, стараясь ударить меня клювом. Но я отскочил, и он стал заходить на очередной круг. Я схватил засохший ком земли и бросил ему навстречу, но он увернулся от удара, снова бросился в атаку. Глазами я искал какой–нибудь предмет, которым мог бы защититься от этой обезумевший от злости кровожадной птицы. Возможно, голод заставил его с таким остервенением бросаться на меня. На земле я увидел заржавевший, погнутый металлический пруток от какой-то сельхозмашины и при очередном заходе, попытался ударить им нахальную птицу, но она ловко увернулась и, поняв, что проиграла борьбу, замахала огромными крыльями, направляясь в сторону сельского кладбища.
Убедившись, что коршун уже больше не вернётся, я взглянул на крохотную птичку, зажатую у меня в руках. Сердечко её билось так учащённо и сильно, что удары его передавались мне, а в чёрненьких круглых глазах был страх ожидания: оправдаются ли её надежды на спасение?
Я чуть-чуть разжал пальцы, чтобы она почувствовала, что от меня не может исходить угрозы для её жизни, и стал ждать, когда она немного успокоится.
Наконец-то её сердечко стало стучать не так учащённо, ровнее. Я, подержав её ещё немного, чуть вытянул руку перед собой, стал постепенно разжимать пальцы. Она оказалась на открытой ладони, но продолжала сидеть, не шелохнувшись. Я чуть шевельнул ладонью, давая ей понять, что она спасена, свободна и может снова лететь по своим делам.
Она шевельнула головкой, встрепенулась, взмахнув крыльями, сорвалась с ладони и устремилась ввысь. И я провожал её взглядом до тех пор, пока она не скрылась из вида.
Тут я вспомнил про рассыпанную клубнику и стал её поспешно собирать с земли обратно в фуражку.
В этот светлый день я был дважды рад и счастлив. От того, что маленькая серенькая птичка именно у меня, того, который сам сильно нуждался в защите в этом непростом, жестоком мире, искала защиту от неминуемой гибели. И я сумел её защитить от этой беды. А ещё оттого, что я всё-таки выполнил обещание, которое дал: набрал крупных, спелых, сочных ягод своей больной матери, чтобы она прожила ещё несколько лет на этой грешной земле на радость её детям.
Я очень обрадовался словам матери и был счастлив оттого, что собранная мною вчера на лугах клубника так благотворно сказалась на состоянии её здоровья. Ещё месяца два назад у неё отказали ноги, и она не могла ходить. Мать увезли в районную больницу, где она пролежала около месяца. Кроме того, из-за недостаточного питания и перенесённого голода во время войны, у неё стал болеть желудок. Когда отец привёз её домой, она была очень бледная и еле передвигалась по дому. Приходили соседки и, глядя на неё, охали:
- Случись что, кому они нужны будут?
Это относилось к нам, её детям, пятерым из которых нужно было расти и расти до самостоятельной жизни.
Я тоже переживал за свою мать, но изо всех сил старался ей это не показывать. Хотелось в её глазах выглядеть более взрослым и самостоятельным. Пытался добросовестно и как можно больше сделать домашней работы. И так, чтобы она не чувствовала угрызения совести, что из-за её болезни все домашние заботы легли на детские плечи. Готовил суп, мыл посуду, пытался стирать бельё. Мать показывала мне как после стирки и полоскания отжимать крупные вещи, пытаясь это делать сама, но я видел, что сил у неё на это не хватало. Она садилась на табурет к окну и наблюдала за моими действиями.
В глазах её отражалась печаль, а в голосе чувствовалась слабость. Но сегодня в нём было больше уверенности. Надо было бы обнять её и поцеловать, но в нашем обиходе не принято было так изливать свои чувства. Я только пообещал ей:
- Сегодня пойду в Ендову, там клубники больше бывает, и насобираю ещё.
- Вот было бы хорошо, - дала согласие мать.
II
В свободное от домашних дел время я уходил на улицу, где меня ждал мой товарищ Гришин Анатолий. Он был на три года младше меня, но это не мешало нам дружить. В своей семье он был баловнем, единственным ребёнком мужского рода. Отец его боготворил, видя в нём продолжателя своего рода. Вся семья спешила выполнять пришедшие в его голову капризы. Такое отношение к себе он пытался перенести и на улицу среди ребят. Но те не хотели ни в чём уступать ему, и дело иногда переходило в потасовку. В таком случае Анатолий поднимал крик и, заслышав его рёв, на выручку ему выходила бабушка Платонья с хворостиной в руках. Завидев её, кто-нибудь из ребят кричал:
- Бабушка Платонья с прутом!
Словно напуганные воробьи, вся ребятня разбегалась и пряталась за дворы, и на лужайке оставался один Анатолий, размазывая слёзы и грязь по своему лицу. Бабушка брала его за руку и уводила домой, грозя хворостиной в пустоту:
- Ну, дьяволы, погодите! Я вас ужо всех накажу, идолы проклятые. Попляшет хворостина по вашим спинам.
Бабушка с Анатолием скрывались за дверью своего дома. Хворостину она прятала до очередного своего выхода, а ребятня снова высыпала на лужайку и продолжала свои игры. Через некоторое время Анатолий тоже присоединялся к ним.
Но я пытался не обижать Анатолия и старался как-то сдружиться с ним. А основной тому причиной была его старшая сестра, в семье которую звали Шуркой. В неё я был влюблён, как говорят, по самые уши. Её появление, её голос во мне вызывали неописуемое волнение. Она всюду жила в моём воображении.
Выходя на улицу, я жаждал увидеть или услышать её. Но об этом она не знала, а я не смел заговорить с ней на эту тему, боясь потерять надежду на взаимность, или ещё хуже того – настроить её против себя. Я думал, что моя дружба с Анатолием как-то сблизит меня с ней, и мы будем чаще с ней видеться. Но этого не произошло. С Анатолием мы встречались только на улице, и ни разу я не был в их доме, и эта дружба никак не сказалась на наших отношениях с Шурой. Она по-прежнему не очень-то обращала на меня внимание, зато их бабушка была довольна нашей дружбой, потому что стала реже слышать с улицы плаксивый голос своего внука и выходить с хворостиной на улицу для его защиты. А наша дружба переросла в привязанность друг к другу, и мы всё больше времени проводили вместе, пропадая где-нибудь за селом в лугах. Там мы собирали щавель, тмин, борщовник и нещадно, убивая своё здоровье, как взрослые, курили махру, которую Анатолий воровал у своего отца. Махра у него была отменная, саксонская, светло-желтоватого цвета. Она не так сильно драла в горле, но слегка туманила наши мозги, отчего мы испытывали некоторое удовольствие.
III
В тот день я старался побыстрее закончить с домашними делами, чтобы, уговорив Анатолия, пораньше пойти за ягодами и насобирать их ещё больше, чем вчера. Когда чугун с варевом для обеда был поставлен на шестке на таган и под ним разведён огонь, мать согласилась на то, что сегодня она доварит обед. Забрав с собой под ягоды литровую банку, я отправился на улицу разыскивать Анатолия.
Он стоял на крыльце дома Семёновых, где тоже Анатолий, но Семёнов, его ровесник, шустро перебирая пальцами пуговки гармошки, мастерски выводил мелодию песни ?Катюша?. Ребята с наслаждением вслушивались в её звуки, завидуя таланту его игры. Мать ему редко разрешала выносить гармонь на улицу. Берегла её для старшего сына, который служил в армии. Вынес он её тайно, нарушив запрет матери, уступая просьбе ребят. В душе я его считал соперником, так как Шурка, когда она была на улице, всегда увивалась возле его, стараясь привлечь к себе его внимание, несмотря на то, что он был на два года моложе, и завидовал его умению игры на гармошке.
- За ягодами пойдёшь?- предложил я Гришину Анатолию.
- Надоело. Вчера за ягодами, сегодня… Не хочу. Давай лучше послушаем гармонь.
Отказ Анатолия меня огорчил. Как же он мог не понять, что это для меня было очень важно? Ягоды нужны были моей матери, которая была больна, они были для неё лекарством.
- А я не хочу гармонь слушать, - несмотря на то, что гармонь любил, заявил я. Мне надо идти за ягодами.
- Ну и иди, а я не пойду.
- Тогда оставайся,- уже злясь на него, проговорил я.
Скучно было идти одному, но я всё-таки решил непременно идти. И тут Семёнов Анатолий, сложив меха гармошки, вдруг заявил:
- А мне с тобой можно?
- А нам? – сразу запросились остальные. Их было человек десять. Среди них были и маленькие, которых было опасно уводить далеко от дома, так как на обратном пути их пришлось бы нести на руках, да мне и не хотелось брать с собой много ребят, так как я не любил ходить большими компаниями. Жалко было смотреть на клубничную полянку, где больше вытаптывали ягоды, чем собирали. Наконец отобралось человек пять, и мы вышли за огороды, направляясь в ягодные места, которые находились вдоль небольшой речушки Речлейки, разделяющей село на две почти равные части и впадавшей в речку Инсар.
IY
Дорога наша шла сначала по ровному полю, упираясь в низкий правый берег Речлейки. Левый берег был высокий и крутой, взобравшись на него, тут же оказываешься на сельском кладбище, огороженным земляным рвом и обсаженном густой жёлтой акацией.
Можно было, обогнув его, и не заходить на кладбище. Какая-то неведомая сила отталкивала от этого клочка земли и в то же время заставляла с волнением сердца вступить в это пространство с низкими холмиками и прогнившими деревянными крестами.
Выйдя с кладбища и обогнув глубокий овраг, который выходил к Речлейки, оказываешься у скотомогильника. Сюда возили и здесь закапывали сельчане подохшую скотину, в основном старых, отслуживших свой срок лошадей.
Миновав скотомогильник, оказываешься у большой, как огромная чаша, впадины. Стоишь на возвышенности, а там внизу бежит Речлейка, и за ней расстилается ровное поле. За ним виднеются маленькие домишки селений. С правой стороны, к западу, начинается постепенный подъём, который заканчивается ровным плато. Внизу этой ?чаши? небольшой овраг, поросший осокой, по краям которого выступают грунтовые воды, питающие Речлейку. Вверху ровное плато распахано и засеяно. Сама ?чаша?, видимо, из-за боязни эрозии почвы, не распахивалась и оставалась под луга.
Таких ?чаш?, по которым мы ходили, насчитывалось четыре, и каждая под своим именем; Малая Ива, Большая Ива, Малая Ендова и Большая Ендова, и чем дальше мы шли к истоку речушки, тем чаша оказывалась размером больше, чем предыдущая.
На дне этих ?чаш? из-за влажности росла буйная зелень. Трава доходила до колен. Но чем выше поднимаешься по взгорью, тем она всё ниже и ниже, а на самом верху – чуть ниже вершка, но зато чаще попадались полянки с разросшимся клубничником и с вкусными спелыми ягодами.
Малая Ива сельчанами использовалась под выпас общественного стада. Трава там поедалась скотиной, и клубники в ней было мало, лишь кое-где по краям маленьких овражков, поэтому мы сразу, миновав её, направились в Большую Иву, где нас встретил своим криком встревоженный чибис. Он кружил над нами и с беспокойством расспрашивал нас: ?Чьи вы? Чьи Вы??. Этот крик сельчанами переводился как ?вшивик?, по нему и называли эту птицу вшивиком. Кроме него низко над травой, выискивая очередную жертву, порхали жёлтые трясогузки, которые, усевшись на кочку, затейливо трясли своим хвостиком: вниз-вверх, вниз-вверх. А вверху, трепыхая крылышками, зависали серенькие жаворонки, приветствуя нас мелодичной трелью.
На этот раз и в Большой Иве спелой клубники оказалось мало, а клубничник был потоптан. Видимо, по этим местам прошёл кто-то раньше нас. Разочарованные ребята стали ворчать на меня, что напрасно я их соблазнил идти за ягодами, и собрались идти назад, домой. Но я не мог вернуться домой без ягод, меня дома ждала мать и ей необходимы были мои ягоды. А их у меня в банке было всего несколько пригоршен.
- Идите,- Заявил я им, а я пойду в Ендову.
Они встали в кучку, решая, как поступить.
- Дай закурить,- попросил я у Гришина Анатолия.
- Не давай, раз не хочет идти с нами, пусть без курева остаётся,- попытался повлиять на моё решение Семёнов Анатолий, но тот не стал его слушать и протянул мне щепоть махры. Я ловко скрутил ?козью ножку?, затянулся порцией дыма, и, не оглядываясь на ребят, зашагал в Ендову.
Y
Перевал, отделяющий Большую Иву от Малой Ендовы, напомнил мне эпизод из собственной жизни.
1944 год. Страна жила радостными вестями с фронта о новых успехах Красной Армии, но голод оставался таким же, как и в сорок втором и сорок третьем годах, в дни неудач на военном фронте.
Чтобы как-то заглушить его, мы со старшим братом отправились в эти места тоже по ягоды. Здесь на колхозном поле был посеян горох, который в это время ещё цвёл, но одновременно появились и первые несозревшие его стручки – лопатки. В них еле обозначились горошины, но они были съедобны целиком, поэтому пришедшие по ягоды голодные ребята тайком прокрадывались на поле и старались ими утолить голод. Для отпугивания их правление колхоза на это время содержало специального человека – объездчика, выделив ему лошадь. Мы с братом тоже не удержались и зашли на поле с горохом. Я жадно рвал стручки и засовывал их в рот, стараясь быстрее утолить голод, но от ароматного их сока ещё больше хотелось их есть.
В это время по полю разнеслись голоса:
- Объездчик!
Все мигом залегли на землю, пытаясь укрыться в зелёных зарослях гороха. Я поднял голову и увидел скачущего прямо на меня объездчика. Он щёлкал в воздухе кнутом. Путаясь в сплетениях гороха, я бросился наутёк, стараясь выбраться на луговину, где легче было бежать. Лошадь дышала за моей спиной, над головой щёлкал кнут объездчика, а он, забавляясь, дико хохотал над моей беспомощностью. От страха, от ожидания удара кнутом у меня сжимались плечи. Силы покидали меня. Многие любители гороха, уже не боясь объездчика, высунувшись, наблюдали за происходящей сценой. В голове промелькнуло: ?А что он мне может сделать? Убить? Пусть убьёт!?. Я резко остановился и повернулся лицом к объездчику. Лошадь чуть не уткнулась в меня, тоже встала. Я увидел довольную, хохочущую рожу объездчика и занесённый над моей головой кнут для очередного хлопка. С искажённым от обиды и злости лицом, из последних сил я с ненавистью прокричал:
- Ну, бей! Бей! Что? Испугался?!
Я стал наступать на него. Лошадь попятилась назад, а объездчик вдруг изменился в лице, улыбка сменилась смятением. Я нагнулся и схватил ком засохшей земли.
- Ты что, хлопец? Я ведь пошутил,- бросил он и, повернув лошадь, ускакал прочь.
YI
Вспомнив это, я вдруг наткнулся на небольшую полянку, где краснели нетронутые ягоды. Нагнувшись, стал спешно обрывать, отбирая крупные и спелые в банку для матери, а помельче и зелёные – себе в рот. Собрав ягоды с этой полянки, я стал подниматься выше и снова наткнулся на полянку нетронутых ягод. Через несколько минут моя банка была наполнена крупными, спелыми ягодами. Поднявшись ещё выше, я снова вышел на ягоды. Их уже не во что было собирать, и тогда я, оставив банку на земле, стал их собирать в свою фуражку. Обобрав очередную полянку, и, чтобы не нести фуражку в руках, её я с ягодами надел на голову так, чтобы они не могли просыпаться. Поднялся выше на самое плато. Вздохнув всей грудью, я огляделся. Там, на восточной стороне, далеко-далеко виднелись домишки селений, похожие на спичечные коробки. Ближе ко мне, у самой Речлейки, сидели мои друзья, которые ещё не ушли домой, курили махорку. С западной стороны зеленело поле, по которому когда-то я бегал от объездчика. В небе продолжали звенеть песни жаворонка, а чибис, провожавший нас, успокоился и скрылся где-то в траве.
Я снова наклонился и стал смотреть под ноги, разыскивая ягоды покрупней. Неожиданно мне прямо под ноги упал серенький комочек. Я вздрогнул и увидел жаворонка. Хотел его машинально схватить руками, но он, отлетев от меня шага на два, снова юркнул мне под ноги. Такое повторилось два раза. В третий раз я сорвал с головы фуражку и, рассыпав по земле находящиеся в ней ягоды, накрыл ею жаворонка. В это время меня кто-то сильно ударил по голове. Я взглянул вверх и увидел огромную птицу, пролетавшую надо мной. Она готовилась снова на меня в атаку.
Коршун! Так мы называли птицу, которая иногда, кружась над селом, утаскивала у хозяев зазевавшихся кур и цыплят, а мы, ребятня, завидев её, хватали пустые вёдра и, гремя ими, отпугивали её от села.
Теперь я понял странное поведение жаворонка. Спасаясь от коршуна, он искал защиту у человека и видел в нём своего спасителя. Я держал в руках этот трепещущий комочек, а коршун требовал его возврата, стараясь ударить меня клювом. Но я отскочил, и он стал заходить на очередной круг. Я схватил засохший ком земли и бросил ему навстречу, но он увернулся от удара, снова бросился в атаку. Глазами я искал какой–нибудь предмет, которым мог бы защититься от этой обезумевший от злости кровожадной птицы. Возможно, голод заставил его с таким остервенением бросаться на меня. На земле я увидел заржавевший, погнутый металлический пруток от какой-то сельхозмашины и при очередном заходе, попытался ударить им нахальную птицу, но она ловко увернулась и, поняв, что проиграла борьбу, замахала огромными крыльями, направляясь в сторону сельского кладбища.
Убедившись, что коршун уже больше не вернётся, я взглянул на крохотную птичку, зажатую у меня в руках. Сердечко её билось так учащённо и сильно, что удары его передавались мне, а в чёрненьких круглых глазах был страх ожидания: оправдаются ли её надежды на спасение?
Я чуть-чуть разжал пальцы, чтобы она почувствовала, что от меня не может исходить угрозы для её жизни, и стал ждать, когда она немного успокоится.
Наконец-то её сердечко стало стучать не так учащённо, ровнее. Я, подержав её ещё немного, чуть вытянул руку перед собой, стал постепенно разжимать пальцы. Она оказалась на открытой ладони, но продолжала сидеть, не шелохнувшись. Я чуть шевельнул ладонью, давая ей понять, что она спасена, свободна и может снова лететь по своим делам.
Она шевельнула головкой, встрепенулась, взмахнув крыльями, сорвалась с ладони и устремилась ввысь. И я провожал её взглядом до тех пор, пока она не скрылась из вида.
Тут я вспомнил про рассыпанную клубнику и стал её поспешно собирать с земли обратно в фуражку.
В этот светлый день я был дважды рад и счастлив. От того, что маленькая серенькая птичка именно у меня, того, который сам сильно нуждался в защите в этом непростом, жестоком мире, искала защиту от неминуемой гибели. И я сумел её защитить от этой беды. А ещё оттого, что я всё-таки выполнил обещание, которое дал: набрал крупных, спелых, сочных ягод своей больной матери, чтобы она прожила ещё несколько лет на этой грешной земле на радость её детям.
Метки: