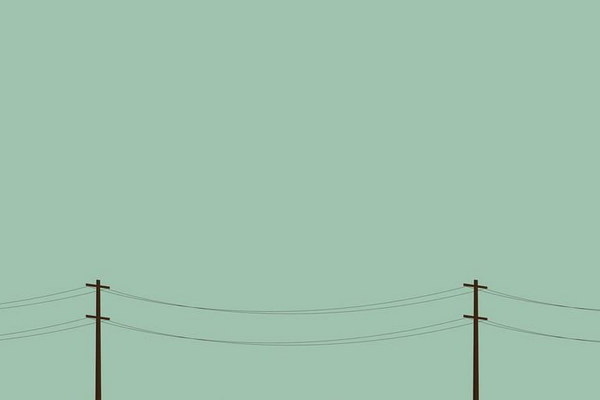москва-4
МОСКВА
И черт ли нам в Алабаме?\Что нам чужая трава?\Мы и в могильной яме\Мертвыми, злыми губами\Произнесем: ?Москва?. Иван Елагин Так же тускнеют даты.
И я под мышкою у леса\сам своего не чую веса.\Скорее вон! Запрыгали засовы.\Москва. Манеж. Гулянье горожан.\Но за спиною оставались совы.\И я в зрачках по-прежнему лежал. Сергей Шаргунов ?Арион? 2003, №1 БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ
И, вскипая русской кровью\И могучею любовью\К славе царской горяча,\Исполинов коронует,\И звонит, и торжествует,\Медным голосом звуча. Владимир Бенедиктов 1838 Москва
Иду по Москве, по асфальтовой корке,\Гляжу: на асфальте топорщатся горки...\Усилием воли, могучей как сталь,\Какой-то силач пробивает асфальт. Александр Солодовников 1964 На московском асфальте
Как вольно полощется красное знамя! Как молод еще этот яростный город!\За это вот знамя под ветром, за голы Рожденья, и роста, и юности ранней, За мужество ветреной этой погоды, За говор предвыборных наших собраний,\За честь, за историю славы народной, За бури, которые ты подымала, За труд человеческий и благородный Мы жизнь отдаем — но и этого мало! Павел Антокольский БОЛЬШАЯ МОСКВА 1938
Москва как крепкий пень кругла.\ Лишь трещинок неразбериха\ осталась ныне от ствола,\ когда-то спиленного лихо. Владимир Губайловский ?Дружба Народов? 2006, №11 Москва как крепкий пень кругла.
Москва как скважина сухая,\засыпанная шлаком жалоб.\А ты идешь, жару вдыхая,\и видишь: все вокруг разжалось-\улыбки, улицы-спирали\и цель, как скрепка из дюрали,\соединяющая дни.\Куда теряются они? Инга Кузнецова 2002
* * *
Ноги не шевелятся. Голова свинцова.
Что там было, не было, почему бузил?
На Восточной улице стадион Стрельцова,
Где навозной кучею Дом культуры ?ЗиЛ?.
В ноябре не хочется уезжать на взморье.
А сюда и вовсе я никого не звал.
Ну а на Крутицкое хлипкое подворье
Приведет наверное Симоновский вал.
Выйду мирно к берегу, подожду трамвая,
Будет ночью в городе крупная Луна.
Ноги не шевелятся. Голова кривая.
Вся Москва разрушена. Позади стена. Евгений Лесин ДЕТИ РА ЦИКЛ Нет повода печалиться
ЕВГЕНИЙ РЕЙН Кн. ?Мне скучно без Довлатова? 1997
Северный полюс, проталины, лед,
что же так низко идет самолет?
Может, авария? Нет, пронесло.
Вот и в Москве наступает число.
Нового Времени, новых разрух,
переведи-ка свой ?Роллекс? и дух.
Вот Шереметьевский ржавый утиль.
Здесь моя сказка, и здесь моя быль.
Тридцать ушло в нее ровно годков,
что же сказать мне, порядок таков.
Жизнь — это жизнь. А любовь есть
любовь.
Кровь — это кровь. А морковь есть
морковь.
Есть еще новь и свекровь — но таков
вечный порядок, к нему я готов.
Ежели надо тут что объяснять,
значит, не надо совсем объяснять.
В будущей жизни увидимся, друг,
может быть, будет нам там недосуг,
снова вернуться к старинным делам,
будем гулять там, курить фимиам,
вот вылезают из брюха шасси,
Боже, помилуй нас всех и спаси,
темные тени над бедной Москвой,
что за печальный пейзаж городской,
кончено, кончено, финиш, финал,
все, что имел я, уже потерял.
Дождик осенний затылок сечет,
что миновало — уже не в зачет.
Что наше прошлое — свет и туман.
Истое, ложное — это генплан.
Что по генплану построим, друзья?
Знать это нам невозможно, нельзя.
Истина — вот — и ясна и проста.
Возле такси подставляет уста
то, что случилось, — всегда навсегда,
наша победа и наша беда.
Наше единое счастье впотьмах,
наши ботинки в наших домах,
наши котлеты на нашей плите…
Гегель лежит в ледяной темноте.
Мы пребываем в низине земли,
слушай, товарищ, гляди и внемли,
ты обручен с этой жизнью одной,
с ней ты повязан, чужой и родной,
крепкие цепи на наших руках,
в этом вертепе — все счастье, все прах.
Так позабудь тот заветный листок,
Гегель его, как ты видел, поджег,
утро в Нью-Йорке, а вечер в Москве,
все мы подвешены на волоске.
Днем в Амстердаме покой, благодать,
я вам советую там побывать.
Я вам советую как-то домой
взять и вернуться под ваш выходной,
скинуть ботинки и лечь на диван,
все остальное мираж и обман.
Книгу открыть, поглядеть на жену,
штору задернуть, остаться в плену.
Это мне Гегель в том баре сказал,
то же он в старых трудах написал.
Камень на камень, кирпич на кирпич,
Гегель, мой Гегель, Владимир Ильич.
1990
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (1932-1994)
?ДРЕЙФУЮЩИЙ ПРОСПЕКТ? (сборник 1959)
Возвращение
Четырнадцать часов полета,
и —
Москва…
Молчи.
Не говори ненужные слова.
Аэродром.
Синеющий лесок.
Через него —
шоссе наискосок.
Недвижна голубая крутизна…
Стоим —
оглушены,
удивлены.
Деревьями и воздухом
пьяны.
?Вот мы и возвратились, старина!?
..И можно,
никого не удивив,
шоферу крикнуть:
?Эй!
Останови!?
Быть наяву,
не выходя
из сна, —
упасть в траву,
услышать, как растет она.
Глядеть вокруг.
По лугу медленно пройтись…
Ослепнуть вдруг
от грянувшего пенья птиц.
Нарвать ромашек.
Вымокнуть в росе.
И вновь смотреть,
как косо
падает
шоссе.
Смеяться,
петь до хрипоты,
кричать!
…Как мог я раньше этого
не замечать?!
Как мог я думать,
будто понял
жизнь?..
То вверх,
то вниз летит шоссе, —
держись!
А мы молчим…
Шоссе — то вниз,
то вверх.
Звенит оно,
летит оно
к Москве!
К Москве.
К тебе…
Закрыть счастливые глаза.
И вдруг понять,
что через полчаса —
то,
чем ты жив:
твой город.
Твой порог.
Твоя судьба —
начало
будущих дорог.
1.07.2017
Померяла сегодня сахарок.
Не так и плох. Дала себе зарок
Еще измерить — хоть к исходу лета.
Недаром не любила я сироп.
Лишь только воздухнебольших европ
Меня подлечит, вроде спас-жилета…
Померяла давление… Ну-ну.
Не в этом месте я пойду ко дну.
Не здесь я затону без кислорода.
А этот шум ужасный в голове —
Пускай он весь останется в Москве,
Когда свобода встретит нас у входа.
Померяла — чего бы там еще…
Гастроскопия? Как-то горячо…
Колоно, что ли? Тоже нагреватель.
Ведь ищешь — чтобы все как у людей.
Давление и сахар. Семь смертей.
То, что ты любишь, братец-обыватель.
Вся в шрамах, изумляющих народ.
Приборы шкалят и наоборот —
Ничто не измеряется, ей-богу.
И с самолетом я договорюсь,
И с сахаром надежно притворюсь.
Готовься, Стикс, встречать мою пирогу. Вероника Долина Иди сюда, мой свет (Летние стихи 2017) ДЕТИ РА 2018
ЕВГЕНИЙ РЕЙН Кн. ?Мне скучно без Довлатова? 1997
ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ
Т. Венцлова, П. Моркусу, В. Чапайтису, а также памяти А. А. Штейнберга
Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробе живот даровав.
Православный молитвослов
В будущем году в Ершалаиме!
Еврейское пасхальное присловие
К чему, скажите мне, хранительная стража? —
Или распятие казенная поклажа,
И вел боитесь воров или мышей? —
Иль мните важности придать царю царей?
А. С. Пушкин
Командировку выписали утром,
билет на понедельник. Значит, нынче
гуляй от пуза. Плюнем на дела.
Не ранее восьмого часа я заехал
к Зисканду. Огромная овчарка
по прозвищу Руслан — добрейший зверь —
толкнула меня грудью в коридоре,
едва не сбила с ног. Пардон, Руслан.
Добрейший зверь, умерь свои порывы.
Четыре кошки вышли за Русланом.
Одна из них нубийская, она
родоначальница в Москве нубийских кошек,
ей сорок лет, и все еще жива.
На то она нубийская. А Зисканд
был рад визиту моему. Он, Зисканд,
умнейший человек, громадный тип.
Лет семьдесят, к тому же переводчик
поэзии и прозы и чего угодно, и
поэт отменный, книг не издававший.
А жизнь сложилась странно, он дружил
с Багрицким, Маяковским, Мандельштамом,
переводил стихи, потом сидел,
сидел и воевал… Полковник,
комендант Софии, какие-то трофейные дела
с валютой, драгоценностями… Он снова
на десяток лет садится, выходит
снова подбирать катрены, терцины,
триолеты и октавы для ?Ила? и ?Гослита?.
И еще он был женат на девочке Агафье,
на сорок ровно старше был ее.
И, я клянусь, из мне известных браков
Зиновий Зисканд и его Агафья
составили весьма счастливый брак.
Что было главное в Зиновии? Не знаю.
Но жизнь хотел бы я прожить, как он,
не в лагерях и не в Багрицком дело,
не в орденах, не в переводах даже…
И вот я за столом. И, Боже мой,
что происходит — я не понимаю.
Гостей четыре человека, пятый я,
хозяева уселись на подушки,
разложенные на корявых стульях.
Хрен, редька на столе, и Зисканд сам
их называет почему-то ?морер?,
а рядом на тарелке смесь корицы
с толченым сахаром — Агафья говорит,
что это ?хоросес?, — впервые слышу;
оказывается, это символ той глины,
что евреи размесили в Египте некогда.
Нас семеро, но на столе восьмой до половины
налит стакан. Агафья говорит, что это
для пророка Илии. И дверь открыта,
чтобы он зашел. По пятикнижию Зиновий
читает что-то. Спрашивает нас:
что означает эта ночь?
Зачем сидим мы на подушках?
И почему горчайшие едим на свете травы —
редьку, хрен, чеснок?
Хотите верьте, а хотите — нет:
дверь распахнулась — и вошел Илья,
и сел за свой стаканчик. Помолчали.
А радостный Зиновий Зисканд вдруг,
откинув скобку пегой волосни, сказал:
?Итак, друзья, в Ершалаиме в году
грядущем!? Я стакан допил до дна,
Еще налил и выпил. Нынче сейдер!
А я еврей. Не знал совсем об этом.
Но ничего — я все-таки еврей и потому:
На следующий год в Ершалаиме!
А в понедельник летная погода,
?Ту-104? полтора часа летит
и приземляется в Литве.
Друзья меня встречают, и на ?Волге?,
на старой ?Волге? М-21 мы едем в Вильно.
Что же, здравствуй, Вильно.
Я восемь лет здесь ровно не бывал,
до этого же четверть жизни прожил
я в городочке Вильно у друзей.
Я поселяюсь в маленьком отеле,
где жил когда-то.
Уютный номер и окно во двор,
умеренный комфорт, вполне удобно.
На стенке модернистский натюрморт
художника Цирюлиса. Гальюн и ванна,
даже холодильник и телевизор.
В общем, ничего на свете мне не нужно.
Кроме того, что собрано под кровом
гостеприимной ?Неринги?, — и вот
литвины в номерочке у меня.
Один поэт, хитрец, безумец — личность
запутанная; я его люблю, наследник
миллионов, пошутивший однажды так:
?Алкоголизм, хоть слово дико,
но мне ласкает слух оно?.
Другой — хозяин лучшего из лучших
приютов нашей юности. Его обширный
дом на улице Леиклос служил для нас
убежищем, тогда, в старинное исчезнувшее время,
когда мы были вместе. Но, увы, дом этот
так же разорен, как наши домы.
Тот человек историк и — хороший,
когда теперь закончит он трактат?
Он мрачно пиво пьет — бутылок десять
сразу и сумрачно грызет сухой миндаль.
А третий весельчак и бонвиван,
Толстяк в английском дорогом костюме,
работает себе на кинониве,
сценарий за сценарием строчит —
и все успешно, все в большом порядке.
Он умница, тончайший человек,
поклонник Де Кюстина и Де Сада,
любитель сала, семги, маринада,
предпочитает в Вильнюсе районы
конца восьмидесятых-девяностых,
начала века, говорит: одни они
доносят дух времен, а прочее,
а старина — все липа.
Он умница, тончайший человек,
предпочитает белую головку.
И так проходит ровно шесть деньков.
И вот над Вильнюсом стоит пасхальный вечер —
с поэтом и безумцем мы идем к известной
всем ?двуглавой Катарине?, прекраснейшему
из костелов мира, что в письмах отмечал
Наполеон. Заходим внутрь — там тихо и не тесно.
Костелов много, места хватит всем.
Ни музыки, ни пенья — в этот вечер
католики лишь бодрствуют, они проходят Духом
до своей Голгофы. А в боковом притворе что?
Макет наивный, здесь фанерная пещера, гора,
Христос. Поэт, мой спутник, сразу
на колена и шепчет заклинанья.
Я стою в углу. Я тоже, тоже связан со
Христом, но все не так-то просто.
Что тут делать? Ум величайший
русского народа все это изложил
примерно так: ?К чему инстанции,
бюрократия, служба, казна и
государственный чиновник (или церковный —
это все равно), когда пред нами
царь царей, когда венец терновый
без административного начала приял он на себя,
и можно ли прибавить что-нибудь тому,
кто добровольно расстался с жизнию
за род людской??
Я понимаю пушкинское слово примерно так,
но это я. Мое я никому не втискиваю мненье.
Пятнадцати минут вполне довольно,
мой друг встает с колен, и мы выходим.
Прекрасный вечер — холодно и ясно,
свежо и восхитительно. Идем в косые
улочки еврейского квартала.
Выходим к Стиклю. ?Мы куда идем?? —
?К одной красотке?, — отвечает спутник.
?Которой именно?? — ?Сейчас увидишь сам!? —
?Ну, объясни?. — ?Осталось две минуты,
увидишь сам!? — ?Ну, хорошо?.
Заходим мы во дворик, деревянная терраса,
крутая лестница, на ней зачем-то мрамор
и деревянные чурбаны (скоро, скоро
все объяснится). Мой дружок стучит.
Дверь отворяют. Входим. Перед нами
стоит красавица. Мне хочется заплакать.
Мне сорок лет, я видел трех красавиц
за сорок лет. Она одна из них.
Вот на столе пасхальная закуска; а рядом
?Столичная?, банановый ликер,
сок апельсиновый, кагор ?Чумай?
(он лучший из кагоров СССР).
Мы первые. Другие гости будут позже,
они еще в костелах.
Мой друг, поэт, важнейший из литовцев,
фанатик, но фанатик с чувством меры,
заводит светский чинный разговор,
о сплетнях, модах, о Москве безумной,
кому на Западе везет и не везет.
Хозяйка отправляется на кухню,
горячее готовится. И вдруг мой друг
мне говорит: ?А знаешь ты,
хозяйка наша Анненскому внучка?.
Был Иннокентий Анненский последним
из царскосельских лебедей, и это
родная внучка? Да не может быть!
?Нет, это правда! Это всем известно.
Да у нее полным полно портретов
и писем и бумаг. Ты что, не знал?…?
Приходят гости. Милый мой толстяк,
уже в другом костюме, полосатом,
историк бородатый, что никак не может
дописать ?Разделы Польши?,
приходит бывшая жена его литовка.
И еще, еще. Литовцы из Канады,
и евреи из Уругвая… Вот сидит она.
Хозяйка наша! Я ее люблю.
Она рассказывает о своей семье,
о дедушке — инспекторе гимназий,
что славы ждал и славы не дождался,
о том, что после ?башни? Вячеслава Иванова
поехал он в Село к себе и на ступенях
Царскосельского вокзала, что ныне
Витебским зовется, он упал и умер,
славы не дождался.
И вот уходим мы с приятелем-поэтом.
Он говорит: она была женой
известного литовца, живописца
и скульптора, и ровно год назад
с приятелями в деревянном доме
в глуши за Каунасом (она была, конечно,
с детьми в своей квартире) этот муж
довольно сильно ночью выпивал.
И дача загорелась, все спаслись,
а он зачем-то выскочил на крышу,
чердак обрушился. И он сгорел.
Вот пробегает новая неделя,
я в Ленинграде. С раннего утра
графитный дождь под перламутром света.
А я с утра брожу по Ленинграду,
суббота черная, и дел полно.
Но вечер обеспечен, ровно в десять
на Пасху ждут меня в одну семью,
два старика, они живут неподалеку
от Преображенского собора,
в квартире есть балкон,
второй этаж, и все отменно видно.
Но это в девять, а сейчас шестого
три четверти. Куда деваться мне?
Припоминаю, где-то на Литейном
открылась выставка подпольных живописцев,
о, сколько этих выставок я видел!
и эта так похожа на другие.
Художник Семушкин меня по залам водит
и говорит: ?У нас здесь свой подход,
в манере ?сюрчика“?, — он называет так
сюрреализм, великое явленье.
Ну, Бог с ним, с Семушкиным.
Бедный человек, мечтает он о новых джинсах,
о пиджаке, о водке с мясом — нормальные желания.
Пусть все ему отпустит Провиденье.
Но скоро восемь, надо уходить.
Закрыта выставка отверженных до завтра.
Я надеваю плащ уже в передней,
дверь открывается (она не заперта),
и входит женщина. Люминесцентный свет
наяривает, словно в павильоне
на киносъемке. Я ее шесть лет не видел,
эту даму. Но я узнал ее немедленно,
узнал, как узнают старинный сон безумный.
Ее нельзя мне не узнать, она когда-то
в старой нашей жизни
произвела такие разрушенья…
Наш общий друг, по мнению российских
известных наилучших стихотворцев,
возможно, самый лучший стихотворец.
Уехал он давно на дальний Запад, —
Вот этот человек любил ее.
На всех своих стихах, на всех поэмах
он написал Н. П. — инициалы вот этой дамы.
Когда сидел он в сумасшедшем доме,
она ушла к приятелю поэта,
Поэту тоже, тут-то и возник меж нас
тот идиотский раскардаш.
Мы вышли вместе — дождь еще летел,
графитный дождь под перламутром света.
Зашли в кафе по прозвищу ?Сайгон?,
где можно кофе взять или ватрушку,
а можно анаши на три рубля.
Мы что-то пьем, потом еще и кофе,
стоим там до закрытия, и я ее
сажаю на автобус. Я понимаю вдруг,
зачем они, соперники, устроили резню
по поводу Н. П. Как я-то проморгал,
не оценил, не врезался в нее?
А к девяти я подхожу к подъезду,
в который приглашен, — вот старики,
родители опального поэта, того,
что укатил на дальний Запад.
У них сидят друзья уехавшего.
Еще американка цвета хаки из
Мичиганского университета —
причапала узнать, как жил поэт, чего желал
на завтрак и на ужин, какие покупал себе
носки, сорочки, галстуки, ботинки и пижамы.
Припоминаю, что в начале этой
достойной удивления карьеры
был у него один пиджак венгерский,
табачный, в рубчик, восемь лет один
и тот же. Больше ничего.
Была еще армейская сорочка, носки,
которые стирались раз в неделю.
А первый галстук, итальянский синий
в диагональную полоску, я ему,
как помню, подарил на день рожденья.
Американка, чудный человек, приперла
виски, джин и ?Кэмел?. Ведь ?Кэмел?
ценил поэт еще тогда в России.
Итак, привет тебе, американка!
Твоим верблюдам пламенный привет!
Мы за столом о том, о сем болтаем.
И вдруг отец поэта говорит: пора,
осталось ровно пять минут.
Балконные распахивая двери,
отец поэта предлагает нам
десятикратный цейсовский бинокль,
и мы выходим. Боже, что я вижу!
От самого Литейного толпа!
Дождь все еще идет, графитным блеском
сияет черный мокрый Ленинград.
Почти у всех в руках зонты и свечи,
и свечи светят сквозь зонты,
и это китайские фонарики как будто.
И крестный ход. И очередь моя держать бинокль.
Настраиваю линзы. Я вижу, как идут они в дожде.
Идут! Христос Воскрес! Воистину!
И бьют куранты полночь!
1976
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (1932-1994)
ПЕСНИ
Позвони мне
Позвони мне, позвони.
Позвони мне, ради бога!
Через время протяни
голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой.
Может, я забыла гордость?
Как хочу я слышать голос,
как хочу я слышать голос,
долгожданный голос твой!
Позвони мне,
позвони…
Без тебя проходят дни.
Что со мною, я не знаю.
Умоляю, позвони!
Позвони мне, заклинаю!
Дотянись издалека.
Пусть под этой звездной бездной
вдруг раздастся гром небесный,
вдруг раздастся гром небесный
телефонного звонка!
Позвони мне,
позвони…
Если я в твоей судьбе
ничего уже не значу,
я забуду о тебе,
я смогу, я не заплачу.
Эту боль перетерпя,
я дышать не перестану.
Все равно счастливой стану,
все равно счастливой стану,
даже если без тебя!
КСЕНИЯ НЕКРАСОВА (1912—1958)
ПОД МОСКВОЙ
Сердитоглазые официантки,
роняя колкие слова,
подавали кушанья
на красно-желтых подносах
желающим пить и есть.
Ощущались медвежьи аппетиты
у сезонников за столом,
большеруких
и груболицых.
Много ездили,
много видели,
города построили для людей,—
барахла не нажили,
да ума
прибавили.
Идут по жизни мужики,
одаряя встречных-поперечных
жемчугами русской речи
от щедрот немереной души.
Пил высокий, чернобровый,
плечи как сажень,
галстук новый,
пиджак новый,
при часах ремень.
А другой был ростом ниже,
но в кости широк
и,как всякий лесоруб,
красен на лицо.
На щеках — ветров ожог,
на висках — зимы налет.
А старушка-выпивушка
у стола сидит
и умильно и сердечно
на друзей глядит.
В кружке с пивом у нее
огоньки горят,
а на беленьком платочке
пятаки лежат.
И на окнах занавески
вышиты руками —
белой ниткой по батисту
льдистыми цветами…
А кругом народ ядреный
утверждает жизнь —
щи с бараниной хлебает,
смачно пивом запивает,
белым хлебом заедает.
Евгений Реутов ДЕТИ РА 2015 ЦИКЛ Я уверен на все сто
ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ
Как клички гаитянских зомби —
У ?звезд? эстрадных имена!..
…Сижу впотьмах, как в катакомбе.
В окне — афишная стена…
О, Боже, Боже, как же грустно!
Какая на сердце Печаль!.. —
Ее не выражу ни устно,
Ни письменно. И — пялюсь в даль…
Сырые тучи, стаи птичьи
И сабельный реки изгиб…
Весь город — как улик наличье
(Но разве кто-нибудь погиб?)…
Вдруг — Солнца луч (лишь тонкий лучик!),
А ощущенье — это ты,
Помахивая сумкой ?гуччи?,
Идешь средь майской суеты…
И весь тот день под облаками,
Что так искрились над Москвой, —
Я граждан видел — зомбаками.
Живыми — только нас с тобой…
И черт ли нам в Алабаме?\Что нам чужая трава?\Мы и в могильной яме\Мертвыми, злыми губами\Произнесем: ?Москва?. Иван Елагин Так же тускнеют даты.
И я под мышкою у леса\сам своего не чую веса.\Скорее вон! Запрыгали засовы.\Москва. Манеж. Гулянье горожан.\Но за спиною оставались совы.\И я в зрачках по-прежнему лежал. Сергей Шаргунов ?Арион? 2003, №1 БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ
И, вскипая русской кровью\И могучею любовью\К славе царской горяча,\Исполинов коронует,\И звонит, и торжествует,\Медным голосом звуча. Владимир Бенедиктов 1838 Москва
Иду по Москве, по асфальтовой корке,\Гляжу: на асфальте топорщатся горки...\Усилием воли, могучей как сталь,\Какой-то силач пробивает асфальт. Александр Солодовников 1964 На московском асфальте
Как вольно полощется красное знамя! Как молод еще этот яростный город!\За это вот знамя под ветром, за голы Рожденья, и роста, и юности ранней, За мужество ветреной этой погоды, За говор предвыборных наших собраний,\За честь, за историю славы народной, За бури, которые ты подымала, За труд человеческий и благородный Мы жизнь отдаем — но и этого мало! Павел Антокольский БОЛЬШАЯ МОСКВА 1938
Москва как крепкий пень кругла.\ Лишь трещинок неразбериха\ осталась ныне от ствола,\ когда-то спиленного лихо. Владимир Губайловский ?Дружба Народов? 2006, №11 Москва как крепкий пень кругла.
Москва как скважина сухая,\засыпанная шлаком жалоб.\А ты идешь, жару вдыхая,\и видишь: все вокруг разжалось-\улыбки, улицы-спирали\и цель, как скрепка из дюрали,\соединяющая дни.\Куда теряются они? Инга Кузнецова 2002
* * *
Ноги не шевелятся. Голова свинцова.
Что там было, не было, почему бузил?
На Восточной улице стадион Стрельцова,
Где навозной кучею Дом культуры ?ЗиЛ?.
В ноябре не хочется уезжать на взморье.
А сюда и вовсе я никого не звал.
Ну а на Крутицкое хлипкое подворье
Приведет наверное Симоновский вал.
Выйду мирно к берегу, подожду трамвая,
Будет ночью в городе крупная Луна.
Ноги не шевелятся. Голова кривая.
Вся Москва разрушена. Позади стена. Евгений Лесин ДЕТИ РА ЦИКЛ Нет повода печалиться
ЕВГЕНИЙ РЕЙН Кн. ?Мне скучно без Довлатова? 1997
Северный полюс, проталины, лед,
что же так низко идет самолет?
Может, авария? Нет, пронесло.
Вот и в Москве наступает число.
Нового Времени, новых разрух,
переведи-ка свой ?Роллекс? и дух.
Вот Шереметьевский ржавый утиль.
Здесь моя сказка, и здесь моя быль.
Тридцать ушло в нее ровно годков,
что же сказать мне, порядок таков.
Жизнь — это жизнь. А любовь есть
любовь.
Кровь — это кровь. А морковь есть
морковь.
Есть еще новь и свекровь — но таков
вечный порядок, к нему я готов.
Ежели надо тут что объяснять,
значит, не надо совсем объяснять.
В будущей жизни увидимся, друг,
может быть, будет нам там недосуг,
снова вернуться к старинным делам,
будем гулять там, курить фимиам,
вот вылезают из брюха шасси,
Боже, помилуй нас всех и спаси,
темные тени над бедной Москвой,
что за печальный пейзаж городской,
кончено, кончено, финиш, финал,
все, что имел я, уже потерял.
Дождик осенний затылок сечет,
что миновало — уже не в зачет.
Что наше прошлое — свет и туман.
Истое, ложное — это генплан.
Что по генплану построим, друзья?
Знать это нам невозможно, нельзя.
Истина — вот — и ясна и проста.
Возле такси подставляет уста
то, что случилось, — всегда навсегда,
наша победа и наша беда.
Наше единое счастье впотьмах,
наши ботинки в наших домах,
наши котлеты на нашей плите…
Гегель лежит в ледяной темноте.
Мы пребываем в низине земли,
слушай, товарищ, гляди и внемли,
ты обручен с этой жизнью одной,
с ней ты повязан, чужой и родной,
крепкие цепи на наших руках,
в этом вертепе — все счастье, все прах.
Так позабудь тот заветный листок,
Гегель его, как ты видел, поджег,
утро в Нью-Йорке, а вечер в Москве,
все мы подвешены на волоске.
Днем в Амстердаме покой, благодать,
я вам советую там побывать.
Я вам советую как-то домой
взять и вернуться под ваш выходной,
скинуть ботинки и лечь на диван,
все остальное мираж и обман.
Книгу открыть, поглядеть на жену,
штору задернуть, остаться в плену.
Это мне Гегель в том баре сказал,
то же он в старых трудах написал.
Камень на камень, кирпич на кирпич,
Гегель, мой Гегель, Владимир Ильич.
1990
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (1932-1994)
?ДРЕЙФУЮЩИЙ ПРОСПЕКТ? (сборник 1959)
Возвращение
Четырнадцать часов полета,
и —
Москва…
Молчи.
Не говори ненужные слова.
Аэродром.
Синеющий лесок.
Через него —
шоссе наискосок.
Недвижна голубая крутизна…
Стоим —
оглушены,
удивлены.
Деревьями и воздухом
пьяны.
?Вот мы и возвратились, старина!?
..И можно,
никого не удивив,
шоферу крикнуть:
?Эй!
Останови!?
Быть наяву,
не выходя
из сна, —
упасть в траву,
услышать, как растет она.
Глядеть вокруг.
По лугу медленно пройтись…
Ослепнуть вдруг
от грянувшего пенья птиц.
Нарвать ромашек.
Вымокнуть в росе.
И вновь смотреть,
как косо
падает
шоссе.
Смеяться,
петь до хрипоты,
кричать!
…Как мог я раньше этого
не замечать?!
Как мог я думать,
будто понял
жизнь?..
То вверх,
то вниз летит шоссе, —
держись!
А мы молчим…
Шоссе — то вниз,
то вверх.
Звенит оно,
летит оно
к Москве!
К Москве.
К тебе…
Закрыть счастливые глаза.
И вдруг понять,
что через полчаса —
то,
чем ты жив:
твой город.
Твой порог.
Твоя судьба —
начало
будущих дорог.
1.07.2017
Померяла сегодня сахарок.
Не так и плох. Дала себе зарок
Еще измерить — хоть к исходу лета.
Недаром не любила я сироп.
Лишь только воздухнебольших европ
Меня подлечит, вроде спас-жилета…
Померяла давление… Ну-ну.
Не в этом месте я пойду ко дну.
Не здесь я затону без кислорода.
А этот шум ужасный в голове —
Пускай он весь останется в Москве,
Когда свобода встретит нас у входа.
Померяла — чего бы там еще…
Гастроскопия? Как-то горячо…
Колоно, что ли? Тоже нагреватель.
Ведь ищешь — чтобы все как у людей.
Давление и сахар. Семь смертей.
То, что ты любишь, братец-обыватель.
Вся в шрамах, изумляющих народ.
Приборы шкалят и наоборот —
Ничто не измеряется, ей-богу.
И с самолетом я договорюсь,
И с сахаром надежно притворюсь.
Готовься, Стикс, встречать мою пирогу. Вероника Долина Иди сюда, мой свет (Летние стихи 2017) ДЕТИ РА 2018
ЕВГЕНИЙ РЕЙН Кн. ?Мне скучно без Довлатова? 1997
ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ
Т. Венцлова, П. Моркусу, В. Чапайтису, а также памяти А. А. Штейнберга
Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробе живот даровав.
Православный молитвослов
В будущем году в Ершалаиме!
Еврейское пасхальное присловие
К чему, скажите мне, хранительная стража? —
Или распятие казенная поклажа,
И вел боитесь воров или мышей? —
Иль мните важности придать царю царей?
А. С. Пушкин
Командировку выписали утром,
билет на понедельник. Значит, нынче
гуляй от пуза. Плюнем на дела.
Не ранее восьмого часа я заехал
к Зисканду. Огромная овчарка
по прозвищу Руслан — добрейший зверь —
толкнула меня грудью в коридоре,
едва не сбила с ног. Пардон, Руслан.
Добрейший зверь, умерь свои порывы.
Четыре кошки вышли за Русланом.
Одна из них нубийская, она
родоначальница в Москве нубийских кошек,
ей сорок лет, и все еще жива.
На то она нубийская. А Зисканд
был рад визиту моему. Он, Зисканд,
умнейший человек, громадный тип.
Лет семьдесят, к тому же переводчик
поэзии и прозы и чего угодно, и
поэт отменный, книг не издававший.
А жизнь сложилась странно, он дружил
с Багрицким, Маяковским, Мандельштамом,
переводил стихи, потом сидел,
сидел и воевал… Полковник,
комендант Софии, какие-то трофейные дела
с валютой, драгоценностями… Он снова
на десяток лет садится, выходит
снова подбирать катрены, терцины,
триолеты и октавы для ?Ила? и ?Гослита?.
И еще он был женат на девочке Агафье,
на сорок ровно старше был ее.
И, я клянусь, из мне известных браков
Зиновий Зисканд и его Агафья
составили весьма счастливый брак.
Что было главное в Зиновии? Не знаю.
Но жизнь хотел бы я прожить, как он,
не в лагерях и не в Багрицком дело,
не в орденах, не в переводах даже…
И вот я за столом. И, Боже мой,
что происходит — я не понимаю.
Гостей четыре человека, пятый я,
хозяева уселись на подушки,
разложенные на корявых стульях.
Хрен, редька на столе, и Зисканд сам
их называет почему-то ?морер?,
а рядом на тарелке смесь корицы
с толченым сахаром — Агафья говорит,
что это ?хоросес?, — впервые слышу;
оказывается, это символ той глины,
что евреи размесили в Египте некогда.
Нас семеро, но на столе восьмой до половины
налит стакан. Агафья говорит, что это
для пророка Илии. И дверь открыта,
чтобы он зашел. По пятикнижию Зиновий
читает что-то. Спрашивает нас:
что означает эта ночь?
Зачем сидим мы на подушках?
И почему горчайшие едим на свете травы —
редьку, хрен, чеснок?
Хотите верьте, а хотите — нет:
дверь распахнулась — и вошел Илья,
и сел за свой стаканчик. Помолчали.
А радостный Зиновий Зисканд вдруг,
откинув скобку пегой волосни, сказал:
?Итак, друзья, в Ершалаиме в году
грядущем!? Я стакан допил до дна,
Еще налил и выпил. Нынче сейдер!
А я еврей. Не знал совсем об этом.
Но ничего — я все-таки еврей и потому:
На следующий год в Ершалаиме!
А в понедельник летная погода,
?Ту-104? полтора часа летит
и приземляется в Литве.
Друзья меня встречают, и на ?Волге?,
на старой ?Волге? М-21 мы едем в Вильно.
Что же, здравствуй, Вильно.
Я восемь лет здесь ровно не бывал,
до этого же четверть жизни прожил
я в городочке Вильно у друзей.
Я поселяюсь в маленьком отеле,
где жил когда-то.
Уютный номер и окно во двор,
умеренный комфорт, вполне удобно.
На стенке модернистский натюрморт
художника Цирюлиса. Гальюн и ванна,
даже холодильник и телевизор.
В общем, ничего на свете мне не нужно.
Кроме того, что собрано под кровом
гостеприимной ?Неринги?, — и вот
литвины в номерочке у меня.
Один поэт, хитрец, безумец — личность
запутанная; я его люблю, наследник
миллионов, пошутивший однажды так:
?Алкоголизм, хоть слово дико,
но мне ласкает слух оно?.
Другой — хозяин лучшего из лучших
приютов нашей юности. Его обширный
дом на улице Леиклос служил для нас
убежищем, тогда, в старинное исчезнувшее время,
когда мы были вместе. Но, увы, дом этот
так же разорен, как наши домы.
Тот человек историк и — хороший,
когда теперь закончит он трактат?
Он мрачно пиво пьет — бутылок десять
сразу и сумрачно грызет сухой миндаль.
А третий весельчак и бонвиван,
Толстяк в английском дорогом костюме,
работает себе на кинониве,
сценарий за сценарием строчит —
и все успешно, все в большом порядке.
Он умница, тончайший человек,
поклонник Де Кюстина и Де Сада,
любитель сала, семги, маринада,
предпочитает в Вильнюсе районы
конца восьмидесятых-девяностых,
начала века, говорит: одни они
доносят дух времен, а прочее,
а старина — все липа.
Он умница, тончайший человек,
предпочитает белую головку.
И так проходит ровно шесть деньков.
И вот над Вильнюсом стоит пасхальный вечер —
с поэтом и безумцем мы идем к известной
всем ?двуглавой Катарине?, прекраснейшему
из костелов мира, что в письмах отмечал
Наполеон. Заходим внутрь — там тихо и не тесно.
Костелов много, места хватит всем.
Ни музыки, ни пенья — в этот вечер
католики лишь бодрствуют, они проходят Духом
до своей Голгофы. А в боковом притворе что?
Макет наивный, здесь фанерная пещера, гора,
Христос. Поэт, мой спутник, сразу
на колена и шепчет заклинанья.
Я стою в углу. Я тоже, тоже связан со
Христом, но все не так-то просто.
Что тут делать? Ум величайший
русского народа все это изложил
примерно так: ?К чему инстанции,
бюрократия, служба, казна и
государственный чиновник (или церковный —
это все равно), когда пред нами
царь царей, когда венец терновый
без административного начала приял он на себя,
и можно ли прибавить что-нибудь тому,
кто добровольно расстался с жизнию
за род людской??
Я понимаю пушкинское слово примерно так,
но это я. Мое я никому не втискиваю мненье.
Пятнадцати минут вполне довольно,
мой друг встает с колен, и мы выходим.
Прекрасный вечер — холодно и ясно,
свежо и восхитительно. Идем в косые
улочки еврейского квартала.
Выходим к Стиклю. ?Мы куда идем?? —
?К одной красотке?, — отвечает спутник.
?Которой именно?? — ?Сейчас увидишь сам!? —
?Ну, объясни?. — ?Осталось две минуты,
увидишь сам!? — ?Ну, хорошо?.
Заходим мы во дворик, деревянная терраса,
крутая лестница, на ней зачем-то мрамор
и деревянные чурбаны (скоро, скоро
все объяснится). Мой дружок стучит.
Дверь отворяют. Входим. Перед нами
стоит красавица. Мне хочется заплакать.
Мне сорок лет, я видел трех красавиц
за сорок лет. Она одна из них.
Вот на столе пасхальная закуска; а рядом
?Столичная?, банановый ликер,
сок апельсиновый, кагор ?Чумай?
(он лучший из кагоров СССР).
Мы первые. Другие гости будут позже,
они еще в костелах.
Мой друг, поэт, важнейший из литовцев,
фанатик, но фанатик с чувством меры,
заводит светский чинный разговор,
о сплетнях, модах, о Москве безумной,
кому на Западе везет и не везет.
Хозяйка отправляется на кухню,
горячее готовится. И вдруг мой друг
мне говорит: ?А знаешь ты,
хозяйка наша Анненскому внучка?.
Был Иннокентий Анненский последним
из царскосельских лебедей, и это
родная внучка? Да не может быть!
?Нет, это правда! Это всем известно.
Да у нее полным полно портретов
и писем и бумаг. Ты что, не знал?…?
Приходят гости. Милый мой толстяк,
уже в другом костюме, полосатом,
историк бородатый, что никак не может
дописать ?Разделы Польши?,
приходит бывшая жена его литовка.
И еще, еще. Литовцы из Канады,
и евреи из Уругвая… Вот сидит она.
Хозяйка наша! Я ее люблю.
Она рассказывает о своей семье,
о дедушке — инспекторе гимназий,
что славы ждал и славы не дождался,
о том, что после ?башни? Вячеслава Иванова
поехал он в Село к себе и на ступенях
Царскосельского вокзала, что ныне
Витебским зовется, он упал и умер,
славы не дождался.
И вот уходим мы с приятелем-поэтом.
Он говорит: она была женой
известного литовца, живописца
и скульптора, и ровно год назад
с приятелями в деревянном доме
в глуши за Каунасом (она была, конечно,
с детьми в своей квартире) этот муж
довольно сильно ночью выпивал.
И дача загорелась, все спаслись,
а он зачем-то выскочил на крышу,
чердак обрушился. И он сгорел.
Вот пробегает новая неделя,
я в Ленинграде. С раннего утра
графитный дождь под перламутром света.
А я с утра брожу по Ленинграду,
суббота черная, и дел полно.
Но вечер обеспечен, ровно в десять
на Пасху ждут меня в одну семью,
два старика, они живут неподалеку
от Преображенского собора,
в квартире есть балкон,
второй этаж, и все отменно видно.
Но это в девять, а сейчас шестого
три четверти. Куда деваться мне?
Припоминаю, где-то на Литейном
открылась выставка подпольных живописцев,
о, сколько этих выставок я видел!
и эта так похожа на другие.
Художник Семушкин меня по залам водит
и говорит: ?У нас здесь свой подход,
в манере ?сюрчика“?, — он называет так
сюрреализм, великое явленье.
Ну, Бог с ним, с Семушкиным.
Бедный человек, мечтает он о новых джинсах,
о пиджаке, о водке с мясом — нормальные желания.
Пусть все ему отпустит Провиденье.
Но скоро восемь, надо уходить.
Закрыта выставка отверженных до завтра.
Я надеваю плащ уже в передней,
дверь открывается (она не заперта),
и входит женщина. Люминесцентный свет
наяривает, словно в павильоне
на киносъемке. Я ее шесть лет не видел,
эту даму. Но я узнал ее немедленно,
узнал, как узнают старинный сон безумный.
Ее нельзя мне не узнать, она когда-то
в старой нашей жизни
произвела такие разрушенья…
Наш общий друг, по мнению российских
известных наилучших стихотворцев,
возможно, самый лучший стихотворец.
Уехал он давно на дальний Запад, —
Вот этот человек любил ее.
На всех своих стихах, на всех поэмах
он написал Н. П. — инициалы вот этой дамы.
Когда сидел он в сумасшедшем доме,
она ушла к приятелю поэта,
Поэту тоже, тут-то и возник меж нас
тот идиотский раскардаш.
Мы вышли вместе — дождь еще летел,
графитный дождь под перламутром света.
Зашли в кафе по прозвищу ?Сайгон?,
где можно кофе взять или ватрушку,
а можно анаши на три рубля.
Мы что-то пьем, потом еще и кофе,
стоим там до закрытия, и я ее
сажаю на автобус. Я понимаю вдруг,
зачем они, соперники, устроили резню
по поводу Н. П. Как я-то проморгал,
не оценил, не врезался в нее?
А к девяти я подхожу к подъезду,
в который приглашен, — вот старики,
родители опального поэта, того,
что укатил на дальний Запад.
У них сидят друзья уехавшего.
Еще американка цвета хаки из
Мичиганского университета —
причапала узнать, как жил поэт, чего желал
на завтрак и на ужин, какие покупал себе
носки, сорочки, галстуки, ботинки и пижамы.
Припоминаю, что в начале этой
достойной удивления карьеры
был у него один пиджак венгерский,
табачный, в рубчик, восемь лет один
и тот же. Больше ничего.
Была еще армейская сорочка, носки,
которые стирались раз в неделю.
А первый галстук, итальянский синий
в диагональную полоску, я ему,
как помню, подарил на день рожденья.
Американка, чудный человек, приперла
виски, джин и ?Кэмел?. Ведь ?Кэмел?
ценил поэт еще тогда в России.
Итак, привет тебе, американка!
Твоим верблюдам пламенный привет!
Мы за столом о том, о сем болтаем.
И вдруг отец поэта говорит: пора,
осталось ровно пять минут.
Балконные распахивая двери,
отец поэта предлагает нам
десятикратный цейсовский бинокль,
и мы выходим. Боже, что я вижу!
От самого Литейного толпа!
Дождь все еще идет, графитным блеском
сияет черный мокрый Ленинград.
Почти у всех в руках зонты и свечи,
и свечи светят сквозь зонты,
и это китайские фонарики как будто.
И крестный ход. И очередь моя держать бинокль.
Настраиваю линзы. Я вижу, как идут они в дожде.
Идут! Христос Воскрес! Воистину!
И бьют куранты полночь!
1976
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (1932-1994)
ПЕСНИ
Позвони мне
Позвони мне, позвони.
Позвони мне, ради бога!
Через время протяни
голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой.
Может, я забыла гордость?
Как хочу я слышать голос,
как хочу я слышать голос,
долгожданный голос твой!
Позвони мне,
позвони…
Без тебя проходят дни.
Что со мною, я не знаю.
Умоляю, позвони!
Позвони мне, заклинаю!
Дотянись издалека.
Пусть под этой звездной бездной
вдруг раздастся гром небесный,
вдруг раздастся гром небесный
телефонного звонка!
Позвони мне,
позвони…
Если я в твоей судьбе
ничего уже не значу,
я забуду о тебе,
я смогу, я не заплачу.
Эту боль перетерпя,
я дышать не перестану.
Все равно счастливой стану,
все равно счастливой стану,
даже если без тебя!
КСЕНИЯ НЕКРАСОВА (1912—1958)
ПОД МОСКВОЙ
Сердитоглазые официантки,
роняя колкие слова,
подавали кушанья
на красно-желтых подносах
желающим пить и есть.
Ощущались медвежьи аппетиты
у сезонников за столом,
большеруких
и груболицых.
Много ездили,
много видели,
города построили для людей,—
барахла не нажили,
да ума
прибавили.
Идут по жизни мужики,
одаряя встречных-поперечных
жемчугами русской речи
от щедрот немереной души.
Пил высокий, чернобровый,
плечи как сажень,
галстук новый,
пиджак новый,
при часах ремень.
А другой был ростом ниже,
но в кости широк
и,как всякий лесоруб,
красен на лицо.
На щеках — ветров ожог,
на висках — зимы налет.
А старушка-выпивушка
у стола сидит
и умильно и сердечно
на друзей глядит.
В кружке с пивом у нее
огоньки горят,
а на беленьком платочке
пятаки лежат.
И на окнах занавески
вышиты руками —
белой ниткой по батисту
льдистыми цветами…
А кругом народ ядреный
утверждает жизнь —
щи с бараниной хлебает,
смачно пивом запивает,
белым хлебом заедает.
Евгений Реутов ДЕТИ РА 2015 ЦИКЛ Я уверен на все сто
ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ
Как клички гаитянских зомби —
У ?звезд? эстрадных имена!..
…Сижу впотьмах, как в катакомбе.
В окне — афишная стена…
О, Боже, Боже, как же грустно!
Какая на сердце Печаль!.. —
Ее не выражу ни устно,
Ни письменно. И — пялюсь в даль…
Сырые тучи, стаи птичьи
И сабельный реки изгиб…
Весь город — как улик наличье
(Но разве кто-нибудь погиб?)…
Вдруг — Солнца луч (лишь тонкий лучик!),
А ощущенье — это ты,
Помахивая сумкой ?гуччи?,
Идешь средь майской суеты…
И весь тот день под облаками,
Что так искрились над Москвой, —
Я граждан видел — зомбаками.
Живыми — только нас с тобой…
Метки: