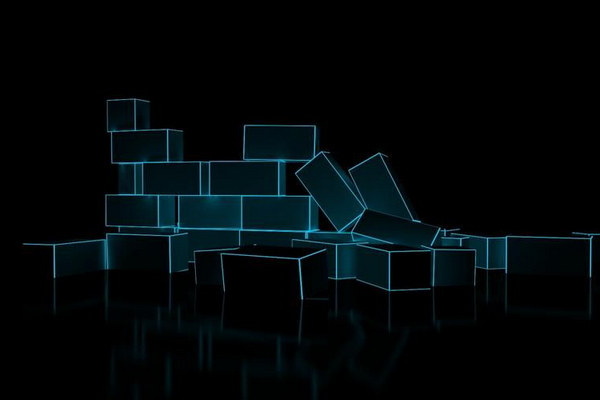москва-5
LiveInternet
Москва на картинах художника Юниса Еникеева. Стихи о Москве.
********
МОСКВА
— Как я многого ждал! А теперь\Я не знаю, зачем я живу,\И чего я хочу от зверей,\Населяющих злую Москву! Александр Вольпин НЕ ИГРАЛ Я РЕБЕНКОМ С ДЕТЬМИ
Когда в Москве первопрестольной\С тобой сойдемся мы вдвоем,\Уж знаю я, куда невольно\Умчит нас тройка вечерком. Алексей Апухтин 1873 О ЦЫГАНАХ Посвящается А. И. Гончарову
Когда в теплой ночи замирает\ Лихорадочный Форум Москвы\ И театров широкие зевы\ Возвращают толпу площадям,--\ Протекает по улицам пышным\ Оживленье ночных похорон;\ Льются мрачно-веселые толпы\ Из каких-то божественных недр. Осип Мандельштам 1918
Когда же на Москву\ чужого не берем\ короче говоря\ когда умрем когда\ я приглашу сову\ сестру нетопыря\ в другие города\ дышать нашатырем. Демьян Кудрявцев Из книги ?ПРАКТИКА РУССКОГО СТИХА? 2002 ОРНИТОЛОГИЯ 2000
Когда Москва, пока что не сожженная,\ Могла депеши в Лондон посылать, \ Вальс появился в ней в миру опять\ И, возбужденный славой Австерлица\ (С ней славе “Морнинг-Поста”9 не сравниться),\ Влез к нам и закрепил свою судьбу,\ Затмив собою пьесы Коцебу,10 \ Мелодии десятка композиторов,\ И вклады вюртембергских инвеститоров,\ И Мейнера четырехтомный труд\ О женщинах, и весом в добрый пуд\ Том Бранка, книги Христиана Гейне:\ Так Вальс укоренился чародейно. Джордж Байрон. Перевод Г.Бена Вальс. Поэма
ЕВГЕНИЙ РЕЙН Кн. ?Мне скучно без Довлатова? 1997
АЛМАЗЫ НАВСЕГДА
Я двадцать лет с ним прожил через стенку,
и были мы не меньше, чем родня.
Он жил в огромной полутемной зале,
заваленной, заставленной, нечистой,
где тысячи вещей изображали
ту Атлантиду, что ушла на дно.
Часы каретные, настольные, стенные,
ампирные литые самовары,
кустарные шкатулки, сувениры
из Порт-Артура, Лондона, Варшавы
и прочее. К чему перечислять?
Но это составляло маскировку,
а главное лежало где-то рядом,
запрятанное в барахло и тряпки
на дне скалоподобных сундуков.
Григорьев был брильянтщиком —
я знал давно все это. Впрочем,
сам Григорьев и не скрывался —
в этом вся загадка…
Он тридцать лет оценщиком служил
в ломбарде, а когда-то даже
для Фаберже оценивал он камни.
Он говорил, что было их четыре
на всю Россию: двое в Петербурге,
один в Москве, еще один в Одессе…
Учился он брильянтовому делу
когда-то в Лондоне, еще мальчишкой,
потом шесть лет в Москве у Костюкова,
потом в придворном ведомстве служил —
способности и рвенье проявил,
когда короновали Николая
(какие-то особенные броши
заказывал для царского семейства),
был награжден он скромным орденком…
В столицу перевелся, там остался…
Когда ж его империя на дно переместилась,
пошел в ломбард и службы не менял.
Но я его застал уже без дела,
вернее, без казенных обстоятельств,
поскольку дело было у него.
Но что за дело? Мудрено понять.
Он редко выходил из помещенья,
зато к нему все время приходили,
бывало, что и ночью, и под утро,
и был звонок условный (я заметил):
один короткий и четыре длинных.
Случалось, двери открывал и я,
но гости проходили как-то боком
по голому кривому коридору,
и хрена ли поймешь, кто это был:
то оборванец в ватнике пятнистом,
то господин в калошах и пальто
доисторическом с воротником бобровым,
то дамочка в каракулях, то чудный
грузинский денди… Был еще один.
Пожалуй, чаще прочих он являлся.
Лет сорока пяти, толстяк, заплывший
ветчинным нежным жиром, в мягкой шляпе,
в реглане, с тростью. Веяло за ним
неслыханным чужим одеколоном,
некуреным приятным табаком.
Его встречал Григорьев на пороге
и величал учтиво: ?Соломон Абрамович…?
И гость по-петербургски раскланивался
и ругал погоду…
Бывал еще один:
в плаще китайском, в начищенных ботинках,
черной кепке, в зубах зажат окурок ?Беломора?,
щербатое лицо, одеколон ?Гвардейский?.
Григорьев скромно помогал ему раздеться,
заваривал особо крепкий чай…
Был случай лет за пять до этой ночи:
жену его отправили в больницу,
вдвоем остались мы. Он попросил
купить ему еды и так сказал:
?Зайдешь сначала, Женя, к Соловьеву[10],
потом на угол в рыбный, а потом
в подвал на Колокольной. Скажешь так:
?Поклон от Кузьмича“. Ты не забудешь?? —
?Нет не забуду?.
Был я поражен.
Везде я был таким желанным гостем,
мне выдали икру и лососину,
?салями? и охотничьи сосиски,
телятину парную, сыр ?рокфор?,
мне выдали кагор ?Александрит?,
который я потом нигде не видел,
и низкую квадратную бутылку
?Рябины с коньяком? и чай китайский…
Все это так приветливо, так быстро,
и приговаривали: ?Вот уж повезло,
жить с Кузьмичем… Поймите, что такое,
старик великий, да, старик достойный…
Вы похлопочете — за ним не заржавеет…?
О чем они? Не очень я понимал…
Он сам собрал на стол на нашей кухне,
поставил он поповские тарелки,
приборы Хлебникова серебра…
(Он кое-что мне объяснил, и я немного
разбирался, что почем тут.)
Мы выпили по рюмочке кагора,
потом ?рябиновки? и закусили,
я закурил, он все меня корил за сигареты:
?Вот табак не нужен,
уж лучше выпивайте, дорогой?.
Был летний лиловатый нежный вечер,
на кухне нашей стало темновато,
но свет мы почему-то не включали…
?Вы знаете ли (он всегда сбивался,
то ?ты“, то ?вы“, но в этот фаз на ?вы“)…
…Вы знаете ли, долго я живу,
я помню Александра в кирасирском
полковничьем мундире, помню Витте —
оценивал он камни у меня.
Я был на коронации в Москве.
Я был в Мукдене по делам особым,
и в Порт-Артуре, и в Китае жил…
Девятое я помню января,
я был знаком с Гапоном, так, немного…
Мой брат погиб на крейсере ?Русалка“.
Он плавал корабельным инженером,
мой младший брат, гимназию он кончил,
а я вот нет — не мог отец осилить,
чтоб двое мы учились. А когда-то
Викторию я видел, королеву,
тогда мне было девятнадцать лет.
В тот год, вот благородное вам слово,
я сам держал в руках ?Эксцельсиор“[11]…
Так я о чем? В двадцать шестом году
я был богат, имел свой магазинчик
на Каменноостровском, там теперь химчистка,
и даже стойка та же сохранилась —
из дерева мореного я заказал ее,
и сносу ей вовек не будет.
В тридцать втором я в Смольном побывал.
Сергей Мироныч вызывал меня,
хотел он сделать женщине подарок…
Вникал я в государственное дело.
Куда все делось? Был налажен мир,
он был устроен до чего толково,
держался на серьезных людях он,
и не было халтуры этой… Впрочем,
я понимаю, всем не угодишь,
на всех все не разделишь,
а брильянтов — хороших, чистых —
их не так уж много.
А есть такие люди — им стекляшка
куда сподручней… Я не обижаюсь,
я был всегда при деле. Я служил.
В блокаду даже. Знаете ль, в блокаду
ценились лишь брильянты да еда.
Тогда открылись многие караты…
В сорок втором я видел эти броши,
которые мы делали в десятом
к романовскому юбилею. Так-с!
Хотите ли, дружок, прекраснейшие
запонки, работы французской,
лет, наверно, сто им…
Я мог бы вам их подарить, конечно,
но есть один закон — дарить нельзя.
Вы заплатите сорок пять рублей.
Помяните потом-то старика…?
Я двадцать лет с ним прожил через стенку,
стена, нас разделявшая, как раз
была не слишком в общем капитальной,
я слышал иногда обрывки фраз…
Однажды осенью, глухой и дикой,
какой бывает осень в Ленинграде,
явился за полночь тот самый, с тростью,
ну, Соломон Абрамыч, и Григорьев
его немедленно увел к себе.
И вдруг я понял, что у нас в квартире
еще один таится человек.
Он прячется, наверное, в чулане,
который был во время оно ванной,
но в годы пятилеток и сражений
заглох и совершенно пустовал.
Мне стало жутко, вышел я на кухню
и тут на подоконнике увидел
изношенную кепку из букле.
Тогда я догадался и вернулся,
и вдруг услышал, как кричит Григорьев,
за двадцать лет впервые он кричал:
?Где эти камни? Мы вам поручали…?
И дальше все заглохло, и немедля
загрохотал под окнами мотор.
Вдруг появилась женщина без шубы,
та самая, что в шубке приходила,
она вбежала в комнату соседа,
и что-то там немедля повалилось,
и кто-то коридором пробежал,
подковками царапая паркет,
и быстро все они прошли обратно.
Я поглядел в окно, там у подъезда
качался стосвечовый огонек
дворовой лампочки. Я видел,
как отъехал полузаметный мокренький
?москвич?, куда толстяк вползал
по сантиметру. Вы думаете, он пропал?
Нисколько. Он снова появился через год…
…И вот в Преображенском отпеванье.
И я в морозный лоб его целую
на Сестрорецком кладбище. Поминки.
Пришлося побывать мне на поминках,
но эти не забуду никогда.
Здесь было не по-русски тихо,
по-лютерански трезво и толково,
хотя в достатке крепкие напитки
собрались на столе среди закусок…
Лежал лиловый плюшевый альбом —
любил покойник, видимо, сниматься.
На твердых паспарту мерцали снимки,
картинки Петербурга и Варшавы,
квадратики советских документов…
Здесь был Григорьев в бальной фрачной паре,
здесь был Григорьев в полевой шинели,
здесь был Григорьев в кимоно с павлином,
здесь был Григорьев в цирковом трико…
Вот понемногу стали расходиться,
и я один, должно быть, захмелел,
поцеловал вдове тогда я руку,
ушел к себе и попросил жену
покрепче приготовить мне чайку.
Я вспомнил вдруг, что накануне этих
событий забежал ко мне приятель,
принес журнал с сенсацией московской.
Я в кресло сел и отхлебнул заварки,
и развернул ту дьявольскую книгу,
и напролет всю ночь ее читал…
Жена спала, и я завесил лампу,
жена во сне тревожно бормотала
какие-то обрывки и обмолвки,
и что-то по-английски, ведь она
язык учила где-то под гипнозом…
И вот под утро он вошел ко мне
покойный Александр Кузьмич Григорьев,
но выглядел иначе, чем всегда.
На нем был бальный фрак,
цветок в петлице,
скрипел он лаковыми башмаками,
несло каким-то соусом загробным
и острыми бордельными духами.
И он спросил: ?Ты понял??
Повторил: ?Теперь ты понял?? —
?Да, теперь конечно,
теперь уж было бы, наверно, глупо
вас не понять.
Но что же будет дальше?
И вы не знаете?? — ?Конечно, знаю,
подумаешь, бином Ньютона тоже!? —
?Так подскажите малость, что-нибудь!? —
?Нельзя подарков делать, понимаешь?
Подарки — этикетки от нарзана.
Ты сам подумай, только не страшись?.
Жена проснулась и заснула снова,
а на карнизе сел дворовый кот,
прикармливаемый мной немного.
Он лапой постучал в стекло,
но так и не дождался подаянья,
и умный зверь немедленно ушел.
Тогда я понял: все произошло,
все было, и уже сварилась каша,
осталось расхлебать все, что я сунул
в измятый кособокий котелок.
В январский этот час я знал уже,
что делал мой сосед и кто такие
оплывший Соломон в мягчайшей шляпе,
кто женщина в каракулевой шубе
и человек в начищенных ботинках,
зачем так сладко спит моя жена,
куда ушел мой кот по черным крышам,
что делал в Порт-Артуре, в Смольном,
на Каменноостровском мой брильянтщик,
зачем короновали Николая,
кто потопил ?Русалку?, что задумал
в пустынном бесконечном коридоре
отчисленный из партии товарищ,
хранящий браунинг в чужом портфеле…
И я услышал, как закрылась дверь.
?Григорьев! — закричал я. —
Как мне быть?? — ?Никак, все так же,
все уже случилось. Расхлебывай!?
И первый луч рассвета
зажегся над загаженной Фонтанкой.
?Чего ж ты хочешь, отвечай, Григорьев?? —
?Хочу добра! — вдруг прокричал Григорьев. —
Но не того, что вы вообразили,
совсем иного. Это наше дело.
Мы сами все придумали когда-то
и мы караем тех, кто нам мешает.
По-нашему все будет все равно!? —
?Так ты оттуда? Из такой дали?? —
?Да. Я оттуда, но и отовсюду…?
И снова постучал в окошко кот,
я форточку открыл, котлету бросил…
И потому как рассвело совсем,
мне надо было скоро собираться
в один визит, к одной такой особе.
Напялил я крахмальную рубашку,
в манжеты вдел я запонки,
что продал мне Григорьев,
и галстук затянул двойным узлом…
Когда я вышел, было очень пусто,
все разошлись с попоек новогодних
и спали пьяным сном в своих постелях,
в чужих постелях, на вагонных полках,
в подъездах и отелях, и тогда
Григорьева я вспомнил поговорку.
Сто лет назад услышал он ее,
когда у Оппенгеймера в конторе
учился он брильянтовому делу.
О, эта поговорка ювелиров,
брильянтщиков, предателей,
убийц из-за угла и шлюх шикарных:
?Нет ничего на черном белом свете.
Алмазы есть. Алмазы навсегда?.
1985
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (1932-1994)
ПЕСНИ
Встреча друзей
Песня пусть
начинается,
до небес поднимается,
светом пусть наполняется,
как заря!
Посидим
по-хорошему,
пусть виски запорошены.
На земле жили-прожили
мы не зря.
Над рекой
вспыхнет зорюшка,
высоко встанет солнышко.
упадет в землю зернышко
в нужный срок.
Только бы
в поле, во поле
дождичек сыпал вовремя,
а потом чтобы вовремя
лег снежок.
Спелый хлеб
закачается,
жизнь, она не кончается,
жизнь, она продолжается
каждый раз.
Будут плыть
в небе радуги,
будет мир, будут праздники.
И шагнут внуки-правнуки
дальше нас.
Москва за нами!
Стоим мы на посту
повзводно и поротно.
Бесcмертны, как огонь.
Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны.
Мы — армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.
Не зря в судьбе
алеет знамя.
Не зря на нас надеется страна.
Священные слова:
?Москва за нами!? —
мы помним
со времен Бородина.
Вручили нам отцы
всесильное оружье.
Мы Родине своей
присягу принесли.
И нам с тобой дана
единственная служба —
от смерти заслонить грядущее Земли.
Не надо нас пугать,
бахвалиться спесиво,
не стоит нам грозить
и вновь с огнем играть.
Ведь если враг рискнет
проверить нашу силу,
его мы навсегда отучим проверять!
Не зря в судьбе
алеет знамя.
Не зря на нас надеется страна.
Священные слова:
?Москва за нами!? —
мы помним
со времен Бородина.
8.08.2017
Допустить непросто. Но ты допусти,
Что не я гуляю с тобой по сети.
И не я летаю бегом по степи,
А мой стих одинокий. И с этим спи.
Допустить нелегко. Да еще молва —
От нее и кружится голова,
Неуютно в свой-то войти подъезд,
Ведь она-то продаст, и выдаст, и съест.
Допусти, пожалуйста, до Москвы.
До болящей растерзанной головы.
Оловянной, ждущей ночных облав.
Жили-были ампула-шприц-автоклав. Вероника Долина Иди сюда, мой свет (Летние стихи 2017) ДЕТИ РА 2018
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (1932-1994)
?НЕОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА?
(сборник 1962)
Богини
В. Аксенову
Давай покинем этот дом,
давай покинем, —
нелепый дом,
набитый скукою и чадом.
Давай уйдем к своим домашним богиням,
к своим уютным богиням,
к своим ворчащим…
Они, наверно, ждут нас?
Ждут.
Как ты думаешь?
Заварен чай,
крепкий чай.
Не чай — а деготь!
Горят цветные светляки на низких тумбочках,
от проносящихся машин
дрожат стекла…
Давай пойдем, дружище!
Из-за стола встанем.
Пойдем к богиням,
к нашим судьям бессонным.
Где нам обоим
приговор уже составлен.
По меньшей мере мы приговорены —
к ссоре…
Богини сидят,
в немую тьму глаза тараща.
И в то,
что живы мы с тобою,
верят слабо…
Они ревнивы так,
что это даже страшно.
Так подозрительны,
что это очень странно.
Они придумывают разные разности,
они нас любят горячо и неудобно.
Они всегда считают
самой высшей радостью
те дни, когда мы дома.
Просто дома…
Москва ночная спит
и дышит глубоко.
Москва ночная
до зари ни с кем не спорит…
Идут к богиням
два не очень трезвых
бога.
Желают боги одного:
быть собою.
ПЕТР ВЕГИН (1939-2007) Из сб. ?СЕРЕБРО? 1984
Соловьи серебряного бора
Поедем слушать соловьев
в Серебряном бору,
где никакого серебра
нет, кроме соловьиной трели.
Нет для природы никого,
кто был бы ей не ко двору
в конце столетия, верней —
в конце недели.
Забудем срочные дела,
заботы и хандру.
Работа соловья чиста,
невидима и одинока.
Мы собрались не на пиру,
жизнь не похожа на игру,
но если свищет соловей,
то в жизни нету эпилога.
Как грешники пред алтарем,
мы перед певчим соловьем.
Его серебряным шитьем расшита тишина, как шуба.
Давай рискнем, давай дерзнем
и в жизни дыры все зашьем
его иглой
серебряной, бесшумной.
Темнеет на Москве-реке.
На соловьином сквозняке
проветрим душу,
чтоб утихла боль глухая.
Душа с душой, рука в руке,
вернемся в город налегке,
язык людей
с трудом припоминая…
1983
ЕВГЕНИЙ РЕЙН
КАК ПОПАСТЬ ЗА КУЛИСЫ К ЛЕОНИДУ УТЕСОВУ
Мы приехали в Москву ?Красной стрелой? в восемь тридцать декабрьским утром. Адрес у меня был: Лаврушинский переулок, 17. Это было удобно, пока дойдем, люди проснутся, и мы никого не разбудим. Шли мы к Вячеславу Всеволодовичу Иванову — великому Коме. Перед выездом звонили из Ленинграда. Нас ждали. Москва уже горела окнами.
Кома был в полосатой байковой пижаме. Книги лежали стопами даже в коридоре. Нас провели на кухню. Усадили за стол, накормили яичницей с ветчиной.
Бродский помалкивал. Я объяснил, что происходит в Ленинграде. Лернер, народная дружина, обком, Толстиков, тунеядство. Вот-вот арестуют.
— В Москве вам нечего бояться, — сказал Кома.
Бродский с сомнением покачал головой. У меня был еще один телефон и еще одна идея. Через час я позвонил. Это был номер телефона Виктора Ефимовича Ардова. Нас пригласили. Это было близко, на Ордынке, три минуты ходьбы через проходные дворы. Так я впервые очутился на легендарной Ордынке. Ахматовой в этот день у Ардовых не было. Зато был Найман. Когда мы вошли, он стоял в пальто: уходил на Высшие сценарные курсы. Посоветовал что-то остроумное.
Но все остальные были на месте — Виктор Ефимович, Нина Антоновна, Миша, Боря. Нас снова позвали к столу. Боря вынес бутылку ?белой головки?. Идея моя состояла в том, что Бродского надо спрятать в больнице, может быть, в нервной, может быть, в психиатрической. Бродский молчал. Говорил Виктор Ефимович:
— Нервы-нервы, мания величия, шизофрения, паранойя — самое верное дело, — с этими словами он поднял телефонную трубку.
— Не надо, — сказал я.
У меня про запас был еще один телефонный номер, тот, что называется в армии НЗ. Это был Михаил Ярмуш — поэт, врач-психиатр, он работал на ?Скорой помощи?.
На Ордынке шла своя жизнь. Миша рассказывал наилучшие анекдоты, Нина Антоновна курила, Ардов сидел за маленьким столиком, на котором были разложены машинописные страницы, деревянные коробочки неясного назначения, обглоданные куриные кости, карандаши, бутерброды, лимоны. Ахматова называла это место ?уголок людоеда?. На диване сидела невыразительная собачка Лапа. Над дверью висел портрет Ахматовой, перебирающей нитку аметистовых бус, работа старшего сына Нины Антоновны, киноактера и художника Алексея Баталова. Водки выпили все, кроме Виктора Ефимовича. Бродский оживился.
— Только не сегодня, — вдруг сказал он.
Я понял, это было сказано о больнице. Ярмуш уже уехал со своей ?Скорой помощью?. Ясно было, что не сегодня.
— Пойдем, погуляем, — сказал Бродский.
Мы вышли на Ордынку, и пошли к Балчугу, к ГУМу, на Красную площадь. Было морозно, ясно, суетно, превосходно. Москва начала новый день великой империи. Я тоже учился на Высших сценарных курсах.
— Пойдем к нам, — сказал я Иосифу, — там кино, компания, Илья Авербах, Толя.
— Нет, что-то не хочется, — сказал Бродский.
Мы зашли в ГУМ. Деньги, не очень большие, у нас были.
— Носки, — сказал Бродский, — свежие носки. Быть уверенным в своих носках — это уже не мало.
Купили две пары — настоящая полушерсть, производство ГДР. Пошли в уборную, выбросили несвежие носки, надели обновки. Настроение у Бродского совсем исправилось.
— Где здесь автомат, — внезапно спросил он.
— Кому ты хочешь звонить?
— Это по делу, — явно соврал Бродский.
Стоя за его спиной во время телефонного разговора, я услышал странное имя ?Иоланта?.
— Планы на вечер? — спросил я.
Он не ответил.
Секции ГУМа мы обошли все. Дважды примеряли костюмы, потом полупальто на овчине, потом уцененные шляпы. Я даже купил чешское ?борсалино? с пятнами за два рубля.
— Надо пообедать, — сказал Бродский.
Я знал Москву, кое-как, но знал.
— Пресное или острое? — спросил я.
— О чем говоришь, — ответил Бродский.
Я повел его на Неглинку в армянский ресторан ?Арарат?.
То, что произошло там, я уже описал в стихах. (Читайте в этой же книге поэму ?Арарат?). Да, ночевали мы у Ардовых.
Ярмуш появился на следующее утро в одиннадцать часов, приехал он на психиатрической ?Скорой помощи?. Я снова рассказал, что к чему, он одобрил идею.
— Пойдем в машину, — сказал он Бродскому.
— Только не сегодня, — ответил Бродский.
Я понял — Иоланта. Но у меня издавна был еще один телефон — номер Генриха Сапгира.
— Вот как удачно! — отозвался Генрих. — У меня сегодня кукольная премьера в театре на Спартаковской. Жду вас.
— Ты пойдешь? — спросил я Бродского. — Познакомишься с Сапгиром. Сильный поэт.
— Обязательно, — сказал Иосиф.
Я нарисовал план, как доехать до Бауманской и найти там театр.
— Встретимся у театра в половине седьмого.
— Обязательно, — повторил Бродский.
И я отправился на улицу Воровского в Дом кино на Высшие сценарные курсы. Там на третьем этаже был маленький просмотровый зал для студентов. Как раз успел к началу фильма Хичкока ?Северо-северо-запад?. В зале сидела блестящая компания: Илья Авербах, Найман, Светлана Шенбрун, Максуд Ибрагимбеков, Радий Кушнерович, Марк Розовский и еще человек пятнадцать. В первом ряду находился директор курсов Михаил Маклярский.
ЕВГЕНИЙ РЕЙН
ТИЦИАН
Стояли холода и шел ?Тристан?…
М. Кузмин
Стояли холода. Шел Тициан
в паршивом зале окнами на Невский.
Я выступал, и вдруг она вошла
и села во втором ряду направо.
И вместе с ней сорок девятый год,
черника, можжевельник и остаток
той финской дачи, где скрывали нас,
детей поры блокадной и военной.
А сорок шесть прошло немалых лет.
Она вошла в каком-то темном платье,
почти совсем седая голова,
лиловым чуть подкрашенные губы.
И рядом муж, приличный человек,
костюм и галстук, желтые ботинки.
Я надрываясь кончил ?Окроканы?
выкрикивать в благополучный зал
и сел в президиуме во втором ряду.
А через час нас вызвали к банкету.
Тогда-то я и подошел, и вышло
как раз удобно, ведь они пришли
меня проведать — гостя из столицы.
Как можжевельник цвел, черника спела,
залив чувствительно мелел к закату,
и обнажалось дно, и валуны
дофинской эры выставлялись глыбой.
Вот на такой-то глыбе мы сидели,
глядели на Кронштадт и говорили
о пионерских праздничных делах:
?Костер сегодня — праздник пионерский,
но нам туда идти запрещено.
Нас засмеют, поскольку мы уже
попали под такое подозренье,
как парочка, игравшая в любовь?.
Я так всмотрелся в пепельный затылок,
что все забыл — костер и дачный поезд,
который завтра нас доставит в город.
И в тот же пепельный пучок глядел сейчас.
Совсем такой же. Две или три пряди
седые. Вот и все. Как хорошо. Как складно
получилось: вы пришли, и мы увиделись,
а то до смерти можно не поглядеть
друг другу в те глаза, что нынче
стеклами оптически прикрыты.
А рядом муж — приличный человек,
перед которым мы не погрешили,
а если погрешили — то чуть-чуть.
Была зима, и индевелый Невский
железом синим за душу хватал.
Ее я встретил возле ?Квисисаны?,
два кофе, два пирожных — что еще?
Студент своей стипендией не беден.
Мы вышли из кафе и на скамейку
на боковой Перовской вдруг уселись.
Тогда она меня поцеловала.
Я снял ей шапочку и в пепельный затылок
уткнулся ртом, я не хотел дышать,
и мы сидели так минут пятнадцать.
— Ну как Москва? — Москва? Да что сказать,
я, в общем, переехал бы обратно,
когда бы не провинция такая,
как Петербург, куда податься тут?
— Ах, ферт московский, постыдился бы… —
А Тициан на масляном портрете
сиял пунцовою гвоздикой из петлицы.
Уборщица посудой загремела —
пора, пора, пора, пора, пора!
Илья Эренбург (1891-1967) ИЗБРАННОЕ 2000
23. О МОСКВЕ
Есть город с пыльными заставами,
С большими золотыми главами,
С особняками деревянными,
С мастеровыми вечно пьяными,
И столько близкого и милого
В словах: Арбат, Дорогомилово…
Февраль или март 1913
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Утреннее отступление о Москве
Нас у Москвы —
очень много…
Как по привычной канве,
неудержимо
и строго
утро идет
по Москве.
За ночь
мосты остыли,
съежились
тополя.
Дымчата и пустынна
набережная
Кремля.
Башни
порозовели,
сразу же стала видна
тихих
тянь-шаньских елей
ранняя седина…
Рядом,
задумавшись тяжко, —
и далеки,
и близки, —
высятся
многоэтажки,
лепятся
особняки.
В городе —
сотни дорог,
вечность
в себе
таящих.
Город —
всегда диалог
прошлого
с настоящим.
Есть в нем и детство,
и зрелость.
Есть и лицо,
и нутро…
Двинулся
первый троллейбус,
и задышало метро…
Вот,
добежав,
дотикав,
пробуя голос свой,
полмиллиона будильников
грянули
над Москвой!
Благовест наш
небогатый,
утренний наш
набат…
Вот
проснулась
Таганка,
потягивается
Арбат.
Кузнецкий
рекламы тушит.
Зарядье
блестит росой.
Фыркает Пресня
под душем!
Останкино
шпарит
трусцой!
К определенному сроку
по мановенью
руки
плюхаются
на сковородку
солнечные
желтки!..
Пьет чай
Ордынка и Сетунь…
И снова,
идя на рожон,
мужья
забором газетным
отгородились
от жен.
Встанут не раньше,
не позже,
жажду свою
утолив…
Будто гигантский
поршень,
в доме
работает лифт.
Встретит всех
у порога
запах
умытой листвы…
Нас у Москвы —
очень много,
много нас
у Москвы!
Мы
со столицей на равных,
мы для нее — свои.
В креслах
башенных кранов
и на постах
ГАИ.
В гордых
концертных залах,
в шахтах
и облаках.
На производстве —
в самых
невероятных
цехах!
Мы
этот город
ставим!
Славу его
творим.
Памятью
обрастаем.
С космосом
говорим.
В каждую мелочь
вникаем.
Все измеряем
трудом…
Может быть,
не о каждом
люди
вспомнят потом.
Может,
не всем воздастся…
Сгорбившись
от потерь,
мы создаем
Государство
неравнодушных
людей!
Долгою будет
дорога.
Крупною будет
цена…
Нас у Москвы —
очень много.
А Москва у нас —
одна.
Мир
Мы —
жители Земли —
богатыри.
Бессменно
от зари и до зари,
зимой и летом,
в полднях и в ночах
мы тащим тяжесть
на своих плечах.
Несем мы груз
промчавшихся годов,
пустых надежд
и долгих холодов,
отметины
от чьих-то губ
и рук,
нелепых ссор,
бессмысленных разлук,
случайных дружб
и неслучайных встреч.
Все это так,
да не об этом
речь!
Привычный груз
не весит ничего…
Но,
не считая этого всего,
любой из нас
несет пятнадцать тонн!..
Наверно,
вы не знаете о том?
Наверно,
вам приятно жить в тепле?..
А между тем
на маленькой
Земле
накоплено
так много
разных бомб,
что, сколько их,
не знает даже бог!..
Пока что эти бомбы
мирно спят.
И может,
было б незачем опять
о бомбах
вспоминать и говорить.
Но если только
взять
и разделить
взрывчатку,
запрессованную в них,
на всех людей —
здоровых и больных,
слепых и зрячих,
старцев и юнцов,
на гениев,
трудяг
и подлецов,
на всех — без исключения —
людей
в их первый день
и в их последний день,
живущих
в прокопченных городах,
копающихся
в собственных садах,
на всех людей! —
и посчитать потом,
на каждом будет
по пятнадцать тонн!
Живем мы.
И несет любой из нас
пятнадцать тонн взрывчатки.
Александр Чистяков Отголоски любви
Опубликовано в журнале Дети Ра, номер 1, 2017
ХОЧУ В ПЕНЗУ!
Почему улица Московская не 26 километров?
Я все шел бы по ней и шел…
Встречал бы у каждойкафешки хороших поэтов
Читал бы с ними стихи, разговоры заумные вел.
А путь от вокзала поднимается выше и выше —
Там строится храм, наширифмы помножив на ноль.
Там голос поэта звучит тем слышнее, чем тише,
Чем чище любовь.
Илья Эренбург (1891-1967) ИЗБРАННОЕ 2000
89. ПУГАЧЬЯ КРОВЬ
На Болоте стоит Москва, терпит:
Приобщиться хочет лютой смерти.
Надо, как в чистый четверг, выстоять.
Уж кричат петухи голосистые.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.
От церквей идет темный гуд.
Бабы всё ждут и ждут.
Крестился палач, пил водку,
Управился, кончил работу,
Да за волосы как схватит Пугача.
Но Пугачья кровь горяча.
Задымился снег под тяжелой кровью,
Начал парень чихать, сквернословить:
?Уж пойдем, пойдем, твою мать!..
По Пугачьей крови плясать!?
Посадили голову на кол высокий,
Тело раскидали, и лежит оно на Болоте,
И стоит, стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Разделась баба, кинулась голая
Через площадь к высокому колу:
?Ты, Пугач, на колу не плачь!
Хочешь, так побалуйся со мной, Пугач!..
Прорастут, прорастут твои рваные рученьки,
И покроется земля злаками горючими,
И начнет народ трясти и слабить,
И потонут детушки в темной хляби,
И пойдут парни семечки грызть, тешиться,
И станет тесно, как в лесу, от повешенных,
И кого за шею, а кого за ноги,
И разверзнется Москва смрадными ямами,
И начнут лечить народ скверной мазью,
И будут бабушки на колокольни лазить,
И мужья пойдут в церковь брюхатые
И родят, и помрут от пакости,
И от мира божьего останется икра рачья
Да на высоком колу голова Пугачья!?
И стоит, и стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.
1916
Москва на картинах художника Юниса Еникеева. Стихи о Москве.
********
МОСКВА
— Как я многого ждал! А теперь\Я не знаю, зачем я живу,\И чего я хочу от зверей,\Населяющих злую Москву! Александр Вольпин НЕ ИГРАЛ Я РЕБЕНКОМ С ДЕТЬМИ
Когда в Москве первопрестольной\С тобой сойдемся мы вдвоем,\Уж знаю я, куда невольно\Умчит нас тройка вечерком. Алексей Апухтин 1873 О ЦЫГАНАХ Посвящается А. И. Гончарову
Когда в теплой ночи замирает\ Лихорадочный Форум Москвы\ И театров широкие зевы\ Возвращают толпу площадям,--\ Протекает по улицам пышным\ Оживленье ночных похорон;\ Льются мрачно-веселые толпы\ Из каких-то божественных недр. Осип Мандельштам 1918
Когда же на Москву\ чужого не берем\ короче говоря\ когда умрем когда\ я приглашу сову\ сестру нетопыря\ в другие города\ дышать нашатырем. Демьян Кудрявцев Из книги ?ПРАКТИКА РУССКОГО СТИХА? 2002 ОРНИТОЛОГИЯ 2000
Когда Москва, пока что не сожженная,\ Могла депеши в Лондон посылать, \ Вальс появился в ней в миру опять\ И, возбужденный славой Австерлица\ (С ней славе “Морнинг-Поста”9 не сравниться),\ Влез к нам и закрепил свою судьбу,\ Затмив собою пьесы Коцебу,10 \ Мелодии десятка композиторов,\ И вклады вюртембергских инвеститоров,\ И Мейнера четырехтомный труд\ О женщинах, и весом в добрый пуд\ Том Бранка, книги Христиана Гейне:\ Так Вальс укоренился чародейно. Джордж Байрон. Перевод Г.Бена Вальс. Поэма
ЕВГЕНИЙ РЕЙН Кн. ?Мне скучно без Довлатова? 1997
АЛМАЗЫ НАВСЕГДА
Я двадцать лет с ним прожил через стенку,
и были мы не меньше, чем родня.
Он жил в огромной полутемной зале,
заваленной, заставленной, нечистой,
где тысячи вещей изображали
ту Атлантиду, что ушла на дно.
Часы каретные, настольные, стенные,
ампирные литые самовары,
кустарные шкатулки, сувениры
из Порт-Артура, Лондона, Варшавы
и прочее. К чему перечислять?
Но это составляло маскировку,
а главное лежало где-то рядом,
запрятанное в барахло и тряпки
на дне скалоподобных сундуков.
Григорьев был брильянтщиком —
я знал давно все это. Впрочем,
сам Григорьев и не скрывался —
в этом вся загадка…
Он тридцать лет оценщиком служил
в ломбарде, а когда-то даже
для Фаберже оценивал он камни.
Он говорил, что было их четыре
на всю Россию: двое в Петербурге,
один в Москве, еще один в Одессе…
Учился он брильянтовому делу
когда-то в Лондоне, еще мальчишкой,
потом шесть лет в Москве у Костюкова,
потом в придворном ведомстве служил —
способности и рвенье проявил,
когда короновали Николая
(какие-то особенные броши
заказывал для царского семейства),
был награжден он скромным орденком…
В столицу перевелся, там остался…
Когда ж его империя на дно переместилась,
пошел в ломбард и службы не менял.
Но я его застал уже без дела,
вернее, без казенных обстоятельств,
поскольку дело было у него.
Но что за дело? Мудрено понять.
Он редко выходил из помещенья,
зато к нему все время приходили,
бывало, что и ночью, и под утро,
и был звонок условный (я заметил):
один короткий и четыре длинных.
Случалось, двери открывал и я,
но гости проходили как-то боком
по голому кривому коридору,
и хрена ли поймешь, кто это был:
то оборванец в ватнике пятнистом,
то господин в калошах и пальто
доисторическом с воротником бобровым,
то дамочка в каракулях, то чудный
грузинский денди… Был еще один.
Пожалуй, чаще прочих он являлся.
Лет сорока пяти, толстяк, заплывший
ветчинным нежным жиром, в мягкой шляпе,
в реглане, с тростью. Веяло за ним
неслыханным чужим одеколоном,
некуреным приятным табаком.
Его встречал Григорьев на пороге
и величал учтиво: ?Соломон Абрамович…?
И гость по-петербургски раскланивался
и ругал погоду…
Бывал еще один:
в плаще китайском, в начищенных ботинках,
черной кепке, в зубах зажат окурок ?Беломора?,
щербатое лицо, одеколон ?Гвардейский?.
Григорьев скромно помогал ему раздеться,
заваривал особо крепкий чай…
Был случай лет за пять до этой ночи:
жену его отправили в больницу,
вдвоем остались мы. Он попросил
купить ему еды и так сказал:
?Зайдешь сначала, Женя, к Соловьеву[10],
потом на угол в рыбный, а потом
в подвал на Колокольной. Скажешь так:
?Поклон от Кузьмича“. Ты не забудешь?? —
?Нет не забуду?.
Был я поражен.
Везде я был таким желанным гостем,
мне выдали икру и лососину,
?салями? и охотничьи сосиски,
телятину парную, сыр ?рокфор?,
мне выдали кагор ?Александрит?,
который я потом нигде не видел,
и низкую квадратную бутылку
?Рябины с коньяком? и чай китайский…
Все это так приветливо, так быстро,
и приговаривали: ?Вот уж повезло,
жить с Кузьмичем… Поймите, что такое,
старик великий, да, старик достойный…
Вы похлопочете — за ним не заржавеет…?
О чем они? Не очень я понимал…
Он сам собрал на стол на нашей кухне,
поставил он поповские тарелки,
приборы Хлебникова серебра…
(Он кое-что мне объяснил, и я немного
разбирался, что почем тут.)
Мы выпили по рюмочке кагора,
потом ?рябиновки? и закусили,
я закурил, он все меня корил за сигареты:
?Вот табак не нужен,
уж лучше выпивайте, дорогой?.
Был летний лиловатый нежный вечер,
на кухне нашей стало темновато,
но свет мы почему-то не включали…
?Вы знаете ли (он всегда сбивался,
то ?ты“, то ?вы“, но в этот фаз на ?вы“)…
…Вы знаете ли, долго я живу,
я помню Александра в кирасирском
полковничьем мундире, помню Витте —
оценивал он камни у меня.
Я был на коронации в Москве.
Я был в Мукдене по делам особым,
и в Порт-Артуре, и в Китае жил…
Девятое я помню января,
я был знаком с Гапоном, так, немного…
Мой брат погиб на крейсере ?Русалка“.
Он плавал корабельным инженером,
мой младший брат, гимназию он кончил,
а я вот нет — не мог отец осилить,
чтоб двое мы учились. А когда-то
Викторию я видел, королеву,
тогда мне было девятнадцать лет.
В тот год, вот благородное вам слово,
я сам держал в руках ?Эксцельсиор“[11]…
Так я о чем? В двадцать шестом году
я был богат, имел свой магазинчик
на Каменноостровском, там теперь химчистка,
и даже стойка та же сохранилась —
из дерева мореного я заказал ее,
и сносу ей вовек не будет.
В тридцать втором я в Смольном побывал.
Сергей Мироныч вызывал меня,
хотел он сделать женщине подарок…
Вникал я в государственное дело.
Куда все делось? Был налажен мир,
он был устроен до чего толково,
держался на серьезных людях он,
и не было халтуры этой… Впрочем,
я понимаю, всем не угодишь,
на всех все не разделишь,
а брильянтов — хороших, чистых —
их не так уж много.
А есть такие люди — им стекляшка
куда сподручней… Я не обижаюсь,
я был всегда при деле. Я служил.
В блокаду даже. Знаете ль, в блокаду
ценились лишь брильянты да еда.
Тогда открылись многие караты…
В сорок втором я видел эти броши,
которые мы делали в десятом
к романовскому юбилею. Так-с!
Хотите ли, дружок, прекраснейшие
запонки, работы французской,
лет, наверно, сто им…
Я мог бы вам их подарить, конечно,
но есть один закон — дарить нельзя.
Вы заплатите сорок пять рублей.
Помяните потом-то старика…?
Я двадцать лет с ним прожил через стенку,
стена, нас разделявшая, как раз
была не слишком в общем капитальной,
я слышал иногда обрывки фраз…
Однажды осенью, глухой и дикой,
какой бывает осень в Ленинграде,
явился за полночь тот самый, с тростью,
ну, Соломон Абрамыч, и Григорьев
его немедленно увел к себе.
И вдруг я понял, что у нас в квартире
еще один таится человек.
Он прячется, наверное, в чулане,
который был во время оно ванной,
но в годы пятилеток и сражений
заглох и совершенно пустовал.
Мне стало жутко, вышел я на кухню
и тут на подоконнике увидел
изношенную кепку из букле.
Тогда я догадался и вернулся,
и вдруг услышал, как кричит Григорьев,
за двадцать лет впервые он кричал:
?Где эти камни? Мы вам поручали…?
И дальше все заглохло, и немедля
загрохотал под окнами мотор.
Вдруг появилась женщина без шубы,
та самая, что в шубке приходила,
она вбежала в комнату соседа,
и что-то там немедля повалилось,
и кто-то коридором пробежал,
подковками царапая паркет,
и быстро все они прошли обратно.
Я поглядел в окно, там у подъезда
качался стосвечовый огонек
дворовой лампочки. Я видел,
как отъехал полузаметный мокренький
?москвич?, куда толстяк вползал
по сантиметру. Вы думаете, он пропал?
Нисколько. Он снова появился через год…
…И вот в Преображенском отпеванье.
И я в морозный лоб его целую
на Сестрорецком кладбище. Поминки.
Пришлося побывать мне на поминках,
но эти не забуду никогда.
Здесь было не по-русски тихо,
по-лютерански трезво и толково,
хотя в достатке крепкие напитки
собрались на столе среди закусок…
Лежал лиловый плюшевый альбом —
любил покойник, видимо, сниматься.
На твердых паспарту мерцали снимки,
картинки Петербурга и Варшавы,
квадратики советских документов…
Здесь был Григорьев в бальной фрачной паре,
здесь был Григорьев в полевой шинели,
здесь был Григорьев в кимоно с павлином,
здесь был Григорьев в цирковом трико…
Вот понемногу стали расходиться,
и я один, должно быть, захмелел,
поцеловал вдове тогда я руку,
ушел к себе и попросил жену
покрепче приготовить мне чайку.
Я вспомнил вдруг, что накануне этих
событий забежал ко мне приятель,
принес журнал с сенсацией московской.
Я в кресло сел и отхлебнул заварки,
и развернул ту дьявольскую книгу,
и напролет всю ночь ее читал…
Жена спала, и я завесил лампу,
жена во сне тревожно бормотала
какие-то обрывки и обмолвки,
и что-то по-английски, ведь она
язык учила где-то под гипнозом…
И вот под утро он вошел ко мне
покойный Александр Кузьмич Григорьев,
но выглядел иначе, чем всегда.
На нем был бальный фрак,
цветок в петлице,
скрипел он лаковыми башмаками,
несло каким-то соусом загробным
и острыми бордельными духами.
И он спросил: ?Ты понял??
Повторил: ?Теперь ты понял?? —
?Да, теперь конечно,
теперь уж было бы, наверно, глупо
вас не понять.
Но что же будет дальше?
И вы не знаете?? — ?Конечно, знаю,
подумаешь, бином Ньютона тоже!? —
?Так подскажите малость, что-нибудь!? —
?Нельзя подарков делать, понимаешь?
Подарки — этикетки от нарзана.
Ты сам подумай, только не страшись?.
Жена проснулась и заснула снова,
а на карнизе сел дворовый кот,
прикармливаемый мной немного.
Он лапой постучал в стекло,
но так и не дождался подаянья,
и умный зверь немедленно ушел.
Тогда я понял: все произошло,
все было, и уже сварилась каша,
осталось расхлебать все, что я сунул
в измятый кособокий котелок.
В январский этот час я знал уже,
что делал мой сосед и кто такие
оплывший Соломон в мягчайшей шляпе,
кто женщина в каракулевой шубе
и человек в начищенных ботинках,
зачем так сладко спит моя жена,
куда ушел мой кот по черным крышам,
что делал в Порт-Артуре, в Смольном,
на Каменноостровском мой брильянтщик,
зачем короновали Николая,
кто потопил ?Русалку?, что задумал
в пустынном бесконечном коридоре
отчисленный из партии товарищ,
хранящий браунинг в чужом портфеле…
И я услышал, как закрылась дверь.
?Григорьев! — закричал я. —
Как мне быть?? — ?Никак, все так же,
все уже случилось. Расхлебывай!?
И первый луч рассвета
зажегся над загаженной Фонтанкой.
?Чего ж ты хочешь, отвечай, Григорьев?? —
?Хочу добра! — вдруг прокричал Григорьев. —
Но не того, что вы вообразили,
совсем иного. Это наше дело.
Мы сами все придумали когда-то
и мы караем тех, кто нам мешает.
По-нашему все будет все равно!? —
?Так ты оттуда? Из такой дали?? —
?Да. Я оттуда, но и отовсюду…?
И снова постучал в окошко кот,
я форточку открыл, котлету бросил…
И потому как рассвело совсем,
мне надо было скоро собираться
в один визит, к одной такой особе.
Напялил я крахмальную рубашку,
в манжеты вдел я запонки,
что продал мне Григорьев,
и галстук затянул двойным узлом…
Когда я вышел, было очень пусто,
все разошлись с попоек новогодних
и спали пьяным сном в своих постелях,
в чужих постелях, на вагонных полках,
в подъездах и отелях, и тогда
Григорьева я вспомнил поговорку.
Сто лет назад услышал он ее,
когда у Оппенгеймера в конторе
учился он брильянтовому делу.
О, эта поговорка ювелиров,
брильянтщиков, предателей,
убийц из-за угла и шлюх шикарных:
?Нет ничего на черном белом свете.
Алмазы есть. Алмазы навсегда?.
1985
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (1932-1994)
ПЕСНИ
Встреча друзей
Песня пусть
начинается,
до небес поднимается,
светом пусть наполняется,
как заря!
Посидим
по-хорошему,
пусть виски запорошены.
На земле жили-прожили
мы не зря.
Над рекой
вспыхнет зорюшка,
высоко встанет солнышко.
упадет в землю зернышко
в нужный срок.
Только бы
в поле, во поле
дождичек сыпал вовремя,
а потом чтобы вовремя
лег снежок.
Спелый хлеб
закачается,
жизнь, она не кончается,
жизнь, она продолжается
каждый раз.
Будут плыть
в небе радуги,
будет мир, будут праздники.
И шагнут внуки-правнуки
дальше нас.
Москва за нами!
Стоим мы на посту
повзводно и поротно.
Бесcмертны, как огонь.
Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны.
Мы — армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.
Не зря в судьбе
алеет знамя.
Не зря на нас надеется страна.
Священные слова:
?Москва за нами!? —
мы помним
со времен Бородина.
Вручили нам отцы
всесильное оружье.
Мы Родине своей
присягу принесли.
И нам с тобой дана
единственная служба —
от смерти заслонить грядущее Земли.
Не надо нас пугать,
бахвалиться спесиво,
не стоит нам грозить
и вновь с огнем играть.
Ведь если враг рискнет
проверить нашу силу,
его мы навсегда отучим проверять!
Не зря в судьбе
алеет знамя.
Не зря на нас надеется страна.
Священные слова:
?Москва за нами!? —
мы помним
со времен Бородина.
8.08.2017
Допустить непросто. Но ты допусти,
Что не я гуляю с тобой по сети.
И не я летаю бегом по степи,
А мой стих одинокий. И с этим спи.
Допустить нелегко. Да еще молва —
От нее и кружится голова,
Неуютно в свой-то войти подъезд,
Ведь она-то продаст, и выдаст, и съест.
Допусти, пожалуйста, до Москвы.
До болящей растерзанной головы.
Оловянной, ждущей ночных облав.
Жили-были ампула-шприц-автоклав. Вероника Долина Иди сюда, мой свет (Летние стихи 2017) ДЕТИ РА 2018
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (1932-1994)
?НЕОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА?
(сборник 1962)
Богини
В. Аксенову
Давай покинем этот дом,
давай покинем, —
нелепый дом,
набитый скукою и чадом.
Давай уйдем к своим домашним богиням,
к своим уютным богиням,
к своим ворчащим…
Они, наверно, ждут нас?
Ждут.
Как ты думаешь?
Заварен чай,
крепкий чай.
Не чай — а деготь!
Горят цветные светляки на низких тумбочках,
от проносящихся машин
дрожат стекла…
Давай пойдем, дружище!
Из-за стола встанем.
Пойдем к богиням,
к нашим судьям бессонным.
Где нам обоим
приговор уже составлен.
По меньшей мере мы приговорены —
к ссоре…
Богини сидят,
в немую тьму глаза тараща.
И в то,
что живы мы с тобою,
верят слабо…
Они ревнивы так,
что это даже страшно.
Так подозрительны,
что это очень странно.
Они придумывают разные разности,
они нас любят горячо и неудобно.
Они всегда считают
самой высшей радостью
те дни, когда мы дома.
Просто дома…
Москва ночная спит
и дышит глубоко.
Москва ночная
до зари ни с кем не спорит…
Идут к богиням
два не очень трезвых
бога.
Желают боги одного:
быть собою.
ПЕТР ВЕГИН (1939-2007) Из сб. ?СЕРЕБРО? 1984
Соловьи серебряного бора
Поедем слушать соловьев
в Серебряном бору,
где никакого серебра
нет, кроме соловьиной трели.
Нет для природы никого,
кто был бы ей не ко двору
в конце столетия, верней —
в конце недели.
Забудем срочные дела,
заботы и хандру.
Работа соловья чиста,
невидима и одинока.
Мы собрались не на пиру,
жизнь не похожа на игру,
но если свищет соловей,
то в жизни нету эпилога.
Как грешники пред алтарем,
мы перед певчим соловьем.
Его серебряным шитьем расшита тишина, как шуба.
Давай рискнем, давай дерзнем
и в жизни дыры все зашьем
его иглой
серебряной, бесшумной.
Темнеет на Москве-реке.
На соловьином сквозняке
проветрим душу,
чтоб утихла боль глухая.
Душа с душой, рука в руке,
вернемся в город налегке,
язык людей
с трудом припоминая…
1983
ЕВГЕНИЙ РЕЙН
КАК ПОПАСТЬ ЗА КУЛИСЫ К ЛЕОНИДУ УТЕСОВУ
Мы приехали в Москву ?Красной стрелой? в восемь тридцать декабрьским утром. Адрес у меня был: Лаврушинский переулок, 17. Это было удобно, пока дойдем, люди проснутся, и мы никого не разбудим. Шли мы к Вячеславу Всеволодовичу Иванову — великому Коме. Перед выездом звонили из Ленинграда. Нас ждали. Москва уже горела окнами.
Кома был в полосатой байковой пижаме. Книги лежали стопами даже в коридоре. Нас провели на кухню. Усадили за стол, накормили яичницей с ветчиной.
Бродский помалкивал. Я объяснил, что происходит в Ленинграде. Лернер, народная дружина, обком, Толстиков, тунеядство. Вот-вот арестуют.
— В Москве вам нечего бояться, — сказал Кома.
Бродский с сомнением покачал головой. У меня был еще один телефон и еще одна идея. Через час я позвонил. Это был номер телефона Виктора Ефимовича Ардова. Нас пригласили. Это было близко, на Ордынке, три минуты ходьбы через проходные дворы. Так я впервые очутился на легендарной Ордынке. Ахматовой в этот день у Ардовых не было. Зато был Найман. Когда мы вошли, он стоял в пальто: уходил на Высшие сценарные курсы. Посоветовал что-то остроумное.
Но все остальные были на месте — Виктор Ефимович, Нина Антоновна, Миша, Боря. Нас снова позвали к столу. Боря вынес бутылку ?белой головки?. Идея моя состояла в том, что Бродского надо спрятать в больнице, может быть, в нервной, может быть, в психиатрической. Бродский молчал. Говорил Виктор Ефимович:
— Нервы-нервы, мания величия, шизофрения, паранойя — самое верное дело, — с этими словами он поднял телефонную трубку.
— Не надо, — сказал я.
У меня про запас был еще один телефонный номер, тот, что называется в армии НЗ. Это был Михаил Ярмуш — поэт, врач-психиатр, он работал на ?Скорой помощи?.
На Ордынке шла своя жизнь. Миша рассказывал наилучшие анекдоты, Нина Антоновна курила, Ардов сидел за маленьким столиком, на котором были разложены машинописные страницы, деревянные коробочки неясного назначения, обглоданные куриные кости, карандаши, бутерброды, лимоны. Ахматова называла это место ?уголок людоеда?. На диване сидела невыразительная собачка Лапа. Над дверью висел портрет Ахматовой, перебирающей нитку аметистовых бус, работа старшего сына Нины Антоновны, киноактера и художника Алексея Баталова. Водки выпили все, кроме Виктора Ефимовича. Бродский оживился.
— Только не сегодня, — вдруг сказал он.
Я понял, это было сказано о больнице. Ярмуш уже уехал со своей ?Скорой помощью?. Ясно было, что не сегодня.
— Пойдем, погуляем, — сказал Бродский.
Мы вышли на Ордынку, и пошли к Балчугу, к ГУМу, на Красную площадь. Было морозно, ясно, суетно, превосходно. Москва начала новый день великой империи. Я тоже учился на Высших сценарных курсах.
— Пойдем к нам, — сказал я Иосифу, — там кино, компания, Илья Авербах, Толя.
— Нет, что-то не хочется, — сказал Бродский.
Мы зашли в ГУМ. Деньги, не очень большие, у нас были.
— Носки, — сказал Бродский, — свежие носки. Быть уверенным в своих носках — это уже не мало.
Купили две пары — настоящая полушерсть, производство ГДР. Пошли в уборную, выбросили несвежие носки, надели обновки. Настроение у Бродского совсем исправилось.
— Где здесь автомат, — внезапно спросил он.
— Кому ты хочешь звонить?
— Это по делу, — явно соврал Бродский.
Стоя за его спиной во время телефонного разговора, я услышал странное имя ?Иоланта?.
— Планы на вечер? — спросил я.
Он не ответил.
Секции ГУМа мы обошли все. Дважды примеряли костюмы, потом полупальто на овчине, потом уцененные шляпы. Я даже купил чешское ?борсалино? с пятнами за два рубля.
— Надо пообедать, — сказал Бродский.
Я знал Москву, кое-как, но знал.
— Пресное или острое? — спросил я.
— О чем говоришь, — ответил Бродский.
Я повел его на Неглинку в армянский ресторан ?Арарат?.
То, что произошло там, я уже описал в стихах. (Читайте в этой же книге поэму ?Арарат?). Да, ночевали мы у Ардовых.
Ярмуш появился на следующее утро в одиннадцать часов, приехал он на психиатрической ?Скорой помощи?. Я снова рассказал, что к чему, он одобрил идею.
— Пойдем в машину, — сказал он Бродскому.
— Только не сегодня, — ответил Бродский.
Я понял — Иоланта. Но у меня издавна был еще один телефон — номер Генриха Сапгира.
— Вот как удачно! — отозвался Генрих. — У меня сегодня кукольная премьера в театре на Спартаковской. Жду вас.
— Ты пойдешь? — спросил я Бродского. — Познакомишься с Сапгиром. Сильный поэт.
— Обязательно, — сказал Иосиф.
Я нарисовал план, как доехать до Бауманской и найти там театр.
— Встретимся у театра в половине седьмого.
— Обязательно, — повторил Бродский.
И я отправился на улицу Воровского в Дом кино на Высшие сценарные курсы. Там на третьем этаже был маленький просмотровый зал для студентов. Как раз успел к началу фильма Хичкока ?Северо-северо-запад?. В зале сидела блестящая компания: Илья Авербах, Найман, Светлана Шенбрун, Максуд Ибрагимбеков, Радий Кушнерович, Марк Розовский и еще человек пятнадцать. В первом ряду находился директор курсов Михаил Маклярский.
ЕВГЕНИЙ РЕЙН
ТИЦИАН
Стояли холода и шел ?Тристан?…
М. Кузмин
Стояли холода. Шел Тициан
в паршивом зале окнами на Невский.
Я выступал, и вдруг она вошла
и села во втором ряду направо.
И вместе с ней сорок девятый год,
черника, можжевельник и остаток
той финской дачи, где скрывали нас,
детей поры блокадной и военной.
А сорок шесть прошло немалых лет.
Она вошла в каком-то темном платье,
почти совсем седая голова,
лиловым чуть подкрашенные губы.
И рядом муж, приличный человек,
костюм и галстук, желтые ботинки.
Я надрываясь кончил ?Окроканы?
выкрикивать в благополучный зал
и сел в президиуме во втором ряду.
А через час нас вызвали к банкету.
Тогда-то я и подошел, и вышло
как раз удобно, ведь они пришли
меня проведать — гостя из столицы.
Как можжевельник цвел, черника спела,
залив чувствительно мелел к закату,
и обнажалось дно, и валуны
дофинской эры выставлялись глыбой.
Вот на такой-то глыбе мы сидели,
глядели на Кронштадт и говорили
о пионерских праздничных делах:
?Костер сегодня — праздник пионерский,
но нам туда идти запрещено.
Нас засмеют, поскольку мы уже
попали под такое подозренье,
как парочка, игравшая в любовь?.
Я так всмотрелся в пепельный затылок,
что все забыл — костер и дачный поезд,
который завтра нас доставит в город.
И в тот же пепельный пучок глядел сейчас.
Совсем такой же. Две или три пряди
седые. Вот и все. Как хорошо. Как складно
получилось: вы пришли, и мы увиделись,
а то до смерти можно не поглядеть
друг другу в те глаза, что нынче
стеклами оптически прикрыты.
А рядом муж — приличный человек,
перед которым мы не погрешили,
а если погрешили — то чуть-чуть.
Была зима, и индевелый Невский
железом синим за душу хватал.
Ее я встретил возле ?Квисисаны?,
два кофе, два пирожных — что еще?
Студент своей стипендией не беден.
Мы вышли из кафе и на скамейку
на боковой Перовской вдруг уселись.
Тогда она меня поцеловала.
Я снял ей шапочку и в пепельный затылок
уткнулся ртом, я не хотел дышать,
и мы сидели так минут пятнадцать.
— Ну как Москва? — Москва? Да что сказать,
я, в общем, переехал бы обратно,
когда бы не провинция такая,
как Петербург, куда податься тут?
— Ах, ферт московский, постыдился бы… —
А Тициан на масляном портрете
сиял пунцовою гвоздикой из петлицы.
Уборщица посудой загремела —
пора, пора, пора, пора, пора!
Илья Эренбург (1891-1967) ИЗБРАННОЕ 2000
23. О МОСКВЕ
Есть город с пыльными заставами,
С большими золотыми главами,
С особняками деревянными,
С мастеровыми вечно пьяными,
И столько близкого и милого
В словах: Арбат, Дорогомилово…
Февраль или март 1913
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Утреннее отступление о Москве
Нас у Москвы —
очень много…
Как по привычной канве,
неудержимо
и строго
утро идет
по Москве.
За ночь
мосты остыли,
съежились
тополя.
Дымчата и пустынна
набережная
Кремля.
Башни
порозовели,
сразу же стала видна
тихих
тянь-шаньских елей
ранняя седина…
Рядом,
задумавшись тяжко, —
и далеки,
и близки, —
высятся
многоэтажки,
лепятся
особняки.
В городе —
сотни дорог,
вечность
в себе
таящих.
Город —
всегда диалог
прошлого
с настоящим.
Есть в нем и детство,
и зрелость.
Есть и лицо,
и нутро…
Двинулся
первый троллейбус,
и задышало метро…
Вот,
добежав,
дотикав,
пробуя голос свой,
полмиллиона будильников
грянули
над Москвой!
Благовест наш
небогатый,
утренний наш
набат…
Вот
проснулась
Таганка,
потягивается
Арбат.
Кузнецкий
рекламы тушит.
Зарядье
блестит росой.
Фыркает Пресня
под душем!
Останкино
шпарит
трусцой!
К определенному сроку
по мановенью
руки
плюхаются
на сковородку
солнечные
желтки!..
Пьет чай
Ордынка и Сетунь…
И снова,
идя на рожон,
мужья
забором газетным
отгородились
от жен.
Встанут не раньше,
не позже,
жажду свою
утолив…
Будто гигантский
поршень,
в доме
работает лифт.
Встретит всех
у порога
запах
умытой листвы…
Нас у Москвы —
очень много,
много нас
у Москвы!
Мы
со столицей на равных,
мы для нее — свои.
В креслах
башенных кранов
и на постах
ГАИ.
В гордых
концертных залах,
в шахтах
и облаках.
На производстве —
в самых
невероятных
цехах!
Мы
этот город
ставим!
Славу его
творим.
Памятью
обрастаем.
С космосом
говорим.
В каждую мелочь
вникаем.
Все измеряем
трудом…
Может быть,
не о каждом
люди
вспомнят потом.
Может,
не всем воздастся…
Сгорбившись
от потерь,
мы создаем
Государство
неравнодушных
людей!
Долгою будет
дорога.
Крупною будет
цена…
Нас у Москвы —
очень много.
А Москва у нас —
одна.
Мир
Мы —
жители Земли —
богатыри.
Бессменно
от зари и до зари,
зимой и летом,
в полднях и в ночах
мы тащим тяжесть
на своих плечах.
Несем мы груз
промчавшихся годов,
пустых надежд
и долгих холодов,
отметины
от чьих-то губ
и рук,
нелепых ссор,
бессмысленных разлук,
случайных дружб
и неслучайных встреч.
Все это так,
да не об этом
речь!
Привычный груз
не весит ничего…
Но,
не считая этого всего,
любой из нас
несет пятнадцать тонн!..
Наверно,
вы не знаете о том?
Наверно,
вам приятно жить в тепле?..
А между тем
на маленькой
Земле
накоплено
так много
разных бомб,
что, сколько их,
не знает даже бог!..
Пока что эти бомбы
мирно спят.
И может,
было б незачем опять
о бомбах
вспоминать и говорить.
Но если только
взять
и разделить
взрывчатку,
запрессованную в них,
на всех людей —
здоровых и больных,
слепых и зрячих,
старцев и юнцов,
на гениев,
трудяг
и подлецов,
на всех — без исключения —
людей
в их первый день
и в их последний день,
живущих
в прокопченных городах,
копающихся
в собственных садах,
на всех людей! —
и посчитать потом,
на каждом будет
по пятнадцать тонн!
Живем мы.
И несет любой из нас
пятнадцать тонн взрывчатки.
Александр Чистяков Отголоски любви
Опубликовано в журнале Дети Ра, номер 1, 2017
ХОЧУ В ПЕНЗУ!
Почему улица Московская не 26 километров?
Я все шел бы по ней и шел…
Встречал бы у каждойкафешки хороших поэтов
Читал бы с ними стихи, разговоры заумные вел.
А путь от вокзала поднимается выше и выше —
Там строится храм, наширифмы помножив на ноль.
Там голос поэта звучит тем слышнее, чем тише,
Чем чище любовь.
Илья Эренбург (1891-1967) ИЗБРАННОЕ 2000
89. ПУГАЧЬЯ КРОВЬ
На Болоте стоит Москва, терпит:
Приобщиться хочет лютой смерти.
Надо, как в чистый четверг, выстоять.
Уж кричат петухи голосистые.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.
От церквей идет темный гуд.
Бабы всё ждут и ждут.
Крестился палач, пил водку,
Управился, кончил работу,
Да за волосы как схватит Пугача.
Но Пугачья кровь горяча.
Задымился снег под тяжелой кровью,
Начал парень чихать, сквернословить:
?Уж пойдем, пойдем, твою мать!..
По Пугачьей крови плясать!?
Посадили голову на кол высокий,
Тело раскидали, и лежит оно на Болоте,
И стоит, стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Разделась баба, кинулась голая
Через площадь к высокому колу:
?Ты, Пугач, на колу не плачь!
Хочешь, так побалуйся со мной, Пугач!..
Прорастут, прорастут твои рваные рученьки,
И покроется земля злаками горючими,
И начнет народ трясти и слабить,
И потонут детушки в темной хляби,
И пойдут парни семечки грызть, тешиться,
И станет тесно, как в лесу, от повешенных,
И кого за шею, а кого за ноги,
И разверзнется Москва смрадными ямами,
И начнут лечить народ скверной мазью,
И будут бабушки на колокольни лазить,
И мужья пойдут в церковь брюхатые
И родят, и помрут от пакости,
И от мира божьего останется икра рачья
Да на высоком колу голова Пугачья!?
И стоит, и стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.
1916
Метки: