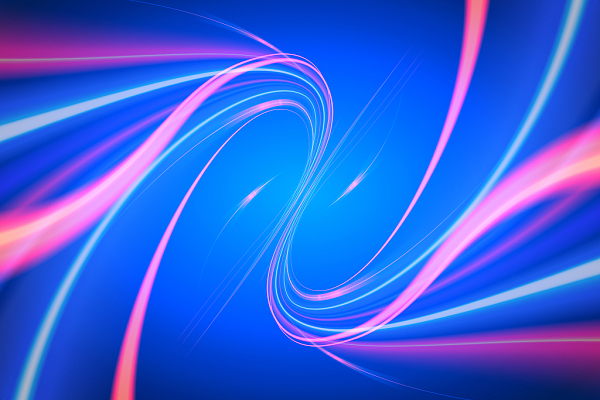Русские сны
День медленно затухал, наполняя природу уставшим светом. Мыкола на малой скорости подогнал комбайн к краю поля и заглушил его. Перекинув через плечо сумку с пустым термосом, спустился на землю. На фоне тревожно догорающего заката застывший комбайн казался огромным кораблём, севшим на мель. Мыкола вдруг удивился этому сравнению. Странным и чересчур книжным казалось оно для сорокалетнего мужика, в меру домовитого, приземистого и по-крестьянски крепко сбитого.
В самом деле — откуда на родной и привычной ?западенской? земле мог появиться фрегат? Но эта усталая вечерняя заря, это скошенное поле на мгновение действительно показались ему берегом моря, и даже с шумом прибоя.
Мыкола тряхнул головой, освобождаясь от наваждения, и глянул в вечернее небо. Над головой парила хищная птица. Но вдруг она медленно тронулась с места и потянула к ближнему ночлегу — к тёмной полосе соседнего леса.
Впрочем, лирическое чувство не было чуждо Мыколе. Умелого тракториста и комбайнёра сельчане уважали не только за техническую смётку, но и за голос и за песенный дар. Нотной грамоте он, конечно, не обучался, но благодаря врождённому абсолютному слуху и природному голосу, впитавшему тепло и сочность украинской природы, пел лучше всех. И это при том, что село, в котором родился, вообще было песенным.
Мыкола почувствовал, как отходит от гудящего напряжения натруженное тело, как наполняется оно этим вечером, этой смуглой высью, запахом жнивы, остывающим земным духом, тихой птичьей перекличкой и первыми звёздами…
Поднимая потёртыми ботинками пыль, перемешанную с перстью половы, Мыкола дошёл до своего мотоцикла и опустился на траву. Надкусив травинку, он с прищуром глянул вдаль, где за поворотом скрылась последняя машина с золотистым зерном.
— Какая благодать! — произнёс он вслух и лёг на теплынь земли.
А в густо-синем небе, окрасив облака густым румянцем, уходило на ночной покой оранжевое солнце.
До сознания Мыколы каким-то далёким эхом явственно донеслось, что слова, сказанные только что, вырвались у него по-русски! Более того: он вдруг сейчас вспомнил, что в последние дни ему снятся русские сны!
Особенно памятен был последний… Ослепительно-яркий, цветной, как в детстве!
Он словно перенёсся в мальчишеские годы… На Луганщину, в село Юрьевка, где каждое лето гостил у бабки Маруси. Странно, но ?западенскому? мальчишке у бабки нравилось больше, чем дома. Может, от русского приволья, оттого, что здесь разрешалось ему куда больше, чем на родине, с её родительской строгостью, уроками и школой. А может, кровь сказывалась: ведь это была родина отца… В доме старых людей большей частью говорили по-русски. И через несколько дней соседские ребята уже считали его за своего.
Вспыхнул в памяти ослепительный летний день. Он, совсем ещё хлопчик, сбегает со знакомого крыльца. Бабка Маруся что-то кричит вдогонку. А у него в руках котомка со свежими пирожками. И от их сытного духа, от мысли, что впереди ещё целое лето, огромное, как Вселенная, — детское счастье разливается по сердцу. Он бежит на речку. А там друзья — хорошие ребята. Вместе ходят в лес за ягодами, грибами. Вместе в ?войнушку? играют. Вместе купаются. И еда общая, и дела общие. Надёжные товарищи: если что натворишь — не выдадут.
Как ослепительно и радостно играют на реке отблески солнца! Как бодрит холодная вода! Но как резко тело сводит судорога, как темнеет в глазах!..
И вот он уже лежит на песке, чувствуя острую боль в лёгких, отхаркиваясь и отплёвываясь. Видит сквозь слёзы испуганные лица друзей.
— Ну, ты, Мыколка, даёшь! — ворчит старший пацан. — Хорошо, Васька вовремя заметил, за шкирку тебя из воды вытащил… Ты уж, смотри, бабке Марусе ничего не говори… А то будет нам на орехи. И тебя с нами перестанет пускать…
— Сдурел, что ли? — испуганно ответил Мыкола сквозь кашель. — Коли бабка узнает — все уши оборвёт. Вы сами смотрите, не проболтайтесь.
— М-могила, — отстучал зубами дрожащий Васька.
При воспоминании об этом сне Мыколу словно передёрнуло. Он вскочил с травы, как давеча ночью с постели. К чему этот сон, это окошко в детство? И тут словно холодом окатило — будто ледяной ком опустился на его сердце. И он понял — к чему.
На днях он решился позвонить по мобильному Ваське. Пересказать сон. Да и вообще поговорить. Тыщу лет не виделись! Трубку почему-то взяла Васькина жена — Люська, которую он помнил ещё девчонкой с мальчишечьими вихрами, разбитыми коленками и обжигающим взглядом синих глаз. Однажды они даже неумело целовались у клуба. Когда узнал, что она вышла замуж за Ваську, кольнула сердце смешная детская ревность.
— Привет, Люсь! А Васька далеко?
— Васька?! — закричала она вдруг сквозь рыдания. — Васька далеко! Вчера ваши долбанули из ?Градов? по нашему посёлку. Нет больше нашего дома! И Васьки больше нет. Будьте вы прокляты!
Онемев от изумления и обиды, Мыкола ошалело смотрел на мёртвый мобильник. Они с Васькой были одногодки. То, что он погиб — не вмещалось в голове: аж в висках ломило. Но проклинать за что?.. Он-то здесь при чём?!
Потом понял — при чём…
Они с батькой близко к сердцу принимали всё, что творилось на Украине. Вместе ругали Януковича, за которого дружно голосовали, и который подло, по-бандитски, обманул всю страну. Вместе радовались, когда начался второй Майдан. Уж теперь-то народ своё возьмёт! Вместе сволочили ?москалей? за их телепередачи: лезут, мол, не в своё дело, а ведь ни черта не понимают, у себя бы порядок навели! Однако с каждым днём их брань становилась всё менее уверенной.
Когда же совершился переворот, батька пригорюнился и сказал, покачивая головой:
— Ну и рожи… Боюсь, Мыкола, как бы нам с тобой не пришлось из-за этих упырей нашего бывшего президента-братка добрым словом вспомнить…
А потом началась эта кровавая сеча на Юго-Востоке. И они с отцом пошли голосовать за нового президента-кондитера, надеясь, что тот хоть кровь остановит. Старый сбежал в Россию, побросав свои хоромы и коттеджи с золотыми раковинами и унитазами. От всего открестился, в том числе и от своего народа.
?Кондитер? оказался ещё хуже прежнего. Война не то что не утихала, а стала ещё прожорливее и страшнее. Хотя по первости, когда отключили российские каналы, на душе вроде как даже легче стало. Украинские телевизионщики от души поносили ?москалей?, и казалось, всё скоро закончится.
Однако не заканчивалось…
Батька позвонил в Юрьевку, своему брату Егору. Мыколиному дяде, значит. После разговора достал из буфета бутылку горилки и молча пил её весь вечер… После этого телевизор уже не смотрел и ?москалей? не ругал.
У Мыколы тоже задору поубавилось. Как-то непонятно стало щемить сердце. И начались у него русские сны…
А потом был разговор с Люськой, и это незаслуженное проклятие. А вчера хоронили соседского хлопца, Степана, которого Мыкола помнил ещё несмышлёным мальцом. Но теперь Степан вырос, окончил школу и уехал в Киев жечь шины. Вернулся с Майдана то ли обкуренным, то ли обколотым, с безумными глазами и с татуированной свастикой на плече. Записался в какой-то батальон. А вчера его хоронили в закрытом гробу.
На сельском кладбище униатский священник говорил горячую речь, караул три раза стрельнул в воздух, но молодая мать молча смотрела на могилу сына, чёрная от горя, и никаких слов не произнесла. Только не промолчала Христина, соседка погибшего, у которой на этой войне тоже было трое сыновей. Мельком взглянула на батюшку и запричитала:
— Боже, сбережы усих нормальных людэй на Украини! Не дай им сойти с ума в цому пэкли и пережиты весь цей кошмар… Скильки нужно ещё смертей, чтобы остановить эту войну? — она ещё что-то хотела сказать, но беззвучно заплакала и отошла в сторону. Ветер тяжело вздохнул вместе с ней и понёсся к другим могилам.
И вот теперь Мыкола сидел на обочине и смотрел в пыльную колею, которая в сумерках всё больше походила на разбитое корыто из давней пушкинской сказки.
Он поднялся. Надо было идти к Наталке.
С женой, Оксаной, жизнь как-то не заладилась. Когда они окончательно рассорились, Мыкола вернулся к родителям. Жалко было оставлять дом, который построил, можно сказать, своими руками, с помощью, конечно, троих весёлых и работящих молдаван. Подбирал под дом самые крепкие брёвна, чтобы изба получилась ладной и вечной. Но, оказалось, всё напрасно. Семья оказалась ветхой, будто сплели её из ивовых веток. От этой женитьбы только одна выгода и была — сын. Честно говоря, Оксана была стервой. Всё село об этом знало, и Мыколу никто не осуждал. Родители тоже его не упрекали и не пеняли. Отец только тяжело вздохнул и
отшутился:
— Ну что же, баба з возу — кабриолет может резко увеличить скорость…
О том, что семья распалась, Мыкола не жалел. Только больно рвалось сердце, что сын растёт без него. Виделись они урывками. Мыкола возил мальчика в город, водил в кинотеатр, покупал ему игрушки, городскую одежду. Чтобы было всё, как у других хлопчиков.
У Оксаны, конечно, выдалась нелёгкая судьба. Что тут говорить! Её деда ещё в двадцатых годах раскулачили и сослали на Соловки. Отсидев положенный срок, он не вернулся на родину, а женился на местной и осел в Архангельск-городе. Там родилась мать Оксаны, а затем и она сама. Если мать хоть немного знала украинский язык, то Оксана росла без его корней. И когда Украина ?забродила? своей самостийностью, они вернулись в родное село. В школе над Оксаниным оканьем ребятишки посмеивались, и только один Мыкола сочувствовал ей и в обиду не давал. Так эта дружба, переходя из одного класса в другой, переросла в любовь. Но оказалась она недолгой. Растаяла, как вылепленный зимой снеговик.
А с Наталкой они сошлись при грустных обстоятельствах. Отучившись в столице, Наталка вернулась в родное село учителкой в младшие классы. Всё бы хорошо, да вдруг неожиданно у неё умерла мать, соседка Мыколы, тётя Ганна, что жила за три дома от родительского. Все её уважали, и в дом Мыколы она часто захаживала потолковать за жизнь, и Мыколу как-то особенно отличала среди других пацанов. И когда это несчастье случилось, Мыкола сел на мотоцикл и как-то быстро всё организовал, так что Наталке, оцепеневшей от горя, ни о чём особенно хлопотать не пришлось.
Больше полсела собралось на поминки, все вспоминали тётку Ганну тёплым словом. А она ласково глядела на гостей с фотографии, и от этой улыбки, и от выпитого вина тесно как-то стало на сердце.
И Мыкола затянул любимую песню Ганны, печальную украинскую песню:
Ой, чие то жито?
Чии то покосы?
Ой, чия дивчина
Розпустыла косы?
Косы розпустыла,
Ня з ким не ходыла.
Парня молодого
Сама полюбыла.
Никто не удивился, не осудил его за песню, а, наоборот, стали подтягивать. Мелодия ширилась, раскладывалась на голоса…
Колы маты сына
Рано ожиныла,
Молоду невистку —
Зразу невзлюбыла.
Проводжала маты
Сына у солдаты,
Молоду невистку
В поле жито жаты.
А потом была ещё песня, потом другая, и ещё, и ещё. И каждую пел Мыкола. А Наталка сидела рядом и плакала.
После похорон Мыкола стал заходить к Наталке, помогать по дому. Сначала с матерью или отцом, а потом и один. Так он захаживал, захаживал, а однажды остался насовсем.
Наталка ждала его на пороге. И у Мыколы сразу сердце зашлось от нежности, от этих чёрных сияющих глаз, от ласкового и тёплого тела, от тёмных вьющихся волос, от обжигающей белозубой улыбки. Капелька мадьярской крови придавала его любимой ещё большую красоту. И Мыкола сразу схватил её в объятия, зарылся в эти волосы, вдохнул этот запах, родной до боли, до солёной слезы…
Наталка первой отстранилась, перевела дыхание от поцелуев и рассмеялась.
— Пиды, помыйся! А то весь пылюкою пропах, та соляркою.
Вода из душа струилась, точно тёплый летний ливень, и под ласковый влажный шум Мыкола с удивлением подумал, как легко и свободно вошёл он в мир этого дома. Как будто всю жизнь здесь прожил.
Да что там! Собственно, и настоящая жизнь-то именно здесь у него и началась. Наталка ей смысл придала, открыла глаза на мир. Раньше-то он ни себя не понимал, ни Украины. И стихи её кобзарей казались ему школьной забавой, картонной шелухой, которые он учил наизусть, только чтобы получить оценки. Но его Наталке Господь дал дар слова. Она читала ему Шевченко, Франко, Украинку, и после её чтения Мыкола со сладкой сердечной болью понимал, что эти стихи — не какое-нибудь ?домашнее задание?, а душа народа, напевная, таинственная душа. И Украина — это не страница из учебника, а жизнь. Вот эти стихи, эта песня, живущая у него в душе, это небо с хищной птицей, парящей в синеве, жирный чернозём и золотое зерно, эта любовь Наталки, и ночной жар, и ласки её, и этот дом — согретый улыбкой — тоже Украина, родной мир, родная Вселенная…
И когда он сел за стол на уютной кухне — это свойское и родное чувство лишь усилилось. Наталка поставила перед ним глиняную тарелку с борщом, и вместе с паром от него поплыл по воздуху наваристый и пряный аромат, будто добрые украинские домовые наколдовали его. Ему казалось, что никто лучше Наталки не умеет готовить борщ. Разве что только мать… Прошло всего лишь несколько секунд — и вот уже Мыкола с недоумением смотрел на опустевшую посудину.
Наталка лишь усмехнулась и, не спрашивая, налила добавки.
— Да… знатно ты готовишь, — похвалил свою кохану Мыкола. — Моя бывшая жонка так не умела. Не борщ у неё выходил, а юшка для свинэй.
— Из-за этого и разлучились, чи шо? — удивилась Наталка.
— Да нет, не из-за этого… Из-за её дурной головы.
— Це як же?
— Да смешно даже рассказывать. Когда начался этот киевский гопак, она зараз ?свидомая? стала. Видно, боялась, как бы майдановцы не отправили её обратно на Соловки. И чтобы как-то в себе это уравновесить, она и стала под хохлушку косить, да так, что без смеху смотреть не можно. На родной мове гутарить принялась: в голове с русского на украинский переведёт и выдаёт с запинкой. Вышиванку надела, волосы осветлила ?пид Юлю?, косу уложила. Прямо местная Тимошенница! А как-то взяла и на кухне майданный плакат прилепила с Юлиной личностью. Я захожу, и ровно бис меня дёрнул.
— Тю! — говорю. — Яка гарна паненка! Не дывысь, шо жидовка армяньска…
Ну все же ведь знают про её еврейские да армянские корни, и что она брюнетка по жизни. Но Оксану это так взбесило, я её такой никогда не видел. Побагровела вся, глаза кровью налились.
— Уходь, — визжит. — Кацап клятый!
И хвать за утюг! Трясёт им, да и сама трясётся, как припадочная. Что делать? Не драться же с ней… Ну, я и пошёл: бочком, бочком — и за дверь. А то ведь, думаю, дура баба, хлобыстнёт не ровен час по башке, и оборвётся моя молодая жизнь. Самое главное — за что?
— Ха! Ось щирый казак — утюга испугался!
Наталка поставила перед ним миску отварной картошки с белыми грибами, посыпанную укропчиком. А рядом ещё блюдце с запечёнными рёбрышками…
Мыкола ничего не ответил. Только с аппетитом посмотрел на золотистую бульбу да втянул в себя сытный грибной аромат.
Первая порция кончилась быстро.
— Ще?
— Это уже обжираловка. Так и комбайн подо мною прогнётся.
— Комбайн — не коняка! А на бутербродах да на одном чаю цылый день — тоже не дело! Ишь!
Вот уже и насыщение стало чувствоваться. Мыкола с благодарностью взглянул на свою кохану и заметил невнятную тень тревоги на её ресницах. Вроде бы даже слезинка мелькнула в глазах.
— Ты чего? Что случилось? — с тревогой спросил он.
Наталка сцепила пальцы рук и выдохнула:
— Батько твий був. Сказав, шоб ты до них зашов. Бумага тебе какая-то из военкомата пришла.
— Что же ты раньше не сказала? — удивился Мыкола.
— Так я не думала, шо це так серьёзно, — оправдывалась женщина. — Да и ждала, покы ты наишься. Думала: чи до аппетиту тоби будэ?
Мыкола отодвинул миску с последней картофелиной. Действительно, кусок в горло уже не лез.
— Вот и приехали! — посуровел лицом. — Повестку мне принесли. А это значит: запрягайте, хлопцы, к;ней!
Встал. Начал торопливо одеваться. Лицо сделалось суровым и бледным. Наталка понимающе не расспрашивала. Только у порога сказала:
— Повертайся… Я буду тебэ ждать.
И было непонятно, то ли сказала про сегодняшний день, то ли на будущее. Эта фраза зацепилась у Мыколы в голове, и он припрятал её в сердце.
Ночь обняла село звёздною темнотой… Фонари на улице не горели с начала войны, дорога освещалась только окнами домов. Кланялся земле Чумацкий Шлях . Мыкола шёл, спотыкаясь о камни, еле высвеченные луной, а на душе была такая же тревожная ночь, как вокруг. Он ждал этого дня, но всё-таки в душе надеялся, что его имя в мобилизационном бардаке как-то затеряется, и о нём забудут. Но выходит, что не затерялось, не забыли… Видимо, майданному упырю понадобилась и его жизнь…
В родительском доме горел свет. Ещё издали Мыкола увидел отца, который сидел на крыльце и курил трубку. Повернул к дому и прибавил шагу. У калитки навстречу с радостным лаем выбежал Викинг. Здоровенный мохнатый пёс подпрыгивал, пытаясь лизнуть Мыколу в лицо, а тот ухватил старого брехуна за ошейник и принялся ласково трепать его загривок. Викинг вырвался и понёсся к крыльцу. Отец встал, обнял сына, и свет, упавший с веранды, озарил его седину и тёмное-тёмное от загара, посечённое морщинами лицо.
— Добре, что пришёл. Мать совсем извелась, — одобрительно произнёс отец, выбивая о ладонь трубку.
На голоса выбежала мать. Глаза у неё были мокрые, она то и дело вытирала их краешком платка.
— Ну что вы, мамо? Что за слёзы?
Мыкола попытался бодриться, хотя понимал, что особых оснований для веселья нет…
Сели за стол, но главный разговор заводить не торопились. Мать принесла горячий чай, плетёную тарелку с пирожками, но к чашкам никто не притронулся.
— Ну, как там жатва? — спросил отец. — Много зерна завалил?
— На дальнем поле всё скосил, — деловито ответил сын. — Где-то около тридцати гектаров. Работать — одно удовольствие. Поле ровное, только с краю бугры, да и хлеб не особенно соломистый. Ну, и машина зверь! Ни разу не ломалась.
— Ну, а на завтра куды збыраэшься? — вступила в разговор мать.
— Завтра надо переводить комбайн на другое поле. Полдня на это уйдёт. Как бы дожди не пошли…
— А мотоцикл твий дэ?
— У Наталки во дворе оставил.
— Треба б його до нас у двир закотыты. Якшо заберуть у армию, вин тут потребнее буде. Про повистку вона тоби сказала?
— Сказала…
Разговор подошёл к главному.
— Что будешь делать? — хмуро спросил отец. — Через три дня предписано явиться в военкомат.
— Не знаю, батько, — честно признался Мыкола. — Не тянет меня что-то пересаживаться с комбайна на танк. Да и против кого воевать? Против бабки Маруси? Против своих ребят?..
Отец взял трубку и дрожащими пальцами набил табаком, но закуривать не стал. Дома мать курить не разрешала. Только глянул под абажур, словно провожая невидимое облачко синего дыма.
— Кажется мне, что наша киевская власть продала американцам Луганщину. Сейчас вся Украина похожа на сплошную Полтавскую ярмарку — всё продаётся и покупается…
— Как всегда у нас — паны дерутся, а у холопов чубы трещат, — согласился Мыкола. — Только я одного понять не могу: как до этого всё докатилось? Брат на брата… Правда на правду…
— Всё давно к тому сползало, — пояснил отец. — Эти гадюки развелись не на пустом месте. Их война породила. Немец ушёл — они подались бандитничать в лес. Истребляли всех подряд. Никого не щадили, но и себя не жалели.
Помолчал. Потом, вздохнув, закончил:
— Гнали фашистов, гнали… А они снова маршируют по Крещатику. От мысли, что третью мировую войну развязывает негр, Гитлер, наверно, сейчас каждый день в гробу переворачивается.
— Так мне-то что делать? — прервал его Мыкола. — Не пойдёшь в военкомат — отловят как барана и силком отправят, а то и похуже — засадят как дезертира.
Мать не выдержала, вскочила. Её качнуло, и она вцепилась руками в край стола.
— Нэ видпущу тебэ никуды! То мий сказ. Вси наши жинки повязали чорни хустины. Можэ, и мени ши зараз повязать? Тоби щэ сына трэба до ума довэсты. Не дозволяю!
— Ладно, мать, не шуми, — успокоил муж. — ?Не видпущу, не видпущу!? Можно подумать, тебя спросят. Придут и заберут, и никакого разрешения спрашивать не будут. Это раньше призывали в армию, а сейчас забирают, — подчеркнул последнее слово отец.
— А где повестка-то? — вспомнил Мыкола.
Мать подошла к комоду. Достала из шкатулки серый бумажный листок. Вернулась к столу. Протянула сыну. Тот пробежал глазами неряшливо отпечатанный текст, сложил вчетверо, сунул в карман рубашки.
— Вот что, сынку, — сказал отец. — Выбрось-ка ты эту бумажонку и тикай завтра к русским. Трошки гривен та рублив у нас есть, до границы и на первое время в России хватит. Мать завтра котомку соберёт — и топай ты отсель подальше.
— А как же вы? — встревожился Мыкола. Взглянул на мать, на её сухонькое испуганное лицо с большими синими глазами. — Вас же из-за меня затаскают.
— Да ладно! — отмахнулся отец. — Один раз, может, вызовут. Не знаем, где ты, — вот и весь разговор. Обязательно тебе надо тикать.
— Завтра, пожалуй, не получится, — покачал головой Мыкола. — С утра треба перегнать от Наталки мотоцикл. Потом с председателем надо побалакать насчёт комбайна. И вообще: можа, из-за жатвы отсрочку дадут. И главное — сына увидеть надо, попрощаться…
— Это правильно, — согласился отец. — А теперь пошли спать. Утро вечера мудренее.
Чай в тонких расписных чашках так и остыл.
Ночью Мыколе снова привиделся сон. Вначале он увидал огромное оранжевое солнце, которое, как парашют, опускалось далеко на горизонте. На несжатом поле шёл танковый бой. Один за другим загорались бронированные машины. От лязга металла и взрывов закладывало уши. Оседала на землю ржавая пыль. Пахло бензиновой гарью и обожжённой землёй. Потрескивая, высоким пламенем горела неубранная пшеница. В этом огне сложно было разобрать, где свои и где чужие. Башня его танка сотряслась от гигантского взрыва, и огненная волна с силой вышвырнула Мыколу из машины. Он лежал на израненном поле, оглушённый, побитый осколками, и у него не было сил даже шевельнуться. Он лежал и умирал…
А где-то рядом — смутно слышалось — как какой-то украинец матерился от боли на русском языке.
Мыкола чувствовал, как душа покидает его и поднимается к облакам. Прочь от этого сгоревшего танка с перевёрнутой башней, от этой выгоревшей дотла земли. И каким-то последним зрением он успел заметить, как на него двигаются огромные машины, и он не мог разобрать, были это комбайны из его мирной жизни или танки? Мыкола лежал, обняв землю, и на него сыпались пшеничные зёрна.
Потёртая контора бывшего колхоза ?Червона Украина? мало изменилась. Разве что вывеску сняли. Даже председатель остался тот же, правда, теперь он стал гендиректором агрофирмы. Впрочем, на селе его продолжали величать по старинке: пан председатель.
Был он плотным лысоватым мужичком с маленькими хитрыми глазками. Благодаря своей недюжинной изворотливости, председатель выжил в постсоветское время и хозяйство сохранил. Умел договариваться с ворами, себя не забывал, но и с работниками обращался по-человечески, с пониманием, так что крестьяне от него не бежали.
В кабинете пан Матвей встал навстречу Мыколе. Но за радушной улыбкой угадывалось плохо скрытое беспокойство. Мыкола понял, что дела его неважные, и на помощь рассчитывать здесь вряд ли придётся.
— Учётчица мне доложила, — опередил председатель. — С тридцати гектаров снял хлеб! Вот это жниво! Шофера только жаловались — еле за тобой поспевали. Всё было так хорошо — и н; тебе! Приехали эти ?братки? с автоматами да с повестками! Видел бы ты их рожи… Хотя ещё увидишь… Не знаю, что делать теперь: хоть сам за штурвал садись. По всему видать, погано нашему хозяйству будет… — Помолчал. — Ты это… за стариков не беспокойся. Твою зарплату всю до копеечки им отдадим. Да и вообще… будем всегда помогать. Вот дело-то какое!
Мыкола кашлянул в кулак.
— Спасибо вам, Матвей Тимофеевич. Я это… хотел спросить. Что мне дальше делать? Перегонять комбайн самому или это другие сделают?
Председатель отодвинул от себя бумаги.
— Да сами управимся. Хотя с кем теперь работать? Ведь, кроме тебя, забирают ещё Гриценко, Федюка и Нечипоренко. Яких хлопцев уводят, ёперный театр! Вы уж только возвращайтесь! — он моргнул глазами от нежданной слезы, чего раньше с ним не случалось, вышел из-за стола и обнял Мыколу. — Прости. Но помочь я вам, ребятки, ничем не могу. Такое заварилось.
Воздух уже окончательно расцвёл, раскрасив золотой полоской облака.
Мыкола шёл по битому сельскому асфальту, по голой щебёнке, и грустные яблони кланялись ему вслед. Он знал, куда сейчас идти. К сыну. Мысленно подбирал слова, которые должен сказать. На войне всё может случиться… А вот слова, которые он должен сказать сыну, — они навсегда останутся с ним, как бы ни сложилась его жизнь.
Оксана сидела в саду. Резала яблоки на варенье.
— Тю! Ты глянь, хто це появывся! — встретила она его с глумливым смешком.
В её словах была прежняя насмешка и даже злость.
— Чего сразу лаешься? Хотя бы в такой день поговорила бы по-человечески, — устало взглянул на неё Мыкола.
— Це нехай тебэ твоя учителка ласкае, а мы до ухаживания не звычны.
— Як же ж ты гарно по-украински размолвляешь! — усмехнулся Мыкола. — Краше моей училки, хоть она и природная западенка. Если бы мы с тобой не расстались, глядишь, и уроки литературы мне не пришлось бы брать.
Оксану это лишь больше разозлило. Встала, молвила с наигранным сочувствием:
— Як же ты, радяньский хлопчик, будешь воевать с ?колорадами?? Воны ж тоби, як свои!
— Чего это я радяньский хлопчик?
— Ну як же? Я ж памьятаю, с якою радистию носив ты червону тряпку на шыи! Аж червонный весь був…
— Носил, как все. Во всяком случае, я не был председателем пионерского звена, как некоторые, — отозвался Мыкола. — Видать, поморы тебя здорово воспитали.
Оксана открыла было рот, но тут же его сомкнула. Крыть ей было нечем.
На этом их разговор прервался. На голоса прибежал сын. Встал напротив — белобрысый, вихрастый, синеглазый — в бабкину породу. Мыкола опустился перед ним на колено, и мальчонка бросился к отцу в обьятия.
— Тато, а ты правда на вийну идэшь?
— Правда, сынок, правда. Но скоро там всё закончится. Перемирие объявили.
— Жалко… — Тарас сделал кислое лицо. — Я бы теж пишов воеваты! И всих цих сепаратистив перестриляв бы! Та-та-та, та-та, — захлёбываясь, застрекотал он, будто в его руках был настоящий автомат.
— Твоя работа? — глянул Мыкола на Оксану.
А та лишь подбоченилась гордо.
— Я настоящего украинца з него воспитаю! Не хочу, щоб зрастав холопом в своий батькивщини. З малых рокив трэба любиты ридну хату! А ну, Тарас, скажи батьки, чому ещё навчився?
Мальчишка отодвинулся от отца и, вытянув вперёд руку, крикнул:
— Слава Украини! Хто нэ скаче, той москаль! Москаляку на гиляку!
Отец обхватил его обеими руками и привлёк к себе. Придвинул лицо к лицу. Тарас ещё никогда не видел отцовских глаз так близко. И никогда не видел он в них такой боли.
— А ты знаешь, сынок, что батя твой — тоже москаль? Ты и его хочешь на гиляку?
Мальчишка в изумлении уставился на Мыколу, хлопая огромными глазищами. Ему стало жалко отца и хотелось плакать.
— Ты уже большой, Тарас. Не всё подряд нужно повторять, чему тебя учат во дворе… Запомни, сынок… лучше быть москалём…, чем скакать всю жизнь, как кузнечик. Ты сейчас многое не поймёшь, но когда ты вырастешь, ты обязательно вспомни наш разговор…
— Не дозволяю! — заорала Оксана и выхватила сына. — Не дозволяю! Збырайся звидси, поки я милицию не выклыкала! И николы до нас бильше не повертайся.
— Успокойся, жинка, — тихо ответил ей Мыкола. — Может, и не вернусь. Смерть — она ведь не выбирает. Хотя, если честно, что-то мне не очень хочется воевать за таких ?патриотов?. Ты вот портрет Шевченко повесила в красном углу вместо иконы, а до сих пор не поняла, что и Украину, и Шевченко надо в сердце иметь, а не картонкой на стену вешать. Прощай.
Оксана молчала.
На прощанье Мыкола не выдержал и напомнил:
— Видать, зря я тебя в детстве от пацанов защищал. Сколь волка ни корми, он всё равно в лес смотрит…
Когда Мыкола отворил калитку, то услышал тоненький голосок:
— Тато, не уходь!..
Но он лишь оглянулся в ответ и молча махнул рукой.
Он пришёл домой и всё рассказал отцу.
— Ну, и что теперь будешь делать? — дрогнувшим голосом спросил отец.
— Не знаю, батько, — признался Мыкола. — Но, скорее всего, сбегу при первой возможности. Может, в Россию, а может, и напрямую к ополченцам. Знаю точно: эту гниду надо уничтожать. И чем быстрей, тем лучше это будет для всех. Иначе столько от неё беды будет — никакими слезами не отмоешь.
— Вижу, добрый казак из тебя получился… Бунтует кровь в тебе… — низким голосом произнёс отец.
Помолчали. Отец спросил:
— Где ночевать-то будешь?
— С вами останусь. Можно, на сеновал полезу? Хочу надышаться родною травой. К Наталке завтра схожу. Впереди ещё два дня…
— Полезай. Жалко, что ли? Только ночь нынче уже холодная.
Мать принесла им горилки, кусок домашнего окорока и душистый чёрный хлеб. И до позднего вечера они сидели с отцом и вспоминали светлую прошлую жизнь…
Ночь над прикарпатским селом парила прохладным и светлым пологом. Босоногая луна расхаживала по небу, развешивая звёзды. Мыкола не торопился засыпать. Он вглядывался в расшитую серебряным бисером вышину и думал — долго ли ещё суждено ему смотреть на эту красоту? Наконец, хмель и усталость сделали своё дело, и сон сошёл на его веки.
Выспаться ему так и не удалось. Едва стало светать, двор наполнился чёрной гурьбой обкуренных ?братков? с эсэсовскими шевронами на рукавах. Его тут же стащили вниз.
— И чего нэ втик? — спросил черночубый и ударил его прикладом в живот. — Чому дружину свою обижаешь? Думав, на тебэ управы нэ знайдеться?
Мыкола выдержал удар, смолчал. Только прищуренные глаза его полыхнули скрытой яростью. Зашёл в дом, перекинул через плечо заготовленный с вечера вещмешок, молча, одним кивком, попрощался с родителями и перешагнул родной порог.
За калиткой стояли, понурясь, Гриценко, Федюк и Нечипоренко.
— От це добри вояки! — развеселился толстопузый бандеровец. — Слава Украини!
— Героям слава… — вяло ответили Гриценко, Федюк и Нечипоренко.
— Героям сало! — добавил в общий хор Мыкола, но его никто не понял.
?Оно и к лучшему, что так захватили, — думал он про себя. — Легче будет к ополченцам перейти. Ещё сочтёмся с вами, суки фашистские…?
Когда подошли к машине, он оглянулся. Три дома смотрели ему вслед.
В самом деле — откуда на родной и привычной ?западенской? земле мог появиться фрегат? Но эта усталая вечерняя заря, это скошенное поле на мгновение действительно показались ему берегом моря, и даже с шумом прибоя.
Мыкола тряхнул головой, освобождаясь от наваждения, и глянул в вечернее небо. Над головой парила хищная птица. Но вдруг она медленно тронулась с места и потянула к ближнему ночлегу — к тёмной полосе соседнего леса.
Впрочем, лирическое чувство не было чуждо Мыколе. Умелого тракториста и комбайнёра сельчане уважали не только за техническую смётку, но и за голос и за песенный дар. Нотной грамоте он, конечно, не обучался, но благодаря врождённому абсолютному слуху и природному голосу, впитавшему тепло и сочность украинской природы, пел лучше всех. И это при том, что село, в котором родился, вообще было песенным.
Мыкола почувствовал, как отходит от гудящего напряжения натруженное тело, как наполняется оно этим вечером, этой смуглой высью, запахом жнивы, остывающим земным духом, тихой птичьей перекличкой и первыми звёздами…
Поднимая потёртыми ботинками пыль, перемешанную с перстью половы, Мыкола дошёл до своего мотоцикла и опустился на траву. Надкусив травинку, он с прищуром глянул вдаль, где за поворотом скрылась последняя машина с золотистым зерном.
— Какая благодать! — произнёс он вслух и лёг на теплынь земли.
А в густо-синем небе, окрасив облака густым румянцем, уходило на ночной покой оранжевое солнце.
До сознания Мыколы каким-то далёким эхом явственно донеслось, что слова, сказанные только что, вырвались у него по-русски! Более того: он вдруг сейчас вспомнил, что в последние дни ему снятся русские сны!
Особенно памятен был последний… Ослепительно-яркий, цветной, как в детстве!
Он словно перенёсся в мальчишеские годы… На Луганщину, в село Юрьевка, где каждое лето гостил у бабки Маруси. Странно, но ?западенскому? мальчишке у бабки нравилось больше, чем дома. Может, от русского приволья, оттого, что здесь разрешалось ему куда больше, чем на родине, с её родительской строгостью, уроками и школой. А может, кровь сказывалась: ведь это была родина отца… В доме старых людей большей частью говорили по-русски. И через несколько дней соседские ребята уже считали его за своего.
Вспыхнул в памяти ослепительный летний день. Он, совсем ещё хлопчик, сбегает со знакомого крыльца. Бабка Маруся что-то кричит вдогонку. А у него в руках котомка со свежими пирожками. И от их сытного духа, от мысли, что впереди ещё целое лето, огромное, как Вселенная, — детское счастье разливается по сердцу. Он бежит на речку. А там друзья — хорошие ребята. Вместе ходят в лес за ягодами, грибами. Вместе в ?войнушку? играют. Вместе купаются. И еда общая, и дела общие. Надёжные товарищи: если что натворишь — не выдадут.
Как ослепительно и радостно играют на реке отблески солнца! Как бодрит холодная вода! Но как резко тело сводит судорога, как темнеет в глазах!..
И вот он уже лежит на песке, чувствуя острую боль в лёгких, отхаркиваясь и отплёвываясь. Видит сквозь слёзы испуганные лица друзей.
— Ну, ты, Мыколка, даёшь! — ворчит старший пацан. — Хорошо, Васька вовремя заметил, за шкирку тебя из воды вытащил… Ты уж, смотри, бабке Марусе ничего не говори… А то будет нам на орехи. И тебя с нами перестанет пускать…
— Сдурел, что ли? — испуганно ответил Мыкола сквозь кашель. — Коли бабка узнает — все уши оборвёт. Вы сами смотрите, не проболтайтесь.
— М-могила, — отстучал зубами дрожащий Васька.
При воспоминании об этом сне Мыколу словно передёрнуло. Он вскочил с травы, как давеча ночью с постели. К чему этот сон, это окошко в детство? И тут словно холодом окатило — будто ледяной ком опустился на его сердце. И он понял — к чему.
На днях он решился позвонить по мобильному Ваське. Пересказать сон. Да и вообще поговорить. Тыщу лет не виделись! Трубку почему-то взяла Васькина жена — Люська, которую он помнил ещё девчонкой с мальчишечьими вихрами, разбитыми коленками и обжигающим взглядом синих глаз. Однажды они даже неумело целовались у клуба. Когда узнал, что она вышла замуж за Ваську, кольнула сердце смешная детская ревность.
— Привет, Люсь! А Васька далеко?
— Васька?! — закричала она вдруг сквозь рыдания. — Васька далеко! Вчера ваши долбанули из ?Градов? по нашему посёлку. Нет больше нашего дома! И Васьки больше нет. Будьте вы прокляты!
Онемев от изумления и обиды, Мыкола ошалело смотрел на мёртвый мобильник. Они с Васькой были одногодки. То, что он погиб — не вмещалось в голове: аж в висках ломило. Но проклинать за что?.. Он-то здесь при чём?!
Потом понял — при чём…
Они с батькой близко к сердцу принимали всё, что творилось на Украине. Вместе ругали Януковича, за которого дружно голосовали, и который подло, по-бандитски, обманул всю страну. Вместе радовались, когда начался второй Майдан. Уж теперь-то народ своё возьмёт! Вместе сволочили ?москалей? за их телепередачи: лезут, мол, не в своё дело, а ведь ни черта не понимают, у себя бы порядок навели! Однако с каждым днём их брань становилась всё менее уверенной.
Когда же совершился переворот, батька пригорюнился и сказал, покачивая головой:
— Ну и рожи… Боюсь, Мыкола, как бы нам с тобой не пришлось из-за этих упырей нашего бывшего президента-братка добрым словом вспомнить…
А потом началась эта кровавая сеча на Юго-Востоке. И они с отцом пошли голосовать за нового президента-кондитера, надеясь, что тот хоть кровь остановит. Старый сбежал в Россию, побросав свои хоромы и коттеджи с золотыми раковинами и унитазами. От всего открестился, в том числе и от своего народа.
?Кондитер? оказался ещё хуже прежнего. Война не то что не утихала, а стала ещё прожорливее и страшнее. Хотя по первости, когда отключили российские каналы, на душе вроде как даже легче стало. Украинские телевизионщики от души поносили ?москалей?, и казалось, всё скоро закончится.
Однако не заканчивалось…
Батька позвонил в Юрьевку, своему брату Егору. Мыколиному дяде, значит. После разговора достал из буфета бутылку горилки и молча пил её весь вечер… После этого телевизор уже не смотрел и ?москалей? не ругал.
У Мыколы тоже задору поубавилось. Как-то непонятно стало щемить сердце. И начались у него русские сны…
А потом был разговор с Люськой, и это незаслуженное проклятие. А вчера хоронили соседского хлопца, Степана, которого Мыкола помнил ещё несмышлёным мальцом. Но теперь Степан вырос, окончил школу и уехал в Киев жечь шины. Вернулся с Майдана то ли обкуренным, то ли обколотым, с безумными глазами и с татуированной свастикой на плече. Записался в какой-то батальон. А вчера его хоронили в закрытом гробу.
На сельском кладбище униатский священник говорил горячую речь, караул три раза стрельнул в воздух, но молодая мать молча смотрела на могилу сына, чёрная от горя, и никаких слов не произнесла. Только не промолчала Христина, соседка погибшего, у которой на этой войне тоже было трое сыновей. Мельком взглянула на батюшку и запричитала:
— Боже, сбережы усих нормальных людэй на Украини! Не дай им сойти с ума в цому пэкли и пережиты весь цей кошмар… Скильки нужно ещё смертей, чтобы остановить эту войну? — она ещё что-то хотела сказать, но беззвучно заплакала и отошла в сторону. Ветер тяжело вздохнул вместе с ней и понёсся к другим могилам.
И вот теперь Мыкола сидел на обочине и смотрел в пыльную колею, которая в сумерках всё больше походила на разбитое корыто из давней пушкинской сказки.
Он поднялся. Надо было идти к Наталке.
С женой, Оксаной, жизнь как-то не заладилась. Когда они окончательно рассорились, Мыкола вернулся к родителям. Жалко было оставлять дом, который построил, можно сказать, своими руками, с помощью, конечно, троих весёлых и работящих молдаван. Подбирал под дом самые крепкие брёвна, чтобы изба получилась ладной и вечной. Но, оказалось, всё напрасно. Семья оказалась ветхой, будто сплели её из ивовых веток. От этой женитьбы только одна выгода и была — сын. Честно говоря, Оксана была стервой. Всё село об этом знало, и Мыколу никто не осуждал. Родители тоже его не упрекали и не пеняли. Отец только тяжело вздохнул и
отшутился:
— Ну что же, баба з возу — кабриолет может резко увеличить скорость…
О том, что семья распалась, Мыкола не жалел. Только больно рвалось сердце, что сын растёт без него. Виделись они урывками. Мыкола возил мальчика в город, водил в кинотеатр, покупал ему игрушки, городскую одежду. Чтобы было всё, как у других хлопчиков.
У Оксаны, конечно, выдалась нелёгкая судьба. Что тут говорить! Её деда ещё в двадцатых годах раскулачили и сослали на Соловки. Отсидев положенный срок, он не вернулся на родину, а женился на местной и осел в Архангельск-городе. Там родилась мать Оксаны, а затем и она сама. Если мать хоть немного знала украинский язык, то Оксана росла без его корней. И когда Украина ?забродила? своей самостийностью, они вернулись в родное село. В школе над Оксаниным оканьем ребятишки посмеивались, и только один Мыкола сочувствовал ей и в обиду не давал. Так эта дружба, переходя из одного класса в другой, переросла в любовь. Но оказалась она недолгой. Растаяла, как вылепленный зимой снеговик.
А с Наталкой они сошлись при грустных обстоятельствах. Отучившись в столице, Наталка вернулась в родное село учителкой в младшие классы. Всё бы хорошо, да вдруг неожиданно у неё умерла мать, соседка Мыколы, тётя Ганна, что жила за три дома от родительского. Все её уважали, и в дом Мыколы она часто захаживала потолковать за жизнь, и Мыколу как-то особенно отличала среди других пацанов. И когда это несчастье случилось, Мыкола сел на мотоцикл и как-то быстро всё организовал, так что Наталке, оцепеневшей от горя, ни о чём особенно хлопотать не пришлось.
Больше полсела собралось на поминки, все вспоминали тётку Ганну тёплым словом. А она ласково глядела на гостей с фотографии, и от этой улыбки, и от выпитого вина тесно как-то стало на сердце.
И Мыкола затянул любимую песню Ганны, печальную украинскую песню:
Ой, чие то жито?
Чии то покосы?
Ой, чия дивчина
Розпустыла косы?
Косы розпустыла,
Ня з ким не ходыла.
Парня молодого
Сама полюбыла.
Никто не удивился, не осудил его за песню, а, наоборот, стали подтягивать. Мелодия ширилась, раскладывалась на голоса…
Колы маты сына
Рано ожиныла,
Молоду невистку —
Зразу невзлюбыла.
Проводжала маты
Сына у солдаты,
Молоду невистку
В поле жито жаты.
А потом была ещё песня, потом другая, и ещё, и ещё. И каждую пел Мыкола. А Наталка сидела рядом и плакала.
После похорон Мыкола стал заходить к Наталке, помогать по дому. Сначала с матерью или отцом, а потом и один. Так он захаживал, захаживал, а однажды остался насовсем.
Наталка ждала его на пороге. И у Мыколы сразу сердце зашлось от нежности, от этих чёрных сияющих глаз, от ласкового и тёплого тела, от тёмных вьющихся волос, от обжигающей белозубой улыбки. Капелька мадьярской крови придавала его любимой ещё большую красоту. И Мыкола сразу схватил её в объятия, зарылся в эти волосы, вдохнул этот запах, родной до боли, до солёной слезы…
Наталка первой отстранилась, перевела дыхание от поцелуев и рассмеялась.
— Пиды, помыйся! А то весь пылюкою пропах, та соляркою.
Вода из душа струилась, точно тёплый летний ливень, и под ласковый влажный шум Мыкола с удивлением подумал, как легко и свободно вошёл он в мир этого дома. Как будто всю жизнь здесь прожил.
Да что там! Собственно, и настоящая жизнь-то именно здесь у него и началась. Наталка ей смысл придала, открыла глаза на мир. Раньше-то он ни себя не понимал, ни Украины. И стихи её кобзарей казались ему школьной забавой, картонной шелухой, которые он учил наизусть, только чтобы получить оценки. Но его Наталке Господь дал дар слова. Она читала ему Шевченко, Франко, Украинку, и после её чтения Мыкола со сладкой сердечной болью понимал, что эти стихи — не какое-нибудь ?домашнее задание?, а душа народа, напевная, таинственная душа. И Украина — это не страница из учебника, а жизнь. Вот эти стихи, эта песня, живущая у него в душе, это небо с хищной птицей, парящей в синеве, жирный чернозём и золотое зерно, эта любовь Наталки, и ночной жар, и ласки её, и этот дом — согретый улыбкой — тоже Украина, родной мир, родная Вселенная…
И когда он сел за стол на уютной кухне — это свойское и родное чувство лишь усилилось. Наталка поставила перед ним глиняную тарелку с борщом, и вместе с паром от него поплыл по воздуху наваристый и пряный аромат, будто добрые украинские домовые наколдовали его. Ему казалось, что никто лучше Наталки не умеет готовить борщ. Разве что только мать… Прошло всего лишь несколько секунд — и вот уже Мыкола с недоумением смотрел на опустевшую посудину.
Наталка лишь усмехнулась и, не спрашивая, налила добавки.
— Да… знатно ты готовишь, — похвалил свою кохану Мыкола. — Моя бывшая жонка так не умела. Не борщ у неё выходил, а юшка для свинэй.
— Из-за этого и разлучились, чи шо? — удивилась Наталка.
— Да нет, не из-за этого… Из-за её дурной головы.
— Це як же?
— Да смешно даже рассказывать. Когда начался этот киевский гопак, она зараз ?свидомая? стала. Видно, боялась, как бы майдановцы не отправили её обратно на Соловки. И чтобы как-то в себе это уравновесить, она и стала под хохлушку косить, да так, что без смеху смотреть не можно. На родной мове гутарить принялась: в голове с русского на украинский переведёт и выдаёт с запинкой. Вышиванку надела, волосы осветлила ?пид Юлю?, косу уложила. Прямо местная Тимошенница! А как-то взяла и на кухне майданный плакат прилепила с Юлиной личностью. Я захожу, и ровно бис меня дёрнул.
— Тю! — говорю. — Яка гарна паненка! Не дывысь, шо жидовка армяньска…
Ну все же ведь знают про её еврейские да армянские корни, и что она брюнетка по жизни. Но Оксану это так взбесило, я её такой никогда не видел. Побагровела вся, глаза кровью налились.
— Уходь, — визжит. — Кацап клятый!
И хвать за утюг! Трясёт им, да и сама трясётся, как припадочная. Что делать? Не драться же с ней… Ну, я и пошёл: бочком, бочком — и за дверь. А то ведь, думаю, дура баба, хлобыстнёт не ровен час по башке, и оборвётся моя молодая жизнь. Самое главное — за что?
— Ха! Ось щирый казак — утюга испугался!
Наталка поставила перед ним миску отварной картошки с белыми грибами, посыпанную укропчиком. А рядом ещё блюдце с запечёнными рёбрышками…
Мыкола ничего не ответил. Только с аппетитом посмотрел на золотистую бульбу да втянул в себя сытный грибной аромат.
Первая порция кончилась быстро.
— Ще?
— Это уже обжираловка. Так и комбайн подо мною прогнётся.
— Комбайн — не коняка! А на бутербродах да на одном чаю цылый день — тоже не дело! Ишь!
Вот уже и насыщение стало чувствоваться. Мыкола с благодарностью взглянул на свою кохану и заметил невнятную тень тревоги на её ресницах. Вроде бы даже слезинка мелькнула в глазах.
— Ты чего? Что случилось? — с тревогой спросил он.
Наталка сцепила пальцы рук и выдохнула:
— Батько твий був. Сказав, шоб ты до них зашов. Бумага тебе какая-то из военкомата пришла.
— Что же ты раньше не сказала? — удивился Мыкола.
— Так я не думала, шо це так серьёзно, — оправдывалась женщина. — Да и ждала, покы ты наишься. Думала: чи до аппетиту тоби будэ?
Мыкола отодвинул миску с последней картофелиной. Действительно, кусок в горло уже не лез.
— Вот и приехали! — посуровел лицом. — Повестку мне принесли. А это значит: запрягайте, хлопцы, к;ней!
Встал. Начал торопливо одеваться. Лицо сделалось суровым и бледным. Наталка понимающе не расспрашивала. Только у порога сказала:
— Повертайся… Я буду тебэ ждать.
И было непонятно, то ли сказала про сегодняшний день, то ли на будущее. Эта фраза зацепилась у Мыколы в голове, и он припрятал её в сердце.
Ночь обняла село звёздною темнотой… Фонари на улице не горели с начала войны, дорога освещалась только окнами домов. Кланялся земле Чумацкий Шлях . Мыкола шёл, спотыкаясь о камни, еле высвеченные луной, а на душе была такая же тревожная ночь, как вокруг. Он ждал этого дня, но всё-таки в душе надеялся, что его имя в мобилизационном бардаке как-то затеряется, и о нём забудут. Но выходит, что не затерялось, не забыли… Видимо, майданному упырю понадобилась и его жизнь…
В родительском доме горел свет. Ещё издали Мыкола увидел отца, который сидел на крыльце и курил трубку. Повернул к дому и прибавил шагу. У калитки навстречу с радостным лаем выбежал Викинг. Здоровенный мохнатый пёс подпрыгивал, пытаясь лизнуть Мыколу в лицо, а тот ухватил старого брехуна за ошейник и принялся ласково трепать его загривок. Викинг вырвался и понёсся к крыльцу. Отец встал, обнял сына, и свет, упавший с веранды, озарил его седину и тёмное-тёмное от загара, посечённое морщинами лицо.
— Добре, что пришёл. Мать совсем извелась, — одобрительно произнёс отец, выбивая о ладонь трубку.
На голоса выбежала мать. Глаза у неё были мокрые, она то и дело вытирала их краешком платка.
— Ну что вы, мамо? Что за слёзы?
Мыкола попытался бодриться, хотя понимал, что особых оснований для веселья нет…
Сели за стол, но главный разговор заводить не торопились. Мать принесла горячий чай, плетёную тарелку с пирожками, но к чашкам никто не притронулся.
— Ну, как там жатва? — спросил отец. — Много зерна завалил?
— На дальнем поле всё скосил, — деловито ответил сын. — Где-то около тридцати гектаров. Работать — одно удовольствие. Поле ровное, только с краю бугры, да и хлеб не особенно соломистый. Ну, и машина зверь! Ни разу не ломалась.
— Ну, а на завтра куды збыраэшься? — вступила в разговор мать.
— Завтра надо переводить комбайн на другое поле. Полдня на это уйдёт. Как бы дожди не пошли…
— А мотоцикл твий дэ?
— У Наталки во дворе оставил.
— Треба б його до нас у двир закотыты. Якшо заберуть у армию, вин тут потребнее буде. Про повистку вона тоби сказала?
— Сказала…
Разговор подошёл к главному.
— Что будешь делать? — хмуро спросил отец. — Через три дня предписано явиться в военкомат.
— Не знаю, батько, — честно признался Мыкола. — Не тянет меня что-то пересаживаться с комбайна на танк. Да и против кого воевать? Против бабки Маруси? Против своих ребят?..
Отец взял трубку и дрожащими пальцами набил табаком, но закуривать не стал. Дома мать курить не разрешала. Только глянул под абажур, словно провожая невидимое облачко синего дыма.
— Кажется мне, что наша киевская власть продала американцам Луганщину. Сейчас вся Украина похожа на сплошную Полтавскую ярмарку — всё продаётся и покупается…
— Как всегда у нас — паны дерутся, а у холопов чубы трещат, — согласился Мыкола. — Только я одного понять не могу: как до этого всё докатилось? Брат на брата… Правда на правду…
— Всё давно к тому сползало, — пояснил отец. — Эти гадюки развелись не на пустом месте. Их война породила. Немец ушёл — они подались бандитничать в лес. Истребляли всех подряд. Никого не щадили, но и себя не жалели.
Помолчал. Потом, вздохнув, закончил:
— Гнали фашистов, гнали… А они снова маршируют по Крещатику. От мысли, что третью мировую войну развязывает негр, Гитлер, наверно, сейчас каждый день в гробу переворачивается.
— Так мне-то что делать? — прервал его Мыкола. — Не пойдёшь в военкомат — отловят как барана и силком отправят, а то и похуже — засадят как дезертира.
Мать не выдержала, вскочила. Её качнуло, и она вцепилась руками в край стола.
— Нэ видпущу тебэ никуды! То мий сказ. Вси наши жинки повязали чорни хустины. Можэ, и мени ши зараз повязать? Тоби щэ сына трэба до ума довэсты. Не дозволяю!
— Ладно, мать, не шуми, — успокоил муж. — ?Не видпущу, не видпущу!? Можно подумать, тебя спросят. Придут и заберут, и никакого разрешения спрашивать не будут. Это раньше призывали в армию, а сейчас забирают, — подчеркнул последнее слово отец.
— А где повестка-то? — вспомнил Мыкола.
Мать подошла к комоду. Достала из шкатулки серый бумажный листок. Вернулась к столу. Протянула сыну. Тот пробежал глазами неряшливо отпечатанный текст, сложил вчетверо, сунул в карман рубашки.
— Вот что, сынку, — сказал отец. — Выбрось-ка ты эту бумажонку и тикай завтра к русским. Трошки гривен та рублив у нас есть, до границы и на первое время в России хватит. Мать завтра котомку соберёт — и топай ты отсель подальше.
— А как же вы? — встревожился Мыкола. Взглянул на мать, на её сухонькое испуганное лицо с большими синими глазами. — Вас же из-за меня затаскают.
— Да ладно! — отмахнулся отец. — Один раз, может, вызовут. Не знаем, где ты, — вот и весь разговор. Обязательно тебе надо тикать.
— Завтра, пожалуй, не получится, — покачал головой Мыкола. — С утра треба перегнать от Наталки мотоцикл. Потом с председателем надо побалакать насчёт комбайна. И вообще: можа, из-за жатвы отсрочку дадут. И главное — сына увидеть надо, попрощаться…
— Это правильно, — согласился отец. — А теперь пошли спать. Утро вечера мудренее.
Чай в тонких расписных чашках так и остыл.
Ночью Мыколе снова привиделся сон. Вначале он увидал огромное оранжевое солнце, которое, как парашют, опускалось далеко на горизонте. На несжатом поле шёл танковый бой. Один за другим загорались бронированные машины. От лязга металла и взрывов закладывало уши. Оседала на землю ржавая пыль. Пахло бензиновой гарью и обожжённой землёй. Потрескивая, высоким пламенем горела неубранная пшеница. В этом огне сложно было разобрать, где свои и где чужие. Башня его танка сотряслась от гигантского взрыва, и огненная волна с силой вышвырнула Мыколу из машины. Он лежал на израненном поле, оглушённый, побитый осколками, и у него не было сил даже шевельнуться. Он лежал и умирал…
А где-то рядом — смутно слышалось — как какой-то украинец матерился от боли на русском языке.
Мыкола чувствовал, как душа покидает его и поднимается к облакам. Прочь от этого сгоревшего танка с перевёрнутой башней, от этой выгоревшей дотла земли. И каким-то последним зрением он успел заметить, как на него двигаются огромные машины, и он не мог разобрать, были это комбайны из его мирной жизни или танки? Мыкола лежал, обняв землю, и на него сыпались пшеничные зёрна.
Потёртая контора бывшего колхоза ?Червона Украина? мало изменилась. Разве что вывеску сняли. Даже председатель остался тот же, правда, теперь он стал гендиректором агрофирмы. Впрочем, на селе его продолжали величать по старинке: пан председатель.
Был он плотным лысоватым мужичком с маленькими хитрыми глазками. Благодаря своей недюжинной изворотливости, председатель выжил в постсоветское время и хозяйство сохранил. Умел договариваться с ворами, себя не забывал, но и с работниками обращался по-человечески, с пониманием, так что крестьяне от него не бежали.
В кабинете пан Матвей встал навстречу Мыколе. Но за радушной улыбкой угадывалось плохо скрытое беспокойство. Мыкола понял, что дела его неважные, и на помощь рассчитывать здесь вряд ли придётся.
— Учётчица мне доложила, — опередил председатель. — С тридцати гектаров снял хлеб! Вот это жниво! Шофера только жаловались — еле за тобой поспевали. Всё было так хорошо — и н; тебе! Приехали эти ?братки? с автоматами да с повестками! Видел бы ты их рожи… Хотя ещё увидишь… Не знаю, что делать теперь: хоть сам за штурвал садись. По всему видать, погано нашему хозяйству будет… — Помолчал. — Ты это… за стариков не беспокойся. Твою зарплату всю до копеечки им отдадим. Да и вообще… будем всегда помогать. Вот дело-то какое!
Мыкола кашлянул в кулак.
— Спасибо вам, Матвей Тимофеевич. Я это… хотел спросить. Что мне дальше делать? Перегонять комбайн самому или это другие сделают?
Председатель отодвинул от себя бумаги.
— Да сами управимся. Хотя с кем теперь работать? Ведь, кроме тебя, забирают ещё Гриценко, Федюка и Нечипоренко. Яких хлопцев уводят, ёперный театр! Вы уж только возвращайтесь! — он моргнул глазами от нежданной слезы, чего раньше с ним не случалось, вышел из-за стола и обнял Мыколу. — Прости. Но помочь я вам, ребятки, ничем не могу. Такое заварилось.
Воздух уже окончательно расцвёл, раскрасив золотой полоской облака.
Мыкола шёл по битому сельскому асфальту, по голой щебёнке, и грустные яблони кланялись ему вслед. Он знал, куда сейчас идти. К сыну. Мысленно подбирал слова, которые должен сказать. На войне всё может случиться… А вот слова, которые он должен сказать сыну, — они навсегда останутся с ним, как бы ни сложилась его жизнь.
Оксана сидела в саду. Резала яблоки на варенье.
— Тю! Ты глянь, хто це появывся! — встретила она его с глумливым смешком.
В её словах была прежняя насмешка и даже злость.
— Чего сразу лаешься? Хотя бы в такой день поговорила бы по-человечески, — устало взглянул на неё Мыкола.
— Це нехай тебэ твоя учителка ласкае, а мы до ухаживания не звычны.
— Як же ж ты гарно по-украински размолвляешь! — усмехнулся Мыкола. — Краше моей училки, хоть она и природная западенка. Если бы мы с тобой не расстались, глядишь, и уроки литературы мне не пришлось бы брать.
Оксану это лишь больше разозлило. Встала, молвила с наигранным сочувствием:
— Як же ты, радяньский хлопчик, будешь воевать с ?колорадами?? Воны ж тоби, як свои!
— Чего это я радяньский хлопчик?
— Ну як же? Я ж памьятаю, с якою радистию носив ты червону тряпку на шыи! Аж червонный весь був…
— Носил, как все. Во всяком случае, я не был председателем пионерского звена, как некоторые, — отозвался Мыкола. — Видать, поморы тебя здорово воспитали.
Оксана открыла было рот, но тут же его сомкнула. Крыть ей было нечем.
На этом их разговор прервался. На голоса прибежал сын. Встал напротив — белобрысый, вихрастый, синеглазый — в бабкину породу. Мыкола опустился перед ним на колено, и мальчонка бросился к отцу в обьятия.
— Тато, а ты правда на вийну идэшь?
— Правда, сынок, правда. Но скоро там всё закончится. Перемирие объявили.
— Жалко… — Тарас сделал кислое лицо. — Я бы теж пишов воеваты! И всих цих сепаратистив перестриляв бы! Та-та-та, та-та, — захлёбываясь, застрекотал он, будто в его руках был настоящий автомат.
— Твоя работа? — глянул Мыкола на Оксану.
А та лишь подбоченилась гордо.
— Я настоящего украинца з него воспитаю! Не хочу, щоб зрастав холопом в своий батькивщини. З малых рокив трэба любиты ридну хату! А ну, Тарас, скажи батьки, чому ещё навчився?
Мальчишка отодвинулся от отца и, вытянув вперёд руку, крикнул:
— Слава Украини! Хто нэ скаче, той москаль! Москаляку на гиляку!
Отец обхватил его обеими руками и привлёк к себе. Придвинул лицо к лицу. Тарас ещё никогда не видел отцовских глаз так близко. И никогда не видел он в них такой боли.
— А ты знаешь, сынок, что батя твой — тоже москаль? Ты и его хочешь на гиляку?
Мальчишка в изумлении уставился на Мыколу, хлопая огромными глазищами. Ему стало жалко отца и хотелось плакать.
— Ты уже большой, Тарас. Не всё подряд нужно повторять, чему тебя учат во дворе… Запомни, сынок… лучше быть москалём…, чем скакать всю жизнь, как кузнечик. Ты сейчас многое не поймёшь, но когда ты вырастешь, ты обязательно вспомни наш разговор…
— Не дозволяю! — заорала Оксана и выхватила сына. — Не дозволяю! Збырайся звидси, поки я милицию не выклыкала! И николы до нас бильше не повертайся.
— Успокойся, жинка, — тихо ответил ей Мыкола. — Может, и не вернусь. Смерть — она ведь не выбирает. Хотя, если честно, что-то мне не очень хочется воевать за таких ?патриотов?. Ты вот портрет Шевченко повесила в красном углу вместо иконы, а до сих пор не поняла, что и Украину, и Шевченко надо в сердце иметь, а не картонкой на стену вешать. Прощай.
Оксана молчала.
На прощанье Мыкола не выдержал и напомнил:
— Видать, зря я тебя в детстве от пацанов защищал. Сколь волка ни корми, он всё равно в лес смотрит…
Когда Мыкола отворил калитку, то услышал тоненький голосок:
— Тато, не уходь!..
Но он лишь оглянулся в ответ и молча махнул рукой.
Он пришёл домой и всё рассказал отцу.
— Ну, и что теперь будешь делать? — дрогнувшим голосом спросил отец.
— Не знаю, батько, — признался Мыкола. — Но, скорее всего, сбегу при первой возможности. Может, в Россию, а может, и напрямую к ополченцам. Знаю точно: эту гниду надо уничтожать. И чем быстрей, тем лучше это будет для всех. Иначе столько от неё беды будет — никакими слезами не отмоешь.
— Вижу, добрый казак из тебя получился… Бунтует кровь в тебе… — низким голосом произнёс отец.
Помолчали. Отец спросил:
— Где ночевать-то будешь?
— С вами останусь. Можно, на сеновал полезу? Хочу надышаться родною травой. К Наталке завтра схожу. Впереди ещё два дня…
— Полезай. Жалко, что ли? Только ночь нынче уже холодная.
Мать принесла им горилки, кусок домашнего окорока и душистый чёрный хлеб. И до позднего вечера они сидели с отцом и вспоминали светлую прошлую жизнь…
Ночь над прикарпатским селом парила прохладным и светлым пологом. Босоногая луна расхаживала по небу, развешивая звёзды. Мыкола не торопился засыпать. Он вглядывался в расшитую серебряным бисером вышину и думал — долго ли ещё суждено ему смотреть на эту красоту? Наконец, хмель и усталость сделали своё дело, и сон сошёл на его веки.
Выспаться ему так и не удалось. Едва стало светать, двор наполнился чёрной гурьбой обкуренных ?братков? с эсэсовскими шевронами на рукавах. Его тут же стащили вниз.
— И чего нэ втик? — спросил черночубый и ударил его прикладом в живот. — Чому дружину свою обижаешь? Думав, на тебэ управы нэ знайдеться?
Мыкола выдержал удар, смолчал. Только прищуренные глаза его полыхнули скрытой яростью. Зашёл в дом, перекинул через плечо заготовленный с вечера вещмешок, молча, одним кивком, попрощался с родителями и перешагнул родной порог.
За калиткой стояли, понурясь, Гриценко, Федюк и Нечипоренко.
— От це добри вояки! — развеселился толстопузый бандеровец. — Слава Украини!
— Героям слава… — вяло ответили Гриценко, Федюк и Нечипоренко.
— Героям сало! — добавил в общий хор Мыкола, но его никто не понял.
?Оно и к лучшему, что так захватили, — думал он про себя. — Легче будет к ополченцам перейти. Ещё сочтёмся с вами, суки фашистские…?
Когда подошли к машине, он оглянулся. Три дома смотрели ему вслед.
Метки: