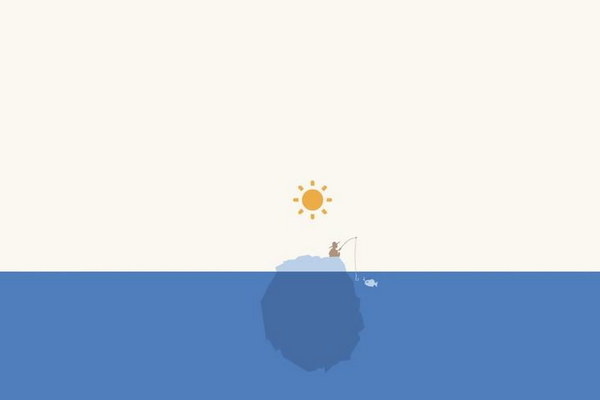Берег моей осени
С т и х и
Центрально-Черноземное книжное издательство
Воронеж – 1979
РАМОНЬ, Усманка, Ситников кордон… Эти дивные и вместе с тем знакомые и родные всем истинным воронежцам названия не случайно встречаются в стихах Виктора Панкратова. Отсюда, от тихой и несуетливой столицы детства, от отчего края поэта берут свое начало его дальние и не всегда солнечные тропы. Здесь – главный исток его доверительной, негромкой, но всегда убедительной поэзии.
Виктор Панкратов и в стихах не живет вне своей Родины, в отрыве от истории нашего Черноземного края, от его сегодняшнего дня. В родословной поэта – и первый воронежский коммунар, и боевые красные командиры, защищавшие родную землю в годы гражданской…
Зоркими глазами поэт видит и старые скифские курганы, и зеленые фонтаны берез, и такую почти неприметную малость, как ?…полынок, что у дороги стоит, коленопреклонен?.
Ну, а осень для Виктора Панкратова – не просто время года. Это своеобразный повод для глубоких и серьезных раздумий. За неброскими осенними нарядами поэту видится большой и искренний мир добра, света и нежности.
И ЗОЛОТОЙ
И МЕДНЫЙ
ЛИСТОПАД
Простор прозрачен и печален:
в нем –
дым отечества с полей,
и парус неба за плечами,
и берег осени моей.
И неурочная прохлада,
встревоженный грачиный грай,
шаманий шепот листопада
и солнца спелый каравай.
И ветра бег по косогору –
мне ничего не позабыть.
Как хорошо в такую пору
грустить,
надеяться,
любить.
*
Сентябрь наполнен тихой нежностью,
и в каждом дне неповторимом
он пахнет утреннею свежестью,
костров прибрежных сладким дымом.
Колодца сруб в зеленой плесени,
глухая стежка,
куст смородины –
все мило,
оттого и песенней
осознанное чувство родины.
*
Снова утро сторожат
в приболотье цапли.
На щеках моих
дрожат дождевые капли.
Ветер, марево рассей,
сникни в травостое.
Клин рыдающих гусей
в небо вбит пустое.
Цапли бродят по песку…
Гнев смени на милость,
чтобы в черную тоску
грусть не превратилась.
Видишь, разве я не прав:
жадно солнца просят
головы зеленых трав
в свете желтых просек.
*
И снова тучи, что это такое!
Предосени сварливые вожди –
они не оставляют нас в покое –
туманы, грозы, ливни и дожди.
Кто эту серость подарил рассвету?
Былого лета сожжены мосты.
Пускают вербы по воде и ветру
морщинистые узкие листы.
Грусть ожиданья в трубном крике лосьем
и в перещелке раннего клеста.
Печалится во мне чужая осень
сердцебиеньем каждого листа.
Я искренне люблю такую пору,
когда немного можно погрустить,
забыть обиду,
невниманье,
ссору
и с легким сердцем
все друзьям простить.
Когда заря займется и обрушит
на бархат трав хмельную тяжесть рос,
заполонит и растревожит душу –
не как-нибудь, не в шутку, а всерьез.
И если день табун дождей стреножит
на неукосах выцветших купав,
душа моя насытиться не сможет
святым и нежным перезвоном трав.
Нет у меня дороже талисмана –
щекой прильну к березовой коре…
В молочно-белой пелене тумана
растанцевался сумрак на заре.
*
В глазах цветов таится страх.
Тот самый страх, борясь с которым
бедует осень на буграх,
поросших корабельным бором.
Свищу бесхитростно дроздам.
В себе небеспричинно роюсь:
иду по собственным следам –
мне травы кланяются в пояс.
Судьба моя – плакун-трава!
От радости – не от печали –
светлеют на губах слова
сухими звонкими ночами.
*
Мне приметы осени
все видней, видней:
тают над покосами
свечи желтых дней.
Золотыми кладами
в дальний лес маня,
край мой листопадами
бередит меня.
Разинскими стругами
на рябой волне,
проводами-струнами,
радугой в окне.
Колыбельной тихою
песней над рекой,
спелою гречихою,
синевой донской.
Утренними росами
позднего жнивья…
Золотоволосая
Родина моя!
*
Зноем августа прогреты,
с шумных парковых аллей
в небо целятся ракеты
островерхих тополей.
Городскую эту участь
знаю вдоль и поперек.
Принимаю ив плакучесть
как заслуженный упрек.
От кастрюль и сковородок –
весь в сиреневом чаду –
К таинству рыбацких лодок
я, Рамонь, к тебе иду.
В потаенном тихом месте,
навсегда с собой сродня,
удостой высокой чести
недостойного меня.
Там, не внемля всем советам,
в тесный круг берез войду,
с тихой радостью я к светлым
их коленям припаду.
Свежесть самоочищенья!
Здесь все истины просты:
нет надежней ощущенья
глубины и высоты.
Верю в это постоянство.
Отражает облака
двуединое пространство –
небо и под ним река.
Север,
юг,
восток и запад…
Ноша у ветров легка –
сыростный и пряный запах
яблок, меда, молока.
Мне, теплынью налитое,
улыбается оно –
золотое,
золотое,
желтобокое зерно.
Блеклых листьев полуслово,
над речною синевой
пахнет остро и медово
только скошенной травой.
Любо-дорого слиянье
робких луговых ключей,
нестерпимое сиянье
солнечных прямых лучей.
Солнца тыквенная прОвись.
Сам себя вознаградя,
от жары легко укроюсь
под тугим зонтом дождя.
Вот он бьет, молотит круто
по плечам и по спине.
Будто лешим стал я,
будто
борода течет по мне.
Если так, то – сбыться чуду:
предрассветную зарю,
этот дождь,
росы остуду
всем я щедро раздарю.
Вот вам – ветки краснотала,
березняк,
в полях жнивье…
Все, что ты хранишь, - пропало,
все, что отдал, то твое!
*
Люблю волшбу осин осенних,
шуршанье крон над головой –
идешь, а лес вокруг усеян
листвой,
листвой,
листвой,
листвой…
Цветасто, весело и броско
нам осень выстлала пути,
и потому легко и просто
навстречу времени идти.
Кто любит лес –
легко в нем дышит.
Кто тонким слухом наделен,
тот обязательно услышит
над миром тихий перезвон.
Сентябрь опять по горло занят –
его поделкам нем цены:
он листья новые чеканит
на наковаленке луны.
Осень!..
*
Отпылали леса.
Снова сникла краса
обозначенных донником склонов.
Опустели сады.
В голубые пруды
уж не падают звездочки с кленов.
Лишь одни тополя
ловят всхлип журавля.
Торопись!
Этот миг проворонишь…
В мир некошеных трав
улетает журавль,
улетает журавль за Воронеж.
Я иным нынче стал –
на дорогах устал,
но лишь сделаю шаг от порога –
и поманит звезда
от крыльца,
от гнезда,
уведет и закрутит дорога.
Только как же вдали –
без гнезда,
без земли,
той, что нянчили деды в ладонях?..
Разве жить там смогу,
коль в душе берегу
скромный цвет моей родины –
донник!
*
Уж эти мне оранжевые кони!
Опять они над городом летят.
От злых ветров, от их лихой погони,
как от судьбы, уйти они хотят.
Я провожаю их тревожным взглядом:
мне видеть далеко не все равно,
что осень порыжелым листопадом
вот-вот перечеркнет мое окно.
Что на ветру – так весело,
так жарко –
пылает клен – оранжев, красен, желт.
И что над ним торжественно и ярко
сентябрь звезду последнюю сожжет.
Но отрешенно, строго и остыло
осознаешь, что это рвется нить,
та самая, дано которой было
все осень в одну соединить.
Мир для добра, тепла и света создан.
Листы в ладони бережно берешь,
и вспыхивают маленькие звезды,
согретые теплом твоих ладош.
*
Нынче мне и похвалиться нечем,
но нельзя Рамонь оставить в прошлом.
Не случайно ивняку на плечи
полушалок розовый наброшен.
Остывают утренние звезды.
Туго ветер натянул поводья,
сдерживая напряженный воздух,
мутный, как во время половодья.
Сазанов отчаянные всплески.
На откосы выползают раки.
Осень на притихшем перелеске
разбросала огненные знаки.
Помню, как над кронами дрожала
тишина.
И мы с тобой молчали.
Солнце, будто зарево пожара
заалело первыми лучами.
Теплым светом дереву любому
высушило мокрую рубашку.
Белое на смену голубому –
выкатились крупные ромашки.
Обожгла румяная зарница
камыши
и утонула в устье.
Верю я, что снова повторится
час рамонской предрассветной грусти.
*
Не соглашайся с пересудом,
все строго выверив, спеши,
чтоб слово, жившее под спудом,
проснулось в тайнике души…
Нет, это просто невозможно:
я сам себя не узнаю –
и говорю неосторожно,
неосторожно ем и пью.
Я ветром дорожу попутным,
черновики поспешно рву,
легко дышу сиюминутным,
своим сегодняшним живу.
Шагаю по листве опавшей
и несказанно видеть рад
пустой,
забытый,
одичавший,
разбредшийся по склону сад.
Опять ни шороха, ни хруста –
лишь обаянье тишины.
К чему таиться!
Все мы чувства
невыразимого полны.
Я снова вижу с грустью нежной
отслой березовой коры,
расстил гречихи белоснежной,
густого клевера ковры…
Он из ракитового ситца
так неожиданно возник –
тот мир, где каждый ствол страница –
мой изначальный черновик.
В лихие годы не разграблен,
укрыт шуршащею полой,
лес сохранен,
не обезглавлен,
не четвертован злой пилой.
Глядит зелеными зрачками
с извечным – быть или не быть?!
Вон над дубовыми торчками
жестоко вытянулась сныть.
И преданный своим заботам,
гуденьем наполняя высь,
миниатюрным вертолетом
над ней тяжелый шмель завись
Подернутые ряской блюдца.
Кричит болотная сова.
В глубинах серых отдаются
все позабытые слова.
Я знаю, ждут меня восходы,
готовят песни соловьи…
И верю,
верю я в свои
недокукованные годы.
*
Осенний заберег,
Осенний заберег
туманы заняли,
туманы замерли.
А небо низкое,
луна за тучами,
лишь звезды - искрами.
Леса задумчивы.
В них среднерусские –
так ладно скроены –
белеют блузками
березы стройные.
*
Тусклая полудь лиманов.
Листья осины красны.
Скифских высоких курганов
призрачны древние сны.
Залит простор первосветом,
в нем, не оставив следа,
словно задутая ветром,
тихо погасла звезда.
Сердцу немного осталось
сладких и сонных минут:
сумрака трепетный парус
всеми ветрами надут.
*
На хрустальном, хрупком стебле
я однажды догорю.
Дерева в ладонях степлют
мне последнюю зарю.
И еще не отделенный
от угаснувшего дня,
полыхнет костер зеленый,
повторив тебе – меня.
Отражусь тепло и честно
полумесяцем в пруду.
Загрустит над лесом песня.
Эхо стихнет.
Я уйду…
Я уйду светло и чисто
за предел, который крут.
Золотые лодки листьев
над землею проплывут.
Над скворешнями пустыми,
над прозрачностью стрекоз,
над отвесными, крутыми
колокольнями берез.
Не посульными речами
зазывать горазда Русь,
а горластыми ручьями:
их услышу и вернусь!
Возложу венками руки
на окружья теплых плеч –
неизбежностью разлуки
рождена возможность встреч.
*
Загадай звезду на завтра,
чтоб своим теплом согрела!
Осень кончилась внезапно,
будто спичка догорела.
Стихли птичьи разговоры.
Всех зима врасплох застала.
У ручья в болтливом горле
песня звонкая застряла.
От березы голоногой
ветром вьюжливым оторван,
над пустынною дорогой
бьет крылами черный ворон.
А снега заходят с тыла,
но в дозоре, где ложбина,
не погасла,
не остыла
раскаленная рябина.
*
Своих обыденных, наивных,
простых порывов не стыжусь.
Я вырос на хлебах, на ливнях,
лесами летними горжусь.
Мне так отчаянно хотелось
проститься, не вошла пока
пугливая осиротелость
в зеленый мир березняка,
в шеренги долговязых сосен,
в сень мудрых кряжистых дубрав.
Уже, закон времен поправ,
крадется по опушкам осень.
Прощается спокойно лето.
Его не гонят, не крадут –
само уходит, видно, где-то
другие с нетерпеньем ждут.
Прошла пора цветов и ягод,
солнцеворота
и дождей.
На землю огорченно лягут
пустые шляпки желудей.
Уйдет, торжественно одето,
как в дни своих былых побед,
еще одно большое лето,
во мне оставив
добрый след.
ЖУРАВЛИ
ВОСПОМИНАНИЙ
Сентябрь ожжет прохладой ранней,
наметит свой маршрут вчерне,
и журавли воспоминаний
вернутся поутру ко мне.
И острой памятью прошитый,
ответствен – я уж не кремень –
за каждый наново прожитый,
давным-давно ушедший день.
За эти давние тревоги,
за осиянный солнцем клен,
за полынок, что у дороги
стоит коленопреклонен.
За все надломы и надрубы,
что подружились с сединой,
за те
покинутые губы,
сейчас вспомянутые мной.
*
Не увидится, так приснится –
все, что дорого с детства мне:
вновь проворно снуют синицы,
стаду дремлется на стерне.
И стога, как большие коровы,
тяжело раздувают бока…
Медь кувшинок –
ну чем не короны! –
с места сдвинуть не может река.
Тих песчаный нетоптаный плес,
а в лесу – хороводы красавиц,
то, листвою земли не касаясь,
бьют фонтаны зеленых берез.
Ах, озерные синь-моря –
умывается в них заря!
*
Мне этот дом давно знаком.
Смеются окна – это значит,
что солнце снова босиком
по лужам, как мальчишка, скачет.
Веселых пчел высокий гул.
Дымы зависли коромыслом.
Там не обманут, не солгут,
где каждый день наполнен смыслом.
Полынь, гречиха и ревень,
незабываемые нами –
скупые лики деревень
с простыми диво-именами…
О память, ты меня не тронь,
лишь мягко прикоснись губами.
Как пахнет светлая Рамонь
росой, цветами и грибами!
Рамонь!..
*
Где березы водят хороводы
и грустит под ивами река,
в тихие задумчивые воды
осыпают перья облака.
Стелется тумана полотенце.
Бесподобен в простоте своей,
щелкнет
да как выкинет коленце
молодой веселый соловей.
Полон край лесной очарованья.
Почему же с нетерпеньем ждем
пору золотого вызреванья
перед ранним снегом и дождем?
Ждем – и снисходительны, и строги
к мысли,
слову,
даже к вещим снам, -
чтоб на грани счастья и тревоги
в силе чувств не ошибиться нам.
*
Не спешны, но могучи,
смирив полдневный зной,
сгущались злые тучи
над рощею сквозной.
Чего они нашли в ней?
И вот –
остры, сильны –
клинки звенящих ливней
уже занесены
над робостью осины,
над радостью берез…
Ударил гром
И синий
начался сенокос.
Но все дружней, упорней
свою ведут войну –
пускают крепче корни
деревья в глубину.
Тревожной, гулкой смуты
окончена пора.
Смеешься вновь кому ты,
омытая кора?
Невозвратимо светел,
прозрачен легкий день.
Не озорует ветер.
Капель стучит о пень,
о годовые кольца…
Замлев от красоты,
сороки ловят солнце
в разинутые рты.
*
За речкой в красе своей медной
поднялся до самых небес
дремучий,
густой,
заповедный –
то хвойный, то лиственный лес.
О, эти лесные делянки,
колючей боярки кусты!
Здесь с чайное блюдце белянки
торжественны и чисты.
Здесь ветер колышет мониста
листвы драгоценный узор,
и звездами гаснут листья
над синим покоем озер.
Осины в шершавых накрапах,
берез отраженных стволы
и с детства дурманящий запах
янтарной
сосновой смолы.
*
И опять двурогий
месяц рано выйдет,
на речной дороге
след копытом выбьет.
Высоко над нами,
над зарею юной
ветер бьет крылами
в голубятне лунной.
Он, как будто стрепет,
крыльями полощет,
ворошит и треплет
голубую рощу,
размывает тени,
ветви крутит лихо…
Бедная, в смятенье
стонет соловьиха.
В перья чистотела,
в сонные овраги
тычутся несмело,
бьют дождинки-шпаги.
*
Опушкой леса оторочен
во мраке Ситников кордон.
Лесной заслон высок и прочен,
легли на полушалок ночи
узоры многолистых крон.
Накрыл семью дерев корявых
ночной,
бездонный,
синий свод.
Луны оранжевый кораблик
меж звездных бакенов плывет.
По мшистому крутому склону,
свою затаптывая тень,
несет торжественно олень
рогов тяжелую корону.
Он буераком, за кордоном,
прошел в холодную купель,
и с гордых губ его
со звоном
бьет золотистая капель.
*
Здравствуй, дочь –
подснежник мой февральский!
Не сдержать сегодня этих слез:
белый-белый, очень важный аист
мне тебя, наверное, принес.
Здравствуй, дочь,
ты – свет в моем оконце!
Получи в наследство добрый нрав,
речку,
небо,
золотое солнце,
мир цветов
и королевство трав.
*
Серебрятся, словно перстни,
листья тонких ив.
Колыбельной тихой песни
слышится мотив.
Ветер прошуршал и замер,
прекратил игру.
Кошка с лунными глазами
бродит по двору.
Догрызают звезды-мыши
ломтик сыра свой.
Ночь осыпала все крыши
желтой чешуей.
Снятся сны большим и малым.
Сладко спят дома.
Скоро с теплым одеялом
к ним придет зима.
*
О девочка –
волшебное перо!
Будь для меня
звонкоголосым маем.
Твой смех –
моя весенняя пора.
У нас с тобой
особая игра.
И мы давно
отлично понимаем,
что нет на свете
худа
без добра.
*
Какая степь!
На сковородке полдня,
на солнцепеке самом я лежу,
за истиной сюда я прихожу,
хочу ее увидеть и запомнить.
Здесь щедро льется неба бирюза,
закончив круг, устало чертит новый
неспешный коршун, выклевать готовый
ромашкам откровенные глаза.
Добра и зла провижу я истоки,
и мне понятен тот подспудный страх,
что люди – только продолженье трав…
Увы, всему так быстротечны сроки!
Недолго травам зеленеть и длиться.
Благословен простых прозрений миг,
в который неожиданно постиг,
что и травинке можно удивиться.
Цветы и листья,
люди и трава.
Земля своим нас разносолом кормит,
она в себе лелеет наши корни,
и у нее на нас – свои права.
В календаре все меньше, меньше дней,
но я судьбу подобную приемлю.
Никто из нас не покидает землю –
мы прорастаем звездами над ней.
МОЛЧАНИЕ
Опять проскачет листопадов конница,
и первый снег на землю упадет,
и снова осень давняя припомнится,
припомнится тот сорок первый год.
…Какой туман!
Он пахнет, как антоновка
в том довоенном бабкином саду.
С тяжелой домодельною котомкою
я к пристани за взрослыми иду.
Визжат колеса.
Кони измочалены.
Дымится за кюветами стерня.
А впереди – мешки, баулы, чайники.
И мать боится потерять меня.
И я смотрю глазами удивленными,
мне кажется, земля уже не та:
все меньше голубого и зеленого,
лишь черные и красные цвета.
Черна вода – зеленою была она.
Алеет день – а был он голубым.
И солнца нет – одно пятно багряное
летит,
летит,
летит сквозь черный дым!
Летит, врезаясь в дым
краями рваными,
и безутешно смотрит с высоты
на нас
и на красноармейцев раненых,
на темные корявые бинты.
Течет река, тяжелая. небыстрая,
долбит сапер у сходен топором.
И вот к скрипучей деревенской пристани
причаливает медленный паром.
И, отпихнув безусого начальника,
от суматохи яростны и злы,
кричали бабы:
- Поскорей отчаливай! –
и обнимали потные узлы.
А надо всеми плачами, над руганью,
над сутолокой беженской – вперед
в резиновых,
в охотничьих,
с раструбами –
широкомордый мужичище прет.
Нет, он не прет. Разбухшею корягою
врезается в людской водоворот,
и на меня – позванивая флягою –
победно надвигается живот.
Я не кричу – и отступаю молча я
и падаю – куда, не знаю сам,
и падаю – и белизна молочная
ударила, стегнула по глазам.
Мне помнится: из пустоты, из марева,
из заново родившегося дня
возникли вдруг лицо
в повязке марлевой
и руки, приподнявшие меня.
То был солдат.
Его повязка бурая,
казалось, очень белою была.
Смеялся он:
- Ну что, пацан, нахмурился?
Плохи, видать, подводные дела!
И к этому мордастому,
с раструбами
они пошли – бинты, бинты, бинты –
солдатскими, тяжелыми и трудными,
шагами неизбежной правоты.
И тот застыл. Оторопел. Попятился
и оглянулся: за спиной – река,
а впереди – лишь ненависть…
И пятнами
пошла его угрявая щека.
Молчал паром,
катились волны тусклые,
и бакены качались на мели,
две бабы, истомленные и грустные,
слепого парня берегом вели.
А у перил подлец стоял растерянный,
стоял, поклажу теребил свою.
Глазами весь паром его расстреливал,
расстреливал, как недруга в бою.
И он бежал рыбацкими причалами,
где между кольев жухлая трава.
. . . . . . . . .
Так я впервые понял, что молчание
сильнее, чем жестокие слова.
*
Где трепет Вечного огня,
там раньше поле боя было, -
в себе и жизнь и смерть храня,
оно поры той не забыло.
На парапете не цветы –
то наши горькие утраты.
И не меняют, как солдаты,
березы бурые бинты.
О поле, поле!.. Но оно
молчит, тревожно вспоминая:
шли танки, грузно подминая
под траки спелое зерно.
Своим безмолвием кричит,
напоминает поле боя
о тех, кто жертвовал собою…
Не с тех ли пор полынь горчит?!
?О поле поле…? - тем словам
и мужеству
мы цену знаем,
и сами с болью вспоминаем
последний день, что выпал вам
в боях за каждый метр высот,
за метр дороги,
за Воронеж…
Ты в памяти не похоронишь
того, кто свято в ней живет.
Закинул голову солдат.
Он видит звезды в небе раннем…
Нет, он не умер, только ранен.
Он будет жить, мой старший брат,
в глазах ромашки полевой,
в березах,
что подняли кроны,
раскинули наряд зеленый –
шумят печальною листвой
над телом каменным бойца
и над цементным автоматом.
Солдат тот для меня был братом,
иной в нем узнает отца.
Стою у вечного огня.
На камне – имена и даты:
сороковых годов солдаты
от пули здесь спасли меня.
Верны мы делу одному.
Нет у меня важней заботы –
вот эти метры и высоты
не уступлю я никому!
СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ
Матери времен былой войны,
грозовые вас тревожат сны.
Каждый сон, как бой, и в том бою
за родную сторону свою
молодые парни полегли
на откосах выжженной земли.
Матери времен былой войны,
пусть другие к вам приходят сны.
Там, где ваши падали сыны,
к небу корпуса вознесены.
Навсегда с пристрелянных высот
жесткий отступил огневорот.
В контурах сегодняшнего дня
будущего видится броня.
И другие празднуют сыны
молодое торжество страны,
радуются солнечному дню…
Нет покоя Вечному огню.
Матери, ваша память священна!
*
Мир остывших метелей
не по-снежному гулок.
Слышишь, кони влетели
в твой родной переулок.
Зимним двориком, к сенцам –
мчатся поэскадронно…
Раны вспомнило сердце
и бои под Касторной.
Нет, оно не устало
помнить всех поименно.
А на улице ало
полыхают знамена.
И летит над тачанкой
сквозь бескровные губы:
- Не лечите тройчаткой –
пусть меня лечат трубы…
Конармейской прострелянной,
звончатой песне
неуютно в постели
и в плюшевом кресле.
Может, это и странно,
только – вовсе не плохо:
под окном ветерана
громыхает эпоха.
Вновь тревожит мотивом
песня, что не допета…
Вместе с бывшим комбригом
Ленин смотрит с портрета.
*
Кто знал, что миг земной орбиты
два цвета так соединит:
черны здесь лабрадора плиты,
но красен,
красен здесь гранит.
О ясность линий Мавзолея,
ты проще и сердечней слов!..
Стена кремлевская.
За нею –
жара высоких куполов.
Есть вечность сдержанных мгновений
и вечность и мгновенность строк,
и этот, вздувшийся на вене,
лишенный пульса бугорок.
Но он в себя вмещает страны.
Он – как Магнитная гора.
К нему сошлись меридианы
высокой Правды и Добра.
*
В осеннюю глухую борозду
уронит ночь высокую звезду.
Прочертит путь последний свой она
и будет навсегда погребена
под черным сводом,
под пластом земли,
с которой ввысь стартуют корабли,
чтобы случайно не оборвалась
со звездным миром
родственная связь.
*
Нам чувство тревоги знакомо,
когда – добела горячи –
над гулкой плитой космодрома
схлестнутся лучи, как мечи.
Когда на решетке антенны
замрет, напряженья полна,
вобравшая блики и тени
предстартовая тишина.
Ещё отдадутся не скоро
последней команды слова.
Еще на лице монитора
секунда земная жива.
Проверен отсек командиром,
и, словно тугая струна,
она оборвется над миром –
предстартовая тишина.
Покой будет надолго взорван.
Не твой ли ровесник вдали,
за тысячами горизонтов,
почувствует силу Земли?
…Печали забыв и обиды,
сверяет маршрут корабля
громадное сердце орбиты –
обжитая нами Земля.
И ловят тревожные блики
высоких, заоблачных гроз
рассветные длинные лики
российских печальных берез.
*
Е. Исаеву
А какова у дерева душа?
Пожалуй,
от моей неотличима –
и этому одна первопричина.
Да что у дерева!
У камыша,
у облака,
парящего над пашней,
над лугом,
над пожухлою травой,
у этой высохшей,
пускай вчерашней,
последней самой капли дождевой.
У всей земли, что посреди и сбоку.
И хоть она невидима –
душа,
взойдешь на взгорок,
к солнышку,
к припеку,
осмотришься и ахнешь:
- Хороша!
*
Губы мои солоны.
Море, я полон тобой.
В бубен высокой луны
бьёт крутолобый прибой.
Встреча с тобой далека.
Память моя, оглянись –
строгим лучом маяка
заново выхвачен пирс.
Тихую радость сполна
передоверив судьбе,
словно большая волна,
я возвращаюсь к тебе.
Силой меня не держи.
Море, верни мне покой.
Слышишь, как грустно стрижи
снова кричат над рекой.
В свете Полярной звезды
чувством своим овладей.
…Море смывает следы.
Море не помнит людей.
*
Под ярким солнцем заблистала
с утра надраенная медь.
Ей только день всего гореть,
наутро – снова ждать аврала.
Ничем себе не докучаю.
Жду неожиданной строки.
Я по глазам твоим скучаю,
по зыбкому теплу руки.
Вкус терпких губ, глаза и руки –
любви связующую нить –
мы начинаем лишь в разлуке
по-настоящему ценить.
Ничем себе не докучаю,
слежу как в стылой тишине
кривые бумеранги чаек
вновь возвращаются ко мне.
*
Наплывает, дымчато клубится,
золотыми перьями горит –
облако, как сказочная птица,
над волнами пенными парит.
Верен бескозырке и бушлату,
провожаю взглядом корабли.
По прямому, как проспект, закату
потянулись в небе журавли.
Сердце захолонет и остынет
так и не взорвавшейся строкой.
Мама, мама,
вспоминай о сыне,
в море день березовый такой!
Над зеленой шевелюрой где-то
щеголяет месяц молодой
и грустит по-стариковски лето
в август запрокинутой звездой.
Там, где тихий Дон берет начало,
где берут отсчет мои года,
сколько разных песен нажурчала
полая, веселая вода.
Этим песням не вернуться боле,
новая чапурою* кружит…
На капустном, опустевшем поле
пугало от холода дрожит.
Туча отстрелялась дальним громом.
Радостно мне стало и светло:
накрепко меня связало с домом
одноцветной радуги крыло.
?Чапура – местная цапля
*
Итак, швартовы отданы.
Идем, с ветрами споря.
Теперь я верноподданный
Воронежского моря.
И ощутить мне хочется
себя самими собою,
прозрачность одиночества
под бездной голубою.
*
Рамонь! Рамонь!
Тебя в себе храню.
И то, что есть, и то,
что раньше было,
история в одно соединила
и подарила нынешнему дню.
Я рассказать о новом
не берусь,
но так близки мне эти перемены –
воздетые над крышами антенны…
Моя земля,
моя родная Русь!
Приемлю знаки твоего прощенья.
Опять я вижу вязы и дубы –
завидней, право,
в жизни нет судьбы
сполна изведать
счастье возвращенья.
Отринуть все
и лишь в конце пути
вдруг осознать:
тебе уже – не двадцать,
одеться проще,
к озеру пройти
и улыбнуться,
чтоб не разрыдаться.
*
Прабабки с пыльными платками,
с пергаментом бесстрастных лиц,
мы все в большом долгу пред вами
за вспышки трепетных зарниц,
за красоту родного края,
за русскую простую речь…
Мне даже жаль, что нету рая,
чтоб можно было вас сберечь.
*
Ценю обыденность во всем:
и в дни забот, и в час веселья,
в круговороте новоселья,
когда друзья стучатся в дом.
Я одинаково люблю
и праздники,
и просто будни,
и лета ясные полудни,
мороз, когда дрова рублю.
Чужда мне лжи и слова связь,
но целомудренную нежность
приемлю, словно неизбежность,
при этом чище становясь.
Мои обычаи просты –
не изменю ни им, ни другу,
ни солнца радужному кругу.
Я так смогу прожить.
А ты?
*
Я знаю, обоюдно страшен
рассудка тягостный навет.
Костер в лесу давно погашен –
ни отсвета, ни бликов нет.
Но есть тепла воспоминанье.
И есть – превыше снов и слов –
сознанье дерзкого слиянья
двух звезд,
двух песен,
двух миров.
Когда, безжалостно остра,
беда перечеркнет твой вечер,
не забывай,
что греет вечно
тепло угасшего костра!..
*
В сквере зябнет пустая скамья.
Перед ней опущусь на колени.
Легковерная память моя
заблудилась в душистой сирени.
До конца мне допела струна.
Отведу запоздалые руки,
чтобы выпить до самого дна
эту тихую горечь разлуки.
*
На исходе рассветных
и прощальных минут
своевольные ветры
листья желтые мнут.
Глаз твоих избегая,
рву последнюю нить:
- Ты меня, дорогая,
не смогла полонить…
Ухожу, не прощаясь,
по причине пустой,
чтоб щемящая жалость
не шепнула: ?Постой!?
И бреду на рассвете
по дороге другой.
Звезды к месяцу в сети
заплывают дугой.
Ты перечить не стала.
О, ошибок игра!
Видно, снова настала
отчужденья пора.
Я твержу себе:
- Прежде,
чем уйти, -
оглянись!
Как обрывки надежды,
листья падают вниз.
*
Простуженно, без интереса
вдруг свиснет одиноко птица.
Январь в пустых глазницах леса
уже который день таится.
Пока зима еще не в силах
подкрасться к веткам огрубелым
и густота полей остылых
не стала откровеньем белым.
Не скоро жизнь погаснет в кронах,
мороз стволы дерев иссушит.
Лишь первый мой сердечный промах
меня отчаяньем оглушит.
*
Ну скажи мне, как не быть поэтом
в пустоте размолвки, той, когда
вспыхивает острым синим светом
в небе одинокая звезда.
Так бывает.
Не ищи причину,
кто кого обидел сгоряча,
кто поднес горящую лучину
к основанью звездного луча.
Чьи неосторожные наветы
стали отчужденья полосой –
наплывают влажные рассветы
со студеной едкою росой.
Неужели помнить нам об этом
и пустых упреков не забыть?
В этот раз не надо быть поэтом,
надо просто солнечнее быть.
День придет.
Звезда тоски растает,
и, как прежде, улыбнешься ты.
Видишь, алым маком прорастает
солнце небывалой красоты.
Груз обид тебя не потревожит:
я зову, и ты меня зови –
ведь не может человек,
не может
без тепла,
без ласки,
без любви.
*
Потерянная, жалкая Жар-птица.
Излом крыла, но что мне толку в том:
пускай любовь моя тебе простится,
ответь мне светом, лаской и теплом.
Нет, я не верю
в безысходность судеб –
вновь загорится радуга в окне.
Порой друг друга мы
так строго судим,
не признаваясь в собственной вине.
В последний раз –
без слов,
без слез,
без муки, -
как в полусонном и пустом пылу,
усталые, доверчивые руки
я к золотому протяну крылу.
*
Мне стекла кажутся морями,
где волн седых строптивый взмет.
Тот хрупкий мир в оконной раме
вдруг потемнеет
и возьмет
в объятья ветра чистый парус
любви,
надежды
и мечты…
Я с ветром дружен, ну а ты –
одна на берегу осталась.
*
Лежит тяжелая, отважная –
не смог осилить суховей –
земля лиловая и влажная
в спокойной наготе своей.
В природе все уравновешено,
во всем оправданный расчет:
одна река клокочет бешено,
другая медленно течет.
Но вот проснется утро росное,
стрельнет усами ячменя,
все суетное,
все наносное
уйдет неспешно от меня.
Отступит злая непогодица.
И реки мутные – чисты,
когда вдруг вспомню,
что возводятся
с обоих берегов мосты.
*
Кто говорит, что нет сухой воды?
А вечные, нетающие льды?
Не отрицай, достоинство храня,
что в мире нет холодного огня.
Гляди, как смело тянется рука
к нему –
к огню лесного светляка.
Все есть на свете –
даже черный свет…
Сухой, холодной, черной дружбы нет!
*
Н.П.
Бывает – подлость рядом ходит…
Она влезает в ловкий стих,
порой друзей себе находит
среди товарищей моих.
Она подходит с ними вместе
и панибратски руку жмет,
не может обойтись без лести,
без клеветы,
без тонкой мести,
своей минуты долго ждет.
Нет, подлость отличить не просто –
смиренный тон, приличный вид, -
она, играя в благородство,
свои намеренья таит.
Разнообразна, многолика
и в двоедушье не нова –
докажет с криком и без крика
свои неправые права.
Когда ей нужно – терпелива,
на скорый суд всегда быстра,
извечной трусости сестра,
о до чего ж она труслива!
Ей раствориться удается
в овале тусклого лица,
и не всегда распознается,
увы, улыбка подлеца.
*
Я с топором по рощам не ходил
и лесогубом, слава богу, не был,
и не люблю любую слушать небыль
из уст лучковых крепкозубых пил.
Мелькают пилы, яростно звеня,
и лишь когда наговорятся вдосталь,
дрожа от возбуждения, на доски
они ложатся на исходе дня.
И тихого раскаянья полны,
железными боками остывают,
а в небе облака все тают, тают,
все ярче предвечерний блик луны.
Не спится пилам.
Нет, они не спят, -
раскинулись тревожно и устало,
и росы, словно слезы, запоздало
на пилах обессиленных блестят.
*
Звезды мои падучие,
ваша редеет рать.
Кем же вы так подучены
наспех дотла сгорать?!
Краткие ли мгновения
эти всему виной:
вот и стихотворения –
вспыхнут…
и в мир иной.
Звезды мои падучие,
ваша редеет рать.
Строчки, что ночью мучали,
без сожаленья трать.
Вечность они не прочили:
хоть на единый миг
пусть золотые прочерки
будут
в зрачках твоих.
*
Нам лгут кривые зеркала,
а мы на грани искушенья
все ловим знаки утешенья
в слепящей плоскости стекла.
И вот, когда надежды нет,
так целомудренно и чисто –
как жизнь в угаснувшие листья –
минувшего вернется свет.
Наивная, святая ложь –
истоки вечного движенья.
Но ты поверишь в продолженье
своей любви и вдруг поймешь:
опережая бег минут,
кривые зеркала не лгут!..
*
Сколько раз, увы, мою весну
журавли на крыльях уносили.
Сколько раз подснежники в лесу
для меня цвели в моей России.
Ландыши звенели по утрам
и в траве алела костяника…
Ветки мне, ольшаник, протяни-ка,
поклонись со мной земно ветрам,
облакам,
речным затокам,
пущам,
на юру продрогшим ветрякам,
поклонись ушедшим и живущим
на земле степенным старикам.
Пусть весны бунтующие соки
много раз еще пьянят меня…
К караванам облаков высоких
тянутся упруго зеленя.
*
Прохлынули апрельские лучи
на веси, на лобастые пригорки.
В разлогих балках верткие ручьи
взахлеб несут свои скороговорки.
Ручьи спешат, бегут к большой воде.
Бьют в барабаны вешние капели.
На прошлогоднем смерзшемся скирде
хлопочут воробьиные артели.
Становится с приходом долгих дней
бездонней небо и ясней погода.
Как много значишь ты в судьбе моей,
нелживая
российская природа.
ИЗ ЧУВАШСКОЙ ПОЭЗИИ
А. ГАЛКИН
* * *
Когда же на земле был мир спокойным?
Пожар жестокосердый не утих:
и вновь, и вновь,
как дань огню и войнам,
текут ручьи невинных слез людских.
Текут, текут…
Заполоняют страны.
Слезами переполнены сполна
сама земля, моря и океаны.
Не потому ль вода в них солона?
В ДЕТСТВО ИДУ
Сорма-речка. Синь сквозная.
Вновь
вижу каменистое я донце.
Нет на небе белых облаков –
облака растаяли от солнца.
Без отцов на Сорме мы росли,
ветру и дождю друзьями были.
Волны нас качали и несли…
Здесь мы крепли,
в люди выходили.
Нам, мальчишкам тех крутых времен,
светят и доныне эти воды.
Пересохший берег иссечен,
как ладони в трудные те годы.
Но не потерялись,
все видны
сети троп – мальчишьих наших улиц, -
тех, где дети лиха и войны
к солнцу,
словно к яблоку, тянулись.
Детства босоногая страна.
Мы в нее в любое время выйдем –
ведь на то и память нам дана…
Вновь своих любимых имена
на березах постаревших видим.
Детства дни, его приметы все
видятся нам зорче с каждым годом.
Через травы в утренней росе
вновь ручьи к твоим стремятся водам.
Сорма светлая.
Они звенят…
Музыка моих родных околиц.
Будто у пасущихся телят,
что ни шаг,
то – звон от колоколец.
И вот в этих памятных местах –
вы, друзья, не относитесь строже –
мне любой невзрачный самый птах
городского голубя дороже.
Годы, годы…
Трудные пути…
Положу конец ненужным спорам:
не туристом довелось пройти
вот по этим солнечным просторам.
Мне земля свой щедрый разносол
поднесет в шатре под ситцем синим.
Сяду снова за дубовый стол
дорогим и долгожданным сыном.
Тропы детства!
Вечно с вами я.
Вновь иду к реке светло и чисто.
Сторона родимая моя
от улыбки солнечной лучится.
С чувашского
ВЫСОКОЙ
СТРАСТИ
ВОЛШЕБСТВО
Сентябрь развесил облака.
Трещат в рябиннике сороки,
что медленно приходят строки:
все – как последняя строка.
Прозрачна осень и тиха,
но вот прихлынет ниоткуда
и поведет меня остуда
к незавершенности стиха.
Светла и светом весела,
ах, эта осень,
эта осень –
свой лист мне,
как перчатку бросил
осенний клен на край стола.
*
Не прорастет забвения трава
на книжных ослепительных страницах,
где оживают краски и слова…
Как я хотел бы в пояс поклониться
тому, кто с книгой был
в прямом родстве,
одаривал ее богатством знаний.
Нет, не расти забвения траве,
а пышно цвесть траве воспоминаний.
Мы будем помнить поименно всех,
всех поименно, и никак иначе, -
особо титулованных и тех,
кто даже нонпарелью не означен.
Кто не жалел для матрицы свинца,
кто типографским
предан был заботам…
Вы слышите, как бьются их сердца
под каждым новым
книжным переплетом?!
*
Мы привыкли трудиться
день и ночь напролет.
За окном синь-синица
звонко песни поет.
Любовался, бывало,
клавиш дробной игрой –
ты меня поправляла,
ошибалась порой.
Всем служила прилежно,
постарела – звенит,
и хозяин твой прежний
стал давно знаменит.
Отдадим – позабудем,
все уйдет далеко.
Как с вещами мы, люди,
расстаемся легко.
Бьют снежинки-смешинки
с любопытством в окно:
- Юбилей у машинки.
Это ж надо?!
Смешно…
*
Серебро подарено вискам.
Есть на все особые приметы:
годы узнаем по волоскам,
острый ум по точности совета.
Долог день без щедрого труда.
Ночь без сна и вовсе бесконечна.
Яркой книге рады мы всегда,
ложь строки – ущербна и увечна.
И, листая мудрые тома,
дивного полны мы озаренья:
искренность писателя сама –
наше откровенье и горенье.
Юность машет нам с седых страниц,
будит стародавние желанья,
и колосьями ложатся ниц
легкие ее воспоминанья.
Явью молодою жизнь полна.
Разве вот что только седина!
*
А.А. Сидорову
Негаснущим светильником в ночи
торжественно сияют наши книги.
В них места нет ни козни,
ни интриге, -
добро и правду нам несут лучи.
Богат шрифтами книжный разворот,
торчит закладка из другого тома…
И легкая, давнишняя истома
уже в объятья нежные берет.
Прекрасны чувства эти и сильны.
Вторгаясь в полусон немой квартиры,
дыханье книг и звучный трепет лиры
полночной не нарушат тишины.
*
Я живу с Кольцовским сквером рядом –
рядом с золотистым листопадом.
Рядом с кленом в желтой тюбетейке,
с чьим-то вздохом на пустой скамейке.
Рядом с грустью,
с разделенным счастьем,
с солнечной погодой и ненастьем.
На газонах листья стыло мокнут,
тихий свет в моих дробится окнах.
Строгий бюст – поэт, потупив очи,
выхвачен прожектором из ночи.
Видно, снова не дает покоя
вечер недописанной строкою.
Я живу с Кольцовским сквером рядом –
рядом с золотистым листопадом,
где трепещут на губах у веток
имена воронежских поэтов.
И звонка, неистребима осыпь –
Алексей,
Иван,
Кондратий,
Осип…
*
У каждого есть, наверно,
заветная книжка детства.
Она нас в большой и светлый,
неведомый мир ввела.
Я счастлив, что встретился с нею,
что мне никуда не деться
от книги, которая в жизни
попутчицей верной была.
Она мой друг и советчик –
мы стали давно друзьями.
Мне нравится этой книжки
простой немудреный стиль.
Живут на ее страницах
всегда добродушный Ламме,
на выдумки неистощимый
веселый бродяга Тиль.
А где-то в далеком Чили
надсадно ревет сирена,
зловеще костры пылают,
уносятся искры ввысь…
Тома превращаются в пепел,
но память – она нетленна,
душа у книги бессмертна:
в огне не сгорает мысль.
Бессильно жадное пламя
героев отнять у мира:
они нас по-прежнему учат
свободой своей дорожить.
И снова взывает к мести
бесстрашный Тиль Уленшпигель,
людей научивший правде,
меня научивший жить.
---По осени к нам приходят
веселые листопады.
Становится все щедрее
свечение русских берез.
А в Чили ревут сирены,
ведет патриотов отряды,
за книгу, за правое дело
сражается храбрый гёз.
*
О. Ласунскому
Библиофилы!
Дон-Кихоты века –
им не грозит бездействия покой –
выходят в поиск ради человека,
отмеченного книжною строкой.
И не бывает легкою дорога
к сокровищам полуистлевших книг:
встречается на ней порою много
пустопорожних мельниц ветряных.
Кто сломит их?
Какая зреет сила
в круговороте мыслей,
споров,
слов?
Лишь карандаш в руках библиофила
к предназначенью этому готов.
Бесхитростным своим победам рады –
добытчики золотоносных руд –
не требуют ни славы, ни награды
за свой высокий, бескорыстный труд.
Огню таланта, а не мгле забвенья
сродни библиофильские сердца.
Они стучат во имя вдохновенья,
во славу КНИГИ,
в честь ее творца!
,*
Полированной смолки
краснота затекла.
Прогибаются полки –
не подвинуть стекла.
Время к книгам все строже:
постарели уже
переплеты из кожи
и бумага верже.
Счастлив тот, кто в развалах
букинистов знавал,
в полутемных подвалах
видел книжный навал.
В прошлом стоило рыться,
верить призрачным снам,
чтоб смогло сохраниться
все, что дорого нам.
Блики солнечных зайцев,
переплясы зарниц,
трепет чувственных пальцев,
тихий шорох страниц,
радость стиля и слога…
Дом без книги убог.
Кто сказал, нету бога?
К н и г а -
светлый наш бог!
*
То послушный он и тихий,
то он чрезвычайно смел –
по линолеуму штихель –
так ходил, как будто пел.
Мастер правил песню стали:
у него из-под руки
удивленно прорастали
тонких стружек языки.
Грифа тень.
Изломы линий.
Штихель вычертил луну.
Как маэстро Паганини,
ветер трогает струну.
Улыбается, кивает,
доброй зависти полна,
в синий омут уплывает
полнощекая луна…
*
О, до чего мудра и многолика
экслибриса чудесная страна,
но журавли пронзительного клика
не принесут в нее…
Живет она
другой,
особой жизнью в человеке –
без суеты и лишней похвалы.
Границы книги и библиотеки
становятся экслибрису малы.
Уходят в необъятные просторы
кораблики таланта и труда.
Мы, люди, на свои сужденья скоры:
нет-нет и ошибемся иногда.
А где-то мастер,
не привычный к лести,
в кругу забот и повседневных дел
о книжном знаке
добрых ждет известий,
как самый настоящий корабел.
*
Экзотика странного мира
крадется непрошено в стих…
Себе сотворили кумира
любители таинства книг –
из звезд черно-белых и лилий,
богатства стремительных линий,
разумной симметрии их.
Игрою загадочных пятен,
символикой знак нам понятен.
*
Экслибриса листок белесый,
несущий четкий силуэт…
Да, это он – звонкоголосый
твой сын, Россия, твой поэт.
Дуэльных пистолетов пара
в сюжет графический легла
на фоне траурном чехла.
…Того смертельного удара
ничья рука не отвела.
Зрачком предательским отмечен,
и… поглотила пелена.
Но жив он, весел и беспечен
на книжных знаках Кузьмина.
Еще нас не тревожит память
посмертной мраморной плиты –
над Пушкиным кружится замять
в офорте легком Калиты.
Поэта в зыбком свете свечки
штрихи фроловские вернут,
как будто там,
у Черной речки,
тех черных не было минут.
Художникам небезразличен
высокий взлет его стиха –
поэт навеки возвеличен
союзом лиры и штриха.
В экслибрисах неодинаков,
как и в его черновиках…
В бессмертье верю книжных знаков,
хранящих Пушкина
в веках!
*
Мы всегда вспоминаем
полотна Сарьяна,
будто добрые-добрые детские сны,
потому что родные края постоянно
самых ярких сарьяновских красок
полны.
Мы весной вспоминаем полотна Сарьяна
в пору первых подснежников,
в пору, когда
на косых парусах голубого тумана
ноздреватые льдины уносит вода.
Вспоминаем мы летом
полотна Сарьяна.
Лето в тихом бору
нам оставило след –
раструсило оно
по брусничным полянам,
словно сено,
свой теплый,
свой солнечный свет.
Осень – мы вспоминаем
полотна Сарьяна.
Стали гуще пласты черноземной земли,
на флагштоках стволов
листья рдеют багряно,
улетают к Сарьяну от нас журавли.
*
Как ходики, заведено,
с завидным постоянством,
кует,
кует мне жизнь оно
в зареберном пространстве.
Оно стучит – но вот беда! –
настойчивое слишком,
оно нигде и никогда
не просит передышки.
А вдруг случится что в пути,
и стихнут молоточки –
дай, сердце, песню довести
мне до последней точки.
*
Веселый деревянный Буратино,
извечно буду у тебя в долгу:
плывет,
плывет по небу бригантина,
а я оставить землю не могу.
Здесь угловато громоздятся краны,
алеют флаги,
колосится рожь.
Малыш из книжки – ты же деревянный,
и никогда меня ты не поймешь.
Придет черед –
я поднимусь пшеницей,
паду росой и у дорог в кольце
останусь песней,
звонкогорлой птицей,
скупой слезою на родном лице.
*
И з А н т а н а с а Д р и л и н г и
ПОЧЕМУ УМЕР КОРОЛЬ
(Баллада)
Из колодца глубин вселенских,
с неведомого созвездия
раз спустилась легко на землю
с золотыми крылами птица.
Земляне, собравшись, ахали.
Удивлялись и восхищались
все земные края прилету
посланца золотозвездного.
И когда приземлилась птица, -
на высокое дерево села
и, длинную шею вытянув,
вдруг открыла свой клюв блестящий.
И запела она красиво.
Никто на земле не пел еще
подобно неведомой гостье,
что чудесную песнь дарила,
сама наслаждаясь пением,
выплетая венок свой звонкий.
И дрожал напряженно воздух,
и люди с великой радостью
этой песне внимали чутко.
И она в их сердцах забилась.
От радости люди плакали.
Ну, а птица – все пела, пела…
Мир, наполненный птичьим пеньем,
звенеть продолжал неистово
много дней и ночей бессонных.
Но, спусти какое-то время
людей – почти нет под деревом,
на котором сидела птица
со своим золоченым клювом.
Они разбрелись скучающе.
И в какой-то из дней обычных
не явился никто послушать
сверкающей птицы пение,
потому что уже привыкли,
что поет она постоянно,
что именно так – не иначе –
и должно продолжаться вечно.
Ну, а птица – все пела, пела…
И было однажды сказано,
что не так интересна песня,
надоела она всем людям,
а птица всех только радует
опереньем своим богатым.
А коль так, то, конечно, надо
ее пристрелить и перьями
украсить пустую корону.
Ослепленный таким подарком,
король непременно властвовать
на земле королевской станет,
как любой, кто имеет счастье.
И ружья тогда жестокие
вдруг нацелили люди в птицу.
Очень метко они стреляли.
И выстрелы их смертельные
наповал поразили песню.
Прямо в сердце поющей гостьи
все пули попали точные.
Бездыханной упала птица.
Тишина вдруг настала в мире,
и ужасной она казалась.
И сил не хватило выдержать
тишины…
И король скончался.
С литовского.
*
С О Д Е Р Ж А Н И Е
И ЗОЛОТОЙ, И МЕДНЫЙ ЛИСТОПАД
?Простор прозрачен и печален?
?Сентябрь наполнен тихой нежностью…?
?Снова утро сторожат…?
?И снова тучи, что это такое!,,?
?В глазах цветов таится страх?
?Мне приметы осени…?
?Зноем августа прогреты…?
?Люблю волшбу осин осенних?
?Отпылали леса…?
?Уж эти мне оранжевые кони!..?
?Нынче мне и похвалиться нечем…?
?Не соглашайся с пересудом…?
?Осенний заберег…?
?Тусклая полудь лиманов…?
?На хрустальном, хрупком стебле…?
?Загадай звезду на завтра…?
?Своих обыденных, наивных…?
ЖУРАВЛИ ВОСПОМИНАНИЙ
?Сентябрь ожжет прохладой ранней…?
?Не увидится, так приснится…?
?Мне этот дом давно знаком?
?Где березы водят хороводы…?
?Не спешны, но могучи…?
?За речкой в красе своей медной…?
?И опять двурогий…?
?Опушкой леса оторочен…?
?Здравствуй, дочь!..?
?Серебрятся, словно перстни…?
?О девочка…?
?Какая степь!..?
Молчание
?Где трепет Вечного огня…?
Священная память
?Мир остывших метелей…?
?Кто знал, что миг земной орбиты…?
?В осеннюю глухую борозду…?
?Нам чувство тревоги знакомо…?
?А какова у дерева душа?..?
?Губы мои солоны?
?Под ярким солнцем заблистала…?
?Наплывает, дымчато клубится…?
?Итак, швартовы отданы…?
?Рамонь. Рамонь!..?
?Прабабки с пыльными платками…?
?Ценю обыденность во всем…?
?Я знаю, обоюдно страшен…?
?В сквере зябнет пустая скамья?
?На исходе рассветных…?
?Простуженно, без интереса…?
?Ну скажи мне, как не быть поэтом…?
?Потерянная, жалкая Жар-птица…?
?Мне стекла кажутся морями…?
?Лежит тяжелая, отважная…?
?Кто говорит, что нет сухой воды??
?Бывает – подлость рядом ходит…?
?Я с топором по рощам не ходил…?
?Звезды мои падучие…?
?Нам лгут кривые зеркала…?
?Сколько раз, увы, мою весну…?
?Прохлынули апрельские лучи…?
?Когда же на земле был мир спокойным?..?
В детство иду
ВЫСОКОЙ СТРАСТИ ВОЛШЕБСТВО
?Сентябрь развесил облака…?
?Не прорастет забвения трава…?
?Мы привыкли трудиться…?
?Серебро подарено вискам…?
?Негаснущим светильником в ночи…?
?Я живу с Кольцовским сквером рядом…?
?Библиофилы!..?
?Полированной смолки…?
?То послушный он и тихий…?
?О, до чего мудра и многолика…?
?Экзотика странного мира…?
?Экслибриса листок белесый…?
?Мы всегда вспоминаем полотна Сарьяна…?
?Как ходики, заведено…?
?Веселый деревянный Буратино…?
Почему умер король. (Баллада)
Центрально-Черноземное книжное издательство
Воронеж – 1979
РАМОНЬ, Усманка, Ситников кордон… Эти дивные и вместе с тем знакомые и родные всем истинным воронежцам названия не случайно встречаются в стихах Виктора Панкратова. Отсюда, от тихой и несуетливой столицы детства, от отчего края поэта берут свое начало его дальние и не всегда солнечные тропы. Здесь – главный исток его доверительной, негромкой, но всегда убедительной поэзии.
Виктор Панкратов и в стихах не живет вне своей Родины, в отрыве от истории нашего Черноземного края, от его сегодняшнего дня. В родословной поэта – и первый воронежский коммунар, и боевые красные командиры, защищавшие родную землю в годы гражданской…
Зоркими глазами поэт видит и старые скифские курганы, и зеленые фонтаны берез, и такую почти неприметную малость, как ?…полынок, что у дороги стоит, коленопреклонен?.
Ну, а осень для Виктора Панкратова – не просто время года. Это своеобразный повод для глубоких и серьезных раздумий. За неброскими осенними нарядами поэту видится большой и искренний мир добра, света и нежности.
И ЗОЛОТОЙ
И МЕДНЫЙ
ЛИСТОПАД
Простор прозрачен и печален:
в нем –
дым отечества с полей,
и парус неба за плечами,
и берег осени моей.
И неурочная прохлада,
встревоженный грачиный грай,
шаманий шепот листопада
и солнца спелый каравай.
И ветра бег по косогору –
мне ничего не позабыть.
Как хорошо в такую пору
грустить,
надеяться,
любить.
*
Сентябрь наполнен тихой нежностью,
и в каждом дне неповторимом
он пахнет утреннею свежестью,
костров прибрежных сладким дымом.
Колодца сруб в зеленой плесени,
глухая стежка,
куст смородины –
все мило,
оттого и песенней
осознанное чувство родины.
*
Снова утро сторожат
в приболотье цапли.
На щеках моих
дрожат дождевые капли.
Ветер, марево рассей,
сникни в травостое.
Клин рыдающих гусей
в небо вбит пустое.
Цапли бродят по песку…
Гнев смени на милость,
чтобы в черную тоску
грусть не превратилась.
Видишь, разве я не прав:
жадно солнца просят
головы зеленых трав
в свете желтых просек.
*
И снова тучи, что это такое!
Предосени сварливые вожди –
они не оставляют нас в покое –
туманы, грозы, ливни и дожди.
Кто эту серость подарил рассвету?
Былого лета сожжены мосты.
Пускают вербы по воде и ветру
морщинистые узкие листы.
Грусть ожиданья в трубном крике лосьем
и в перещелке раннего клеста.
Печалится во мне чужая осень
сердцебиеньем каждого листа.
Я искренне люблю такую пору,
когда немного можно погрустить,
забыть обиду,
невниманье,
ссору
и с легким сердцем
все друзьям простить.
Когда заря займется и обрушит
на бархат трав хмельную тяжесть рос,
заполонит и растревожит душу –
не как-нибудь, не в шутку, а всерьез.
И если день табун дождей стреножит
на неукосах выцветших купав,
душа моя насытиться не сможет
святым и нежным перезвоном трав.
Нет у меня дороже талисмана –
щекой прильну к березовой коре…
В молочно-белой пелене тумана
растанцевался сумрак на заре.
*
В глазах цветов таится страх.
Тот самый страх, борясь с которым
бедует осень на буграх,
поросших корабельным бором.
Свищу бесхитростно дроздам.
В себе небеспричинно роюсь:
иду по собственным следам –
мне травы кланяются в пояс.
Судьба моя – плакун-трава!
От радости – не от печали –
светлеют на губах слова
сухими звонкими ночами.
*
Мне приметы осени
все видней, видней:
тают над покосами
свечи желтых дней.
Золотыми кладами
в дальний лес маня,
край мой листопадами
бередит меня.
Разинскими стругами
на рябой волне,
проводами-струнами,
радугой в окне.
Колыбельной тихою
песней над рекой,
спелою гречихою,
синевой донской.
Утренними росами
позднего жнивья…
Золотоволосая
Родина моя!
*
Зноем августа прогреты,
с шумных парковых аллей
в небо целятся ракеты
островерхих тополей.
Городскую эту участь
знаю вдоль и поперек.
Принимаю ив плакучесть
как заслуженный упрек.
От кастрюль и сковородок –
весь в сиреневом чаду –
К таинству рыбацких лодок
я, Рамонь, к тебе иду.
В потаенном тихом месте,
навсегда с собой сродня,
удостой высокой чести
недостойного меня.
Там, не внемля всем советам,
в тесный круг берез войду,
с тихой радостью я к светлым
их коленям припаду.
Свежесть самоочищенья!
Здесь все истины просты:
нет надежней ощущенья
глубины и высоты.
Верю в это постоянство.
Отражает облака
двуединое пространство –
небо и под ним река.
Север,
юг,
восток и запад…
Ноша у ветров легка –
сыростный и пряный запах
яблок, меда, молока.
Мне, теплынью налитое,
улыбается оно –
золотое,
золотое,
желтобокое зерно.
Блеклых листьев полуслово,
над речною синевой
пахнет остро и медово
только скошенной травой.
Любо-дорого слиянье
робких луговых ключей,
нестерпимое сиянье
солнечных прямых лучей.
Солнца тыквенная прОвись.
Сам себя вознаградя,
от жары легко укроюсь
под тугим зонтом дождя.
Вот он бьет, молотит круто
по плечам и по спине.
Будто лешим стал я,
будто
борода течет по мне.
Если так, то – сбыться чуду:
предрассветную зарю,
этот дождь,
росы остуду
всем я щедро раздарю.
Вот вам – ветки краснотала,
березняк,
в полях жнивье…
Все, что ты хранишь, - пропало,
все, что отдал, то твое!
*
Люблю волшбу осин осенних,
шуршанье крон над головой –
идешь, а лес вокруг усеян
листвой,
листвой,
листвой,
листвой…
Цветасто, весело и броско
нам осень выстлала пути,
и потому легко и просто
навстречу времени идти.
Кто любит лес –
легко в нем дышит.
Кто тонким слухом наделен,
тот обязательно услышит
над миром тихий перезвон.
Сентябрь опять по горло занят –
его поделкам нем цены:
он листья новые чеканит
на наковаленке луны.
Осень!..
*
Отпылали леса.
Снова сникла краса
обозначенных донником склонов.
Опустели сады.
В голубые пруды
уж не падают звездочки с кленов.
Лишь одни тополя
ловят всхлип журавля.
Торопись!
Этот миг проворонишь…
В мир некошеных трав
улетает журавль,
улетает журавль за Воронеж.
Я иным нынче стал –
на дорогах устал,
но лишь сделаю шаг от порога –
и поманит звезда
от крыльца,
от гнезда,
уведет и закрутит дорога.
Только как же вдали –
без гнезда,
без земли,
той, что нянчили деды в ладонях?..
Разве жить там смогу,
коль в душе берегу
скромный цвет моей родины –
донник!
*
Уж эти мне оранжевые кони!
Опять они над городом летят.
От злых ветров, от их лихой погони,
как от судьбы, уйти они хотят.
Я провожаю их тревожным взглядом:
мне видеть далеко не все равно,
что осень порыжелым листопадом
вот-вот перечеркнет мое окно.
Что на ветру – так весело,
так жарко –
пылает клен – оранжев, красен, желт.
И что над ним торжественно и ярко
сентябрь звезду последнюю сожжет.
Но отрешенно, строго и остыло
осознаешь, что это рвется нить,
та самая, дано которой было
все осень в одну соединить.
Мир для добра, тепла и света создан.
Листы в ладони бережно берешь,
и вспыхивают маленькие звезды,
согретые теплом твоих ладош.
*
Нынче мне и похвалиться нечем,
но нельзя Рамонь оставить в прошлом.
Не случайно ивняку на плечи
полушалок розовый наброшен.
Остывают утренние звезды.
Туго ветер натянул поводья,
сдерживая напряженный воздух,
мутный, как во время половодья.
Сазанов отчаянные всплески.
На откосы выползают раки.
Осень на притихшем перелеске
разбросала огненные знаки.
Помню, как над кронами дрожала
тишина.
И мы с тобой молчали.
Солнце, будто зарево пожара
заалело первыми лучами.
Теплым светом дереву любому
высушило мокрую рубашку.
Белое на смену голубому –
выкатились крупные ромашки.
Обожгла румяная зарница
камыши
и утонула в устье.
Верю я, что снова повторится
час рамонской предрассветной грусти.
*
Не соглашайся с пересудом,
все строго выверив, спеши,
чтоб слово, жившее под спудом,
проснулось в тайнике души…
Нет, это просто невозможно:
я сам себя не узнаю –
и говорю неосторожно,
неосторожно ем и пью.
Я ветром дорожу попутным,
черновики поспешно рву,
легко дышу сиюминутным,
своим сегодняшним живу.
Шагаю по листве опавшей
и несказанно видеть рад
пустой,
забытый,
одичавший,
разбредшийся по склону сад.
Опять ни шороха, ни хруста –
лишь обаянье тишины.
К чему таиться!
Все мы чувства
невыразимого полны.
Я снова вижу с грустью нежной
отслой березовой коры,
расстил гречихи белоснежной,
густого клевера ковры…
Он из ракитового ситца
так неожиданно возник –
тот мир, где каждый ствол страница –
мой изначальный черновик.
В лихие годы не разграблен,
укрыт шуршащею полой,
лес сохранен,
не обезглавлен,
не четвертован злой пилой.
Глядит зелеными зрачками
с извечным – быть или не быть?!
Вон над дубовыми торчками
жестоко вытянулась сныть.
И преданный своим заботам,
гуденьем наполняя высь,
миниатюрным вертолетом
над ней тяжелый шмель завись
Подернутые ряской блюдца.
Кричит болотная сова.
В глубинах серых отдаются
все позабытые слова.
Я знаю, ждут меня восходы,
готовят песни соловьи…
И верю,
верю я в свои
недокукованные годы.
*
Осенний заберег,
Осенний заберег
туманы заняли,
туманы замерли.
А небо низкое,
луна за тучами,
лишь звезды - искрами.
Леса задумчивы.
В них среднерусские –
так ладно скроены –
белеют блузками
березы стройные.
*
Тусклая полудь лиманов.
Листья осины красны.
Скифских высоких курганов
призрачны древние сны.
Залит простор первосветом,
в нем, не оставив следа,
словно задутая ветром,
тихо погасла звезда.
Сердцу немного осталось
сладких и сонных минут:
сумрака трепетный парус
всеми ветрами надут.
*
На хрустальном, хрупком стебле
я однажды догорю.
Дерева в ладонях степлют
мне последнюю зарю.
И еще не отделенный
от угаснувшего дня,
полыхнет костер зеленый,
повторив тебе – меня.
Отражусь тепло и честно
полумесяцем в пруду.
Загрустит над лесом песня.
Эхо стихнет.
Я уйду…
Я уйду светло и чисто
за предел, который крут.
Золотые лодки листьев
над землею проплывут.
Над скворешнями пустыми,
над прозрачностью стрекоз,
над отвесными, крутыми
колокольнями берез.
Не посульными речами
зазывать горазда Русь,
а горластыми ручьями:
их услышу и вернусь!
Возложу венками руки
на окружья теплых плеч –
неизбежностью разлуки
рождена возможность встреч.
*
Загадай звезду на завтра,
чтоб своим теплом согрела!
Осень кончилась внезапно,
будто спичка догорела.
Стихли птичьи разговоры.
Всех зима врасплох застала.
У ручья в болтливом горле
песня звонкая застряла.
От березы голоногой
ветром вьюжливым оторван,
над пустынною дорогой
бьет крылами черный ворон.
А снега заходят с тыла,
но в дозоре, где ложбина,
не погасла,
не остыла
раскаленная рябина.
*
Своих обыденных, наивных,
простых порывов не стыжусь.
Я вырос на хлебах, на ливнях,
лесами летними горжусь.
Мне так отчаянно хотелось
проститься, не вошла пока
пугливая осиротелость
в зеленый мир березняка,
в шеренги долговязых сосен,
в сень мудрых кряжистых дубрав.
Уже, закон времен поправ,
крадется по опушкам осень.
Прощается спокойно лето.
Его не гонят, не крадут –
само уходит, видно, где-то
другие с нетерпеньем ждут.
Прошла пора цветов и ягод,
солнцеворота
и дождей.
На землю огорченно лягут
пустые шляпки желудей.
Уйдет, торжественно одето,
как в дни своих былых побед,
еще одно большое лето,
во мне оставив
добрый след.
ЖУРАВЛИ
ВОСПОМИНАНИЙ
Сентябрь ожжет прохладой ранней,
наметит свой маршрут вчерне,
и журавли воспоминаний
вернутся поутру ко мне.
И острой памятью прошитый,
ответствен – я уж не кремень –
за каждый наново прожитый,
давным-давно ушедший день.
За эти давние тревоги,
за осиянный солнцем клен,
за полынок, что у дороги
стоит коленопреклонен.
За все надломы и надрубы,
что подружились с сединой,
за те
покинутые губы,
сейчас вспомянутые мной.
*
Не увидится, так приснится –
все, что дорого с детства мне:
вновь проворно снуют синицы,
стаду дремлется на стерне.
И стога, как большие коровы,
тяжело раздувают бока…
Медь кувшинок –
ну чем не короны! –
с места сдвинуть не может река.
Тих песчаный нетоптаный плес,
а в лесу – хороводы красавиц,
то, листвою земли не касаясь,
бьют фонтаны зеленых берез.
Ах, озерные синь-моря –
умывается в них заря!
*
Мне этот дом давно знаком.
Смеются окна – это значит,
что солнце снова босиком
по лужам, как мальчишка, скачет.
Веселых пчел высокий гул.
Дымы зависли коромыслом.
Там не обманут, не солгут,
где каждый день наполнен смыслом.
Полынь, гречиха и ревень,
незабываемые нами –
скупые лики деревень
с простыми диво-именами…
О память, ты меня не тронь,
лишь мягко прикоснись губами.
Как пахнет светлая Рамонь
росой, цветами и грибами!
Рамонь!..
*
Где березы водят хороводы
и грустит под ивами река,
в тихие задумчивые воды
осыпают перья облака.
Стелется тумана полотенце.
Бесподобен в простоте своей,
щелкнет
да как выкинет коленце
молодой веселый соловей.
Полон край лесной очарованья.
Почему же с нетерпеньем ждем
пору золотого вызреванья
перед ранним снегом и дождем?
Ждем – и снисходительны, и строги
к мысли,
слову,
даже к вещим снам, -
чтоб на грани счастья и тревоги
в силе чувств не ошибиться нам.
*
Не спешны, но могучи,
смирив полдневный зной,
сгущались злые тучи
над рощею сквозной.
Чего они нашли в ней?
И вот –
остры, сильны –
клинки звенящих ливней
уже занесены
над робостью осины,
над радостью берез…
Ударил гром
И синий
начался сенокос.
Но все дружней, упорней
свою ведут войну –
пускают крепче корни
деревья в глубину.
Тревожной, гулкой смуты
окончена пора.
Смеешься вновь кому ты,
омытая кора?
Невозвратимо светел,
прозрачен легкий день.
Не озорует ветер.
Капель стучит о пень,
о годовые кольца…
Замлев от красоты,
сороки ловят солнце
в разинутые рты.
*
За речкой в красе своей медной
поднялся до самых небес
дремучий,
густой,
заповедный –
то хвойный, то лиственный лес.
О, эти лесные делянки,
колючей боярки кусты!
Здесь с чайное блюдце белянки
торжественны и чисты.
Здесь ветер колышет мониста
листвы драгоценный узор,
и звездами гаснут листья
над синим покоем озер.
Осины в шершавых накрапах,
берез отраженных стволы
и с детства дурманящий запах
янтарной
сосновой смолы.
*
И опять двурогий
месяц рано выйдет,
на речной дороге
след копытом выбьет.
Высоко над нами,
над зарею юной
ветер бьет крылами
в голубятне лунной.
Он, как будто стрепет,
крыльями полощет,
ворошит и треплет
голубую рощу,
размывает тени,
ветви крутит лихо…
Бедная, в смятенье
стонет соловьиха.
В перья чистотела,
в сонные овраги
тычутся несмело,
бьют дождинки-шпаги.
*
Опушкой леса оторочен
во мраке Ситников кордон.
Лесной заслон высок и прочен,
легли на полушалок ночи
узоры многолистых крон.
Накрыл семью дерев корявых
ночной,
бездонный,
синий свод.
Луны оранжевый кораблик
меж звездных бакенов плывет.
По мшистому крутому склону,
свою затаптывая тень,
несет торжественно олень
рогов тяжелую корону.
Он буераком, за кордоном,
прошел в холодную купель,
и с гордых губ его
со звоном
бьет золотистая капель.
*
Здравствуй, дочь –
подснежник мой февральский!
Не сдержать сегодня этих слез:
белый-белый, очень важный аист
мне тебя, наверное, принес.
Здравствуй, дочь,
ты – свет в моем оконце!
Получи в наследство добрый нрав,
речку,
небо,
золотое солнце,
мир цветов
и королевство трав.
*
Серебрятся, словно перстни,
листья тонких ив.
Колыбельной тихой песни
слышится мотив.
Ветер прошуршал и замер,
прекратил игру.
Кошка с лунными глазами
бродит по двору.
Догрызают звезды-мыши
ломтик сыра свой.
Ночь осыпала все крыши
желтой чешуей.
Снятся сны большим и малым.
Сладко спят дома.
Скоро с теплым одеялом
к ним придет зима.
*
О девочка –
волшебное перо!
Будь для меня
звонкоголосым маем.
Твой смех –
моя весенняя пора.
У нас с тобой
особая игра.
И мы давно
отлично понимаем,
что нет на свете
худа
без добра.
*
Какая степь!
На сковородке полдня,
на солнцепеке самом я лежу,
за истиной сюда я прихожу,
хочу ее увидеть и запомнить.
Здесь щедро льется неба бирюза,
закончив круг, устало чертит новый
неспешный коршун, выклевать готовый
ромашкам откровенные глаза.
Добра и зла провижу я истоки,
и мне понятен тот подспудный страх,
что люди – только продолженье трав…
Увы, всему так быстротечны сроки!
Недолго травам зеленеть и длиться.
Благословен простых прозрений миг,
в который неожиданно постиг,
что и травинке можно удивиться.
Цветы и листья,
люди и трава.
Земля своим нас разносолом кормит,
она в себе лелеет наши корни,
и у нее на нас – свои права.
В календаре все меньше, меньше дней,
но я судьбу подобную приемлю.
Никто из нас не покидает землю –
мы прорастаем звездами над ней.
МОЛЧАНИЕ
Опять проскачет листопадов конница,
и первый снег на землю упадет,
и снова осень давняя припомнится,
припомнится тот сорок первый год.
…Какой туман!
Он пахнет, как антоновка
в том довоенном бабкином саду.
С тяжелой домодельною котомкою
я к пристани за взрослыми иду.
Визжат колеса.
Кони измочалены.
Дымится за кюветами стерня.
А впереди – мешки, баулы, чайники.
И мать боится потерять меня.
И я смотрю глазами удивленными,
мне кажется, земля уже не та:
все меньше голубого и зеленого,
лишь черные и красные цвета.
Черна вода – зеленою была она.
Алеет день – а был он голубым.
И солнца нет – одно пятно багряное
летит,
летит,
летит сквозь черный дым!
Летит, врезаясь в дым
краями рваными,
и безутешно смотрит с высоты
на нас
и на красноармейцев раненых,
на темные корявые бинты.
Течет река, тяжелая. небыстрая,
долбит сапер у сходен топором.
И вот к скрипучей деревенской пристани
причаливает медленный паром.
И, отпихнув безусого начальника,
от суматохи яростны и злы,
кричали бабы:
- Поскорей отчаливай! –
и обнимали потные узлы.
А надо всеми плачами, над руганью,
над сутолокой беженской – вперед
в резиновых,
в охотничьих,
с раструбами –
широкомордый мужичище прет.
Нет, он не прет. Разбухшею корягою
врезается в людской водоворот,
и на меня – позванивая флягою –
победно надвигается живот.
Я не кричу – и отступаю молча я
и падаю – куда, не знаю сам,
и падаю – и белизна молочная
ударила, стегнула по глазам.
Мне помнится: из пустоты, из марева,
из заново родившегося дня
возникли вдруг лицо
в повязке марлевой
и руки, приподнявшие меня.
То был солдат.
Его повязка бурая,
казалось, очень белою была.
Смеялся он:
- Ну что, пацан, нахмурился?
Плохи, видать, подводные дела!
И к этому мордастому,
с раструбами
они пошли – бинты, бинты, бинты –
солдатскими, тяжелыми и трудными,
шагами неизбежной правоты.
И тот застыл. Оторопел. Попятился
и оглянулся: за спиной – река,
а впереди – лишь ненависть…
И пятнами
пошла его угрявая щека.
Молчал паром,
катились волны тусклые,
и бакены качались на мели,
две бабы, истомленные и грустные,
слепого парня берегом вели.
А у перил подлец стоял растерянный,
стоял, поклажу теребил свою.
Глазами весь паром его расстреливал,
расстреливал, как недруга в бою.
И он бежал рыбацкими причалами,
где между кольев жухлая трава.
. . . . . . . . .
Так я впервые понял, что молчание
сильнее, чем жестокие слова.
*
Где трепет Вечного огня,
там раньше поле боя было, -
в себе и жизнь и смерть храня,
оно поры той не забыло.
На парапете не цветы –
то наши горькие утраты.
И не меняют, как солдаты,
березы бурые бинты.
О поле, поле!.. Но оно
молчит, тревожно вспоминая:
шли танки, грузно подминая
под траки спелое зерно.
Своим безмолвием кричит,
напоминает поле боя
о тех, кто жертвовал собою…
Не с тех ли пор полынь горчит?!
?О поле поле…? - тем словам
и мужеству
мы цену знаем,
и сами с болью вспоминаем
последний день, что выпал вам
в боях за каждый метр высот,
за метр дороги,
за Воронеж…
Ты в памяти не похоронишь
того, кто свято в ней живет.
Закинул голову солдат.
Он видит звезды в небе раннем…
Нет, он не умер, только ранен.
Он будет жить, мой старший брат,
в глазах ромашки полевой,
в березах,
что подняли кроны,
раскинули наряд зеленый –
шумят печальною листвой
над телом каменным бойца
и над цементным автоматом.
Солдат тот для меня был братом,
иной в нем узнает отца.
Стою у вечного огня.
На камне – имена и даты:
сороковых годов солдаты
от пули здесь спасли меня.
Верны мы делу одному.
Нет у меня важней заботы –
вот эти метры и высоты
не уступлю я никому!
СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ
Матери времен былой войны,
грозовые вас тревожат сны.
Каждый сон, как бой, и в том бою
за родную сторону свою
молодые парни полегли
на откосах выжженной земли.
Матери времен былой войны,
пусть другие к вам приходят сны.
Там, где ваши падали сыны,
к небу корпуса вознесены.
Навсегда с пристрелянных высот
жесткий отступил огневорот.
В контурах сегодняшнего дня
будущего видится броня.
И другие празднуют сыны
молодое торжество страны,
радуются солнечному дню…
Нет покоя Вечному огню.
Матери, ваша память священна!
*
Мир остывших метелей
не по-снежному гулок.
Слышишь, кони влетели
в твой родной переулок.
Зимним двориком, к сенцам –
мчатся поэскадронно…
Раны вспомнило сердце
и бои под Касторной.
Нет, оно не устало
помнить всех поименно.
А на улице ало
полыхают знамена.
И летит над тачанкой
сквозь бескровные губы:
- Не лечите тройчаткой –
пусть меня лечат трубы…
Конармейской прострелянной,
звончатой песне
неуютно в постели
и в плюшевом кресле.
Может, это и странно,
только – вовсе не плохо:
под окном ветерана
громыхает эпоха.
Вновь тревожит мотивом
песня, что не допета…
Вместе с бывшим комбригом
Ленин смотрит с портрета.
*
Кто знал, что миг земной орбиты
два цвета так соединит:
черны здесь лабрадора плиты,
но красен,
красен здесь гранит.
О ясность линий Мавзолея,
ты проще и сердечней слов!..
Стена кремлевская.
За нею –
жара высоких куполов.
Есть вечность сдержанных мгновений
и вечность и мгновенность строк,
и этот, вздувшийся на вене,
лишенный пульса бугорок.
Но он в себя вмещает страны.
Он – как Магнитная гора.
К нему сошлись меридианы
высокой Правды и Добра.
*
В осеннюю глухую борозду
уронит ночь высокую звезду.
Прочертит путь последний свой она
и будет навсегда погребена
под черным сводом,
под пластом земли,
с которой ввысь стартуют корабли,
чтобы случайно не оборвалась
со звездным миром
родственная связь.
*
Нам чувство тревоги знакомо,
когда – добела горячи –
над гулкой плитой космодрома
схлестнутся лучи, как мечи.
Когда на решетке антенны
замрет, напряженья полна,
вобравшая блики и тени
предстартовая тишина.
Ещё отдадутся не скоро
последней команды слова.
Еще на лице монитора
секунда земная жива.
Проверен отсек командиром,
и, словно тугая струна,
она оборвется над миром –
предстартовая тишина.
Покой будет надолго взорван.
Не твой ли ровесник вдали,
за тысячами горизонтов,
почувствует силу Земли?
…Печали забыв и обиды,
сверяет маршрут корабля
громадное сердце орбиты –
обжитая нами Земля.
И ловят тревожные блики
высоких, заоблачных гроз
рассветные длинные лики
российских печальных берез.
*
Е. Исаеву
А какова у дерева душа?
Пожалуй,
от моей неотличима –
и этому одна первопричина.
Да что у дерева!
У камыша,
у облака,
парящего над пашней,
над лугом,
над пожухлою травой,
у этой высохшей,
пускай вчерашней,
последней самой капли дождевой.
У всей земли, что посреди и сбоку.
И хоть она невидима –
душа,
взойдешь на взгорок,
к солнышку,
к припеку,
осмотришься и ахнешь:
- Хороша!
*
Губы мои солоны.
Море, я полон тобой.
В бубен высокой луны
бьёт крутолобый прибой.
Встреча с тобой далека.
Память моя, оглянись –
строгим лучом маяка
заново выхвачен пирс.
Тихую радость сполна
передоверив судьбе,
словно большая волна,
я возвращаюсь к тебе.
Силой меня не держи.
Море, верни мне покой.
Слышишь, как грустно стрижи
снова кричат над рекой.
В свете Полярной звезды
чувством своим овладей.
…Море смывает следы.
Море не помнит людей.
*
Под ярким солнцем заблистала
с утра надраенная медь.
Ей только день всего гореть,
наутро – снова ждать аврала.
Ничем себе не докучаю.
Жду неожиданной строки.
Я по глазам твоим скучаю,
по зыбкому теплу руки.
Вкус терпких губ, глаза и руки –
любви связующую нить –
мы начинаем лишь в разлуке
по-настоящему ценить.
Ничем себе не докучаю,
слежу как в стылой тишине
кривые бумеранги чаек
вновь возвращаются ко мне.
*
Наплывает, дымчато клубится,
золотыми перьями горит –
облако, как сказочная птица,
над волнами пенными парит.
Верен бескозырке и бушлату,
провожаю взглядом корабли.
По прямому, как проспект, закату
потянулись в небе журавли.
Сердце захолонет и остынет
так и не взорвавшейся строкой.
Мама, мама,
вспоминай о сыне,
в море день березовый такой!
Над зеленой шевелюрой где-то
щеголяет месяц молодой
и грустит по-стариковски лето
в август запрокинутой звездой.
Там, где тихий Дон берет начало,
где берут отсчет мои года,
сколько разных песен нажурчала
полая, веселая вода.
Этим песням не вернуться боле,
новая чапурою* кружит…
На капустном, опустевшем поле
пугало от холода дрожит.
Туча отстрелялась дальним громом.
Радостно мне стало и светло:
накрепко меня связало с домом
одноцветной радуги крыло.
?Чапура – местная цапля
*
Итак, швартовы отданы.
Идем, с ветрами споря.
Теперь я верноподданный
Воронежского моря.
И ощутить мне хочется
себя самими собою,
прозрачность одиночества
под бездной голубою.
*
Рамонь! Рамонь!
Тебя в себе храню.
И то, что есть, и то,
что раньше было,
история в одно соединила
и подарила нынешнему дню.
Я рассказать о новом
не берусь,
но так близки мне эти перемены –
воздетые над крышами антенны…
Моя земля,
моя родная Русь!
Приемлю знаки твоего прощенья.
Опять я вижу вязы и дубы –
завидней, право,
в жизни нет судьбы
сполна изведать
счастье возвращенья.
Отринуть все
и лишь в конце пути
вдруг осознать:
тебе уже – не двадцать,
одеться проще,
к озеру пройти
и улыбнуться,
чтоб не разрыдаться.
*
Прабабки с пыльными платками,
с пергаментом бесстрастных лиц,
мы все в большом долгу пред вами
за вспышки трепетных зарниц,
за красоту родного края,
за русскую простую речь…
Мне даже жаль, что нету рая,
чтоб можно было вас сберечь.
*
Ценю обыденность во всем:
и в дни забот, и в час веселья,
в круговороте новоселья,
когда друзья стучатся в дом.
Я одинаково люблю
и праздники,
и просто будни,
и лета ясные полудни,
мороз, когда дрова рублю.
Чужда мне лжи и слова связь,
но целомудренную нежность
приемлю, словно неизбежность,
при этом чище становясь.
Мои обычаи просты –
не изменю ни им, ни другу,
ни солнца радужному кругу.
Я так смогу прожить.
А ты?
*
Я знаю, обоюдно страшен
рассудка тягостный навет.
Костер в лесу давно погашен –
ни отсвета, ни бликов нет.
Но есть тепла воспоминанье.
И есть – превыше снов и слов –
сознанье дерзкого слиянья
двух звезд,
двух песен,
двух миров.
Когда, безжалостно остра,
беда перечеркнет твой вечер,
не забывай,
что греет вечно
тепло угасшего костра!..
*
В сквере зябнет пустая скамья.
Перед ней опущусь на колени.
Легковерная память моя
заблудилась в душистой сирени.
До конца мне допела струна.
Отведу запоздалые руки,
чтобы выпить до самого дна
эту тихую горечь разлуки.
*
На исходе рассветных
и прощальных минут
своевольные ветры
листья желтые мнут.
Глаз твоих избегая,
рву последнюю нить:
- Ты меня, дорогая,
не смогла полонить…
Ухожу, не прощаясь,
по причине пустой,
чтоб щемящая жалость
не шепнула: ?Постой!?
И бреду на рассвете
по дороге другой.
Звезды к месяцу в сети
заплывают дугой.
Ты перечить не стала.
О, ошибок игра!
Видно, снова настала
отчужденья пора.
Я твержу себе:
- Прежде,
чем уйти, -
оглянись!
Как обрывки надежды,
листья падают вниз.
*
Простуженно, без интереса
вдруг свиснет одиноко птица.
Январь в пустых глазницах леса
уже который день таится.
Пока зима еще не в силах
подкрасться к веткам огрубелым
и густота полей остылых
не стала откровеньем белым.
Не скоро жизнь погаснет в кронах,
мороз стволы дерев иссушит.
Лишь первый мой сердечный промах
меня отчаяньем оглушит.
*
Ну скажи мне, как не быть поэтом
в пустоте размолвки, той, когда
вспыхивает острым синим светом
в небе одинокая звезда.
Так бывает.
Не ищи причину,
кто кого обидел сгоряча,
кто поднес горящую лучину
к основанью звездного луча.
Чьи неосторожные наветы
стали отчужденья полосой –
наплывают влажные рассветы
со студеной едкою росой.
Неужели помнить нам об этом
и пустых упреков не забыть?
В этот раз не надо быть поэтом,
надо просто солнечнее быть.
День придет.
Звезда тоски растает,
и, как прежде, улыбнешься ты.
Видишь, алым маком прорастает
солнце небывалой красоты.
Груз обид тебя не потревожит:
я зову, и ты меня зови –
ведь не может человек,
не может
без тепла,
без ласки,
без любви.
*
Потерянная, жалкая Жар-птица.
Излом крыла, но что мне толку в том:
пускай любовь моя тебе простится,
ответь мне светом, лаской и теплом.
Нет, я не верю
в безысходность судеб –
вновь загорится радуга в окне.
Порой друг друга мы
так строго судим,
не признаваясь в собственной вине.
В последний раз –
без слов,
без слез,
без муки, -
как в полусонном и пустом пылу,
усталые, доверчивые руки
я к золотому протяну крылу.
*
Мне стекла кажутся морями,
где волн седых строптивый взмет.
Тот хрупкий мир в оконной раме
вдруг потемнеет
и возьмет
в объятья ветра чистый парус
любви,
надежды
и мечты…
Я с ветром дружен, ну а ты –
одна на берегу осталась.
*
Лежит тяжелая, отважная –
не смог осилить суховей –
земля лиловая и влажная
в спокойной наготе своей.
В природе все уравновешено,
во всем оправданный расчет:
одна река клокочет бешено,
другая медленно течет.
Но вот проснется утро росное,
стрельнет усами ячменя,
все суетное,
все наносное
уйдет неспешно от меня.
Отступит злая непогодица.
И реки мутные – чисты,
когда вдруг вспомню,
что возводятся
с обоих берегов мосты.
*
Кто говорит, что нет сухой воды?
А вечные, нетающие льды?
Не отрицай, достоинство храня,
что в мире нет холодного огня.
Гляди, как смело тянется рука
к нему –
к огню лесного светляка.
Все есть на свете –
даже черный свет…
Сухой, холодной, черной дружбы нет!
*
Н.П.
Бывает – подлость рядом ходит…
Она влезает в ловкий стих,
порой друзей себе находит
среди товарищей моих.
Она подходит с ними вместе
и панибратски руку жмет,
не может обойтись без лести,
без клеветы,
без тонкой мести,
своей минуты долго ждет.
Нет, подлость отличить не просто –
смиренный тон, приличный вид, -
она, играя в благородство,
свои намеренья таит.
Разнообразна, многолика
и в двоедушье не нова –
докажет с криком и без крика
свои неправые права.
Когда ей нужно – терпелива,
на скорый суд всегда быстра,
извечной трусости сестра,
о до чего ж она труслива!
Ей раствориться удается
в овале тусклого лица,
и не всегда распознается,
увы, улыбка подлеца.
*
Я с топором по рощам не ходил
и лесогубом, слава богу, не был,
и не люблю любую слушать небыль
из уст лучковых крепкозубых пил.
Мелькают пилы, яростно звеня,
и лишь когда наговорятся вдосталь,
дрожа от возбуждения, на доски
они ложатся на исходе дня.
И тихого раскаянья полны,
железными боками остывают,
а в небе облака все тают, тают,
все ярче предвечерний блик луны.
Не спится пилам.
Нет, они не спят, -
раскинулись тревожно и устало,
и росы, словно слезы, запоздало
на пилах обессиленных блестят.
*
Звезды мои падучие,
ваша редеет рать.
Кем же вы так подучены
наспех дотла сгорать?!
Краткие ли мгновения
эти всему виной:
вот и стихотворения –
вспыхнут…
и в мир иной.
Звезды мои падучие,
ваша редеет рать.
Строчки, что ночью мучали,
без сожаленья трать.
Вечность они не прочили:
хоть на единый миг
пусть золотые прочерки
будут
в зрачках твоих.
*
Нам лгут кривые зеркала,
а мы на грани искушенья
все ловим знаки утешенья
в слепящей плоскости стекла.
И вот, когда надежды нет,
так целомудренно и чисто –
как жизнь в угаснувшие листья –
минувшего вернется свет.
Наивная, святая ложь –
истоки вечного движенья.
Но ты поверишь в продолженье
своей любви и вдруг поймешь:
опережая бег минут,
кривые зеркала не лгут!..
*
Сколько раз, увы, мою весну
журавли на крыльях уносили.
Сколько раз подснежники в лесу
для меня цвели в моей России.
Ландыши звенели по утрам
и в траве алела костяника…
Ветки мне, ольшаник, протяни-ка,
поклонись со мной земно ветрам,
облакам,
речным затокам,
пущам,
на юру продрогшим ветрякам,
поклонись ушедшим и живущим
на земле степенным старикам.
Пусть весны бунтующие соки
много раз еще пьянят меня…
К караванам облаков высоких
тянутся упруго зеленя.
*
Прохлынули апрельские лучи
на веси, на лобастые пригорки.
В разлогих балках верткие ручьи
взахлеб несут свои скороговорки.
Ручьи спешат, бегут к большой воде.
Бьют в барабаны вешние капели.
На прошлогоднем смерзшемся скирде
хлопочут воробьиные артели.
Становится с приходом долгих дней
бездонней небо и ясней погода.
Как много значишь ты в судьбе моей,
нелживая
российская природа.
ИЗ ЧУВАШСКОЙ ПОЭЗИИ
А. ГАЛКИН
* * *
Когда же на земле был мир спокойным?
Пожар жестокосердый не утих:
и вновь, и вновь,
как дань огню и войнам,
текут ручьи невинных слез людских.
Текут, текут…
Заполоняют страны.
Слезами переполнены сполна
сама земля, моря и океаны.
Не потому ль вода в них солона?
В ДЕТСТВО ИДУ
Сорма-речка. Синь сквозная.
Вновь
вижу каменистое я донце.
Нет на небе белых облаков –
облака растаяли от солнца.
Без отцов на Сорме мы росли,
ветру и дождю друзьями были.
Волны нас качали и несли…
Здесь мы крепли,
в люди выходили.
Нам, мальчишкам тех крутых времен,
светят и доныне эти воды.
Пересохший берег иссечен,
как ладони в трудные те годы.
Но не потерялись,
все видны
сети троп – мальчишьих наших улиц, -
тех, где дети лиха и войны
к солнцу,
словно к яблоку, тянулись.
Детства босоногая страна.
Мы в нее в любое время выйдем –
ведь на то и память нам дана…
Вновь своих любимых имена
на березах постаревших видим.
Детства дни, его приметы все
видятся нам зорче с каждым годом.
Через травы в утренней росе
вновь ручьи к твоим стремятся водам.
Сорма светлая.
Они звенят…
Музыка моих родных околиц.
Будто у пасущихся телят,
что ни шаг,
то – звон от колоколец.
И вот в этих памятных местах –
вы, друзья, не относитесь строже –
мне любой невзрачный самый птах
городского голубя дороже.
Годы, годы…
Трудные пути…
Положу конец ненужным спорам:
не туристом довелось пройти
вот по этим солнечным просторам.
Мне земля свой щедрый разносол
поднесет в шатре под ситцем синим.
Сяду снова за дубовый стол
дорогим и долгожданным сыном.
Тропы детства!
Вечно с вами я.
Вновь иду к реке светло и чисто.
Сторона родимая моя
от улыбки солнечной лучится.
С чувашского
ВЫСОКОЙ
СТРАСТИ
ВОЛШЕБСТВО
Сентябрь развесил облака.
Трещат в рябиннике сороки,
что медленно приходят строки:
все – как последняя строка.
Прозрачна осень и тиха,
но вот прихлынет ниоткуда
и поведет меня остуда
к незавершенности стиха.
Светла и светом весела,
ах, эта осень,
эта осень –
свой лист мне,
как перчатку бросил
осенний клен на край стола.
*
Не прорастет забвения трава
на книжных ослепительных страницах,
где оживают краски и слова…
Как я хотел бы в пояс поклониться
тому, кто с книгой был
в прямом родстве,
одаривал ее богатством знаний.
Нет, не расти забвения траве,
а пышно цвесть траве воспоминаний.
Мы будем помнить поименно всех,
всех поименно, и никак иначе, -
особо титулованных и тех,
кто даже нонпарелью не означен.
Кто не жалел для матрицы свинца,
кто типографским
предан был заботам…
Вы слышите, как бьются их сердца
под каждым новым
книжным переплетом?!
*
Мы привыкли трудиться
день и ночь напролет.
За окном синь-синица
звонко песни поет.
Любовался, бывало,
клавиш дробной игрой –
ты меня поправляла,
ошибалась порой.
Всем служила прилежно,
постарела – звенит,
и хозяин твой прежний
стал давно знаменит.
Отдадим – позабудем,
все уйдет далеко.
Как с вещами мы, люди,
расстаемся легко.
Бьют снежинки-смешинки
с любопытством в окно:
- Юбилей у машинки.
Это ж надо?!
Смешно…
*
Серебро подарено вискам.
Есть на все особые приметы:
годы узнаем по волоскам,
острый ум по точности совета.
Долог день без щедрого труда.
Ночь без сна и вовсе бесконечна.
Яркой книге рады мы всегда,
ложь строки – ущербна и увечна.
И, листая мудрые тома,
дивного полны мы озаренья:
искренность писателя сама –
наше откровенье и горенье.
Юность машет нам с седых страниц,
будит стародавние желанья,
и колосьями ложатся ниц
легкие ее воспоминанья.
Явью молодою жизнь полна.
Разве вот что только седина!
*
А.А. Сидорову
Негаснущим светильником в ночи
торжественно сияют наши книги.
В них места нет ни козни,
ни интриге, -
добро и правду нам несут лучи.
Богат шрифтами книжный разворот,
торчит закладка из другого тома…
И легкая, давнишняя истома
уже в объятья нежные берет.
Прекрасны чувства эти и сильны.
Вторгаясь в полусон немой квартиры,
дыханье книг и звучный трепет лиры
полночной не нарушат тишины.
*
Я живу с Кольцовским сквером рядом –
рядом с золотистым листопадом.
Рядом с кленом в желтой тюбетейке,
с чьим-то вздохом на пустой скамейке.
Рядом с грустью,
с разделенным счастьем,
с солнечной погодой и ненастьем.
На газонах листья стыло мокнут,
тихий свет в моих дробится окнах.
Строгий бюст – поэт, потупив очи,
выхвачен прожектором из ночи.
Видно, снова не дает покоя
вечер недописанной строкою.
Я живу с Кольцовским сквером рядом –
рядом с золотистым листопадом,
где трепещут на губах у веток
имена воронежских поэтов.
И звонка, неистребима осыпь –
Алексей,
Иван,
Кондратий,
Осип…
*
У каждого есть, наверно,
заветная книжка детства.
Она нас в большой и светлый,
неведомый мир ввела.
Я счастлив, что встретился с нею,
что мне никуда не деться
от книги, которая в жизни
попутчицей верной была.
Она мой друг и советчик –
мы стали давно друзьями.
Мне нравится этой книжки
простой немудреный стиль.
Живут на ее страницах
всегда добродушный Ламме,
на выдумки неистощимый
веселый бродяга Тиль.
А где-то в далеком Чили
надсадно ревет сирена,
зловеще костры пылают,
уносятся искры ввысь…
Тома превращаются в пепел,
но память – она нетленна,
душа у книги бессмертна:
в огне не сгорает мысль.
Бессильно жадное пламя
героев отнять у мира:
они нас по-прежнему учат
свободой своей дорожить.
И снова взывает к мести
бесстрашный Тиль Уленшпигель,
людей научивший правде,
меня научивший жить.
---По осени к нам приходят
веселые листопады.
Становится все щедрее
свечение русских берез.
А в Чили ревут сирены,
ведет патриотов отряды,
за книгу, за правое дело
сражается храбрый гёз.
*
О. Ласунскому
Библиофилы!
Дон-Кихоты века –
им не грозит бездействия покой –
выходят в поиск ради человека,
отмеченного книжною строкой.
И не бывает легкою дорога
к сокровищам полуистлевших книг:
встречается на ней порою много
пустопорожних мельниц ветряных.
Кто сломит их?
Какая зреет сила
в круговороте мыслей,
споров,
слов?
Лишь карандаш в руках библиофила
к предназначенью этому готов.
Бесхитростным своим победам рады –
добытчики золотоносных руд –
не требуют ни славы, ни награды
за свой высокий, бескорыстный труд.
Огню таланта, а не мгле забвенья
сродни библиофильские сердца.
Они стучат во имя вдохновенья,
во славу КНИГИ,
в честь ее творца!
,*
Полированной смолки
краснота затекла.
Прогибаются полки –
не подвинуть стекла.
Время к книгам все строже:
постарели уже
переплеты из кожи
и бумага верже.
Счастлив тот, кто в развалах
букинистов знавал,
в полутемных подвалах
видел книжный навал.
В прошлом стоило рыться,
верить призрачным снам,
чтоб смогло сохраниться
все, что дорого нам.
Блики солнечных зайцев,
переплясы зарниц,
трепет чувственных пальцев,
тихий шорох страниц,
радость стиля и слога…
Дом без книги убог.
Кто сказал, нету бога?
К н и г а -
светлый наш бог!
*
То послушный он и тихий,
то он чрезвычайно смел –
по линолеуму штихель –
так ходил, как будто пел.
Мастер правил песню стали:
у него из-под руки
удивленно прорастали
тонких стружек языки.
Грифа тень.
Изломы линий.
Штихель вычертил луну.
Как маэстро Паганини,
ветер трогает струну.
Улыбается, кивает,
доброй зависти полна,
в синий омут уплывает
полнощекая луна…
*
О, до чего мудра и многолика
экслибриса чудесная страна,
но журавли пронзительного клика
не принесут в нее…
Живет она
другой,
особой жизнью в человеке –
без суеты и лишней похвалы.
Границы книги и библиотеки
становятся экслибрису малы.
Уходят в необъятные просторы
кораблики таланта и труда.
Мы, люди, на свои сужденья скоры:
нет-нет и ошибемся иногда.
А где-то мастер,
не привычный к лести,
в кругу забот и повседневных дел
о книжном знаке
добрых ждет известий,
как самый настоящий корабел.
*
Экзотика странного мира
крадется непрошено в стих…
Себе сотворили кумира
любители таинства книг –
из звезд черно-белых и лилий,
богатства стремительных линий,
разумной симметрии их.
Игрою загадочных пятен,
символикой знак нам понятен.
*
Экслибриса листок белесый,
несущий четкий силуэт…
Да, это он – звонкоголосый
твой сын, Россия, твой поэт.
Дуэльных пистолетов пара
в сюжет графический легла
на фоне траурном чехла.
…Того смертельного удара
ничья рука не отвела.
Зрачком предательским отмечен,
и… поглотила пелена.
Но жив он, весел и беспечен
на книжных знаках Кузьмина.
Еще нас не тревожит память
посмертной мраморной плиты –
над Пушкиным кружится замять
в офорте легком Калиты.
Поэта в зыбком свете свечки
штрихи фроловские вернут,
как будто там,
у Черной речки,
тех черных не было минут.
Художникам небезразличен
высокий взлет его стиха –
поэт навеки возвеличен
союзом лиры и штриха.
В экслибрисах неодинаков,
как и в его черновиках…
В бессмертье верю книжных знаков,
хранящих Пушкина
в веках!
*
Мы всегда вспоминаем
полотна Сарьяна,
будто добрые-добрые детские сны,
потому что родные края постоянно
самых ярких сарьяновских красок
полны.
Мы весной вспоминаем полотна Сарьяна
в пору первых подснежников,
в пору, когда
на косых парусах голубого тумана
ноздреватые льдины уносит вода.
Вспоминаем мы летом
полотна Сарьяна.
Лето в тихом бору
нам оставило след –
раструсило оно
по брусничным полянам,
словно сено,
свой теплый,
свой солнечный свет.
Осень – мы вспоминаем
полотна Сарьяна.
Стали гуще пласты черноземной земли,
на флагштоках стволов
листья рдеют багряно,
улетают к Сарьяну от нас журавли.
*
Как ходики, заведено,
с завидным постоянством,
кует,
кует мне жизнь оно
в зареберном пространстве.
Оно стучит – но вот беда! –
настойчивое слишком,
оно нигде и никогда
не просит передышки.
А вдруг случится что в пути,
и стихнут молоточки –
дай, сердце, песню довести
мне до последней точки.
*
Веселый деревянный Буратино,
извечно буду у тебя в долгу:
плывет,
плывет по небу бригантина,
а я оставить землю не могу.
Здесь угловато громоздятся краны,
алеют флаги,
колосится рожь.
Малыш из книжки – ты же деревянный,
и никогда меня ты не поймешь.
Придет черед –
я поднимусь пшеницей,
паду росой и у дорог в кольце
останусь песней,
звонкогорлой птицей,
скупой слезою на родном лице.
*
И з А н т а н а с а Д р и л и н г и
ПОЧЕМУ УМЕР КОРОЛЬ
(Баллада)
Из колодца глубин вселенских,
с неведомого созвездия
раз спустилась легко на землю
с золотыми крылами птица.
Земляне, собравшись, ахали.
Удивлялись и восхищались
все земные края прилету
посланца золотозвездного.
И когда приземлилась птица, -
на высокое дерево села
и, длинную шею вытянув,
вдруг открыла свой клюв блестящий.
И запела она красиво.
Никто на земле не пел еще
подобно неведомой гостье,
что чудесную песнь дарила,
сама наслаждаясь пением,
выплетая венок свой звонкий.
И дрожал напряженно воздух,
и люди с великой радостью
этой песне внимали чутко.
И она в их сердцах забилась.
От радости люди плакали.
Ну, а птица – все пела, пела…
Мир, наполненный птичьим пеньем,
звенеть продолжал неистово
много дней и ночей бессонных.
Но, спусти какое-то время
людей – почти нет под деревом,
на котором сидела птица
со своим золоченым клювом.
Они разбрелись скучающе.
И в какой-то из дней обычных
не явился никто послушать
сверкающей птицы пение,
потому что уже привыкли,
что поет она постоянно,
что именно так – не иначе –
и должно продолжаться вечно.
Ну, а птица – все пела, пела…
И было однажды сказано,
что не так интересна песня,
надоела она всем людям,
а птица всех только радует
опереньем своим богатым.
А коль так, то, конечно, надо
ее пристрелить и перьями
украсить пустую корону.
Ослепленный таким подарком,
король непременно властвовать
на земле королевской станет,
как любой, кто имеет счастье.
И ружья тогда жестокие
вдруг нацелили люди в птицу.
Очень метко они стреляли.
И выстрелы их смертельные
наповал поразили песню.
Прямо в сердце поющей гостьи
все пули попали точные.
Бездыханной упала птица.
Тишина вдруг настала в мире,
и ужасной она казалась.
И сил не хватило выдержать
тишины…
И король скончался.
С литовского.
*
С О Д Е Р Ж А Н И Е
И ЗОЛОТОЙ, И МЕДНЫЙ ЛИСТОПАД
?Простор прозрачен и печален?
?Сентябрь наполнен тихой нежностью…?
?Снова утро сторожат…?
?И снова тучи, что это такое!,,?
?В глазах цветов таится страх?
?Мне приметы осени…?
?Зноем августа прогреты…?
?Люблю волшбу осин осенних?
?Отпылали леса…?
?Уж эти мне оранжевые кони!..?
?Нынче мне и похвалиться нечем…?
?Не соглашайся с пересудом…?
?Осенний заберег…?
?Тусклая полудь лиманов…?
?На хрустальном, хрупком стебле…?
?Загадай звезду на завтра…?
?Своих обыденных, наивных…?
ЖУРАВЛИ ВОСПОМИНАНИЙ
?Сентябрь ожжет прохладой ранней…?
?Не увидится, так приснится…?
?Мне этот дом давно знаком?
?Где березы водят хороводы…?
?Не спешны, но могучи…?
?За речкой в красе своей медной…?
?И опять двурогий…?
?Опушкой леса оторочен…?
?Здравствуй, дочь!..?
?Серебрятся, словно перстни…?
?О девочка…?
?Какая степь!..?
Молчание
?Где трепет Вечного огня…?
Священная память
?Мир остывших метелей…?
?Кто знал, что миг земной орбиты…?
?В осеннюю глухую борозду…?
?Нам чувство тревоги знакомо…?
?А какова у дерева душа?..?
?Губы мои солоны?
?Под ярким солнцем заблистала…?
?Наплывает, дымчато клубится…?
?Итак, швартовы отданы…?
?Рамонь. Рамонь!..?
?Прабабки с пыльными платками…?
?Ценю обыденность во всем…?
?Я знаю, обоюдно страшен…?
?В сквере зябнет пустая скамья?
?На исходе рассветных…?
?Простуженно, без интереса…?
?Ну скажи мне, как не быть поэтом…?
?Потерянная, жалкая Жар-птица…?
?Мне стекла кажутся морями…?
?Лежит тяжелая, отважная…?
?Кто говорит, что нет сухой воды??
?Бывает – подлость рядом ходит…?
?Я с топором по рощам не ходил…?
?Звезды мои падучие…?
?Нам лгут кривые зеркала…?
?Сколько раз, увы, мою весну…?
?Прохлынули апрельские лучи…?
?Когда же на земле был мир спокойным?..?
В детство иду
ВЫСОКОЙ СТРАСТИ ВОЛШЕБСТВО
?Сентябрь развесил облака…?
?Не прорастет забвения трава…?
?Мы привыкли трудиться…?
?Серебро подарено вискам…?
?Негаснущим светильником в ночи…?
?Я живу с Кольцовским сквером рядом…?
?Библиофилы!..?
?Полированной смолки…?
?То послушный он и тихий…?
?О, до чего мудра и многолика…?
?Экзотика странного мира…?
?Экслибриса листок белесый…?
?Мы всегда вспоминаем полотна Сарьяна…?
?Как ходики, заведено…?
?Веселый деревянный Буратино…?
Почему умер король. (Баллада)
Метки: