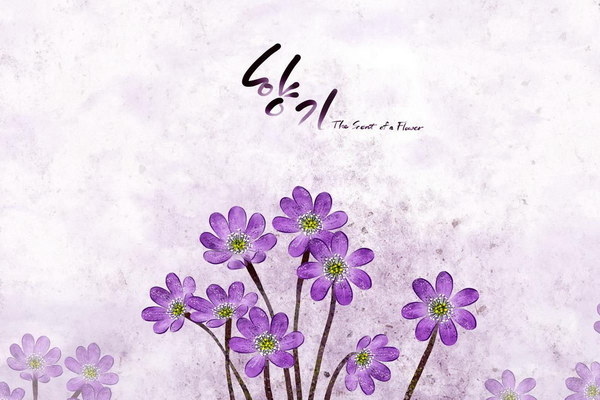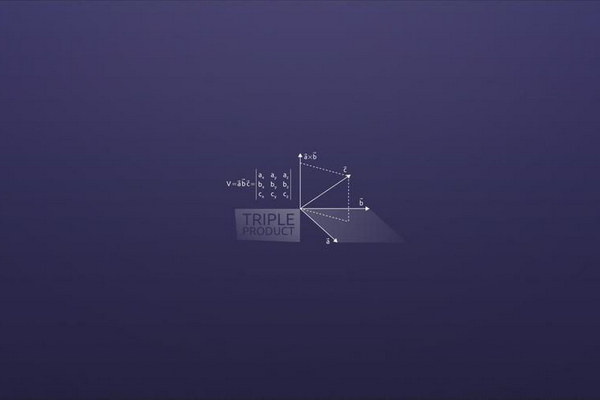Из польской поэзии, Чеслав Милош
Лауреат Нобелевской премии 1980 г.
ПОЛЬСКИЙ ПОЭТ
Польский поэт с большим усилием преодолевает в себе всё закрепившееся в языке наследие беспокойства за судьбу страны, втиснутой меж двумя державами. И этим он отличается от поэта более счастливых языков.
Курдский поэт занят исключительно судьбой курдов. Для американского поэта не существует понятия “судьбы американцев”. Польский поэт всегда посередине.
Не из этой ли схватки двух тянущих в противоположные стороны сил должна вытекать специфика польской поэзии? Она заметна в стихах, ничего с виду не имеющих общего с историей, как в любовной поэзии Анны Свирщинской.
Чеслав Милош, из книги “Пес придорожный”
УПАДОК.
Смерть человека- словно падение сильного царства,
Имевшего армию мощную, вождей и пророков,
Порты богатые, и на всех морях корабли.
А теперь не придёт оно ни к кому с помощью,ни с кем не заключит
перемирия.
Ибо пусты его города, население в рассеянии,
Осотом поросла его земля, когда-то дававшая урожай.
Забыты его повеления, язык его утрачен.
Сельский диалект ещё где-то далеко, в недоступных горах.
Перевод - Лев Бондаревский
Так мало
Я сказал так мало.
Коротки дни.
Короткие дни
Короткие ночи
Коротких лет.
Я так мало сказал,
я не смог.
Мое сердце истомилось
восторгом,
отчаянием,
ненужным усердием,
надеждой.
Челюсти Левиафана
сомкнулись на мне.
Нагой лежал я на берегу
Безлюдного острова.
Уволок меня в бездну
Белый зверь мироздания.
И теперь я не знаю
Что было реальностью.
Построчный перевод М.Давиша
* Левиафан — чудовищный морской змей,
упоминаемый в Ветхом Завете,
иногда отождествляемый с сатаной.
Портрет 2-ой половины ХХ века.
Скрытый за братской усмешкой,
Презирая читателей газет,политических жертв
диалектики,
Произнося слово демократия с ледянящим взглядом,
Ненавидя физиологические людские радости,
Полный воспоминаний о тех,с кем ел-пил и объединялся,
А через мгновение перерезал им горло,
Хвастая танцами и весельем в ресторанах ,как
Способом против публичного гнева,
Призывая культуру и искусство,а думая об игрищах в цирке,
Смертельно уставший,
Во сне или под наркозом бормотал : Господи,Господи.
Приравнивая себя к римлянам с культом Митры,
Смешался с культом Иесуса.
Старые веры в нем не угасли. Иногда думает,что он
Во власти демона.
Громя прошлое,боится,что разгромив его,
Не будет, где преклонить голову.
Выбирает игры в карты и шахматы,чтобы собственных
Тайн не выдать.
Опираясь рукой на сочинения Маркса дома читает
Евангелие.
С иронией смотрит на процессию,выходящую из разбитого храма .
Руины его городов имеют цвет конского мяса.
В пальцах держит памятку об павших в антифашистских
Восстаниях.
Построчный перевод М.Давиша
ОБЛАКА
Облака, облака мои страшные,
Как бьется сердце, какая жалость и грусть земли,
Облака и тучи, белые, безмолвные,
Смотрю на вас на рассвете, и глаза мои слез полны,
И знаю, что во мне надменность, вожделенье,
Жестокость и зерно презренья
Сна мертвого сплетают ложе,
А ложь моя великолепьем красок
Закрыла правду. Опустив глаза,
Я чувствую, как вихрь меня пронзает
Сухой, палящий. О, как вы страшны,
Вы, стражи мира, облака!
Хочу уснуть,
Пусть милосердно примет ночь меня.
1935
ЛЮБОВЬ
Любовь это взгляд на себя самого
Со стороны, как на что-то чужое:
Ты лишь один из тысячи вокруг.
Кто так поглядит, сам не зная того,
Тревожное сердце свое успокоит,
Ему и дерево, и птица скажут: друг.
Тогда и он, и все, что есть снаружи,
Себя исполнив, светом засияет.
И пусть не знает сам, чему он служит:
Не лучше служит тот, кто понимает.
1943
ПЕСНЯ О КОНЦЕ СВЕТА
В день конца света
Пчелка тихо кружит над настурцией,
Рыбак починяет блестящую сеть.
Веселые дельфины скачут в море,
Воробышки расселись на заборе
И кожа змеи лоснится на солнце, как медь.
В день конца света
Идут по полю женщины с зонтами,
В газоне с краю пьяный засыпает,
Нас зеленщик на улицу зовет,
И желтый парус к острову плывет,
И скрипки звук, вверху зависнув,
Звёздную ночь нам отворяет.
А те, кто ждали молнии и грома,
Разочарованы.
А те, кто ждали знамений и архангельской трубы,
Не верят в то, что все уж началось.
Пока луна и солнце в небесах,
Пока у розы желтый шмель в гостях,
И детки розовенькие родятся,
Не верится, что все уж началось.
Лишь старичок седой, что мог бы быть пророком,
Но не пророк он - не клянет нас и не судит,
Бубнит, подвязывая помидоры:
Другого конца света не будет,
Другого конца света не будет.
1944
СУДЬБА
Разве одно и то же - желудь и дуб тенистый?
Разве одно и то же - папоротник и уголь?
Разве одно и то же - капля и волны быстрые?
Разве одно и то же - металл и колечко круглое?
Зачем же спрашивать меня о строчках давних
И помнить девушек чудные имена?
Пускай стихи мои живут, как знают,
Пусть девушки мои другим детей рожают,
Мне - уголь, дуб, кольцо и пенная волна.
1944
БЕДНЫЙ ХРИСТИАНИН СМОТРИТ НА ГЕТТО
Пчелы обустраивают красную печень,
Муравьи обустраивают черную кость,
Начинается раздирание, топтание шелка,
Начинается толчение стекла, дерева, меди, никеля,
/серебра, гипсовой
Штукатурки, жести, струн, труб, листьев, шаров, кристаллов -
Пых! Фосфорический огонь с желтых стен
Заглатывает волосы людей и животных.
Пчелы обустраивают алебастр легких,
Муравьи обустраивают белую кость,
Раздирается бумага, каучук, полотно, кожа, лен,
Волокна, ткани, целлюлоза, волос, змеиные чешуйки, проволока,
Рушится в пламени крыша, стена, и жар обнимает фундамент.
Теперь есть лишь песчаная, затоптанная, с одним деревом
/без листьев
Земля.
Не спеша, буря свой туннель, продвигается стражник-крот
С маленьким красным фонариком, прикрепленным ко лбу.
Он касается тел погребенных, считает, продирается дальше,
Различает человеческий пепел по висящему радугой пару,
Пепел каждого человека по иному радуги цвету.
Пчелы обустраивают красный след,
Муравьи обустраивают место после моего тела.
Я боюсь, так боюсь я стражника-крота.
Его веки набрякли, словно у патриарха,
Что немало сиживал при свечах,
Читая великую книгу нашего рода.
Что скажу ему я, новозаветный еврей,
Уж две тысячи лет как ждущий пришествия Иисуса?
Мое тело разбитое выдаст меня его взгляду,
И сочтет он меня меж пособников смерти:
Необрезанных.
1945
ОШИБКА
Я думал, что все это подготовка,
Чтоб наконец-то научиться умирать.
Рассветы, сумерки, в траве под кленом
Лаура, без трусов уснувшая с малиной в изголовье,
Пока Филон, счастливый, моется в ручье,
Рассветы и года. Любой бокал вина,
Лаура, море, суша и архипелаг,
Нас приближают, верил я, к одной лишь цели,
Служить должны для этой только цели.
Но паралитик с улицы моей,
Которого передвигают вместе с креслом
Из тени к солнцу и от солнца в тень,
Глядит на кошку, листья и блестящие авто,
Одно и то же бормоча: "Beau temps, beau temps".
И, без сомнения, прекрасно наше время,
Насколько слово "время" здесь уместно.
1957
ЗАДАЧА
С тревогой думаю, что жизнь свою я оправдал бы,
Лишь исповедь публично совершив,
Раскрыв обман и мой, и времени того:
Нам разрешалось верещать, как карликам и бесам,
Но под запретом оставались строгим
Достойные и чистые слова.
И так была сурова кара,
Что, вымолвив хотя б одно из них,
Уж человек себя считал погибшим.
1970
ДАР
Что за счастливый день,
Рано осел туман, я работал в саду,
Колибри висели над цветком каприфоли.
Не было в мире вещи, которой бы я пожелал.
Никого, кому стоило бы завидовать.
Что плохого случилось, все позабыл.
Мне не было стыдно за то, что такой я, как есть,
И ничто у меня не болело.
Выпрямляясь, я видел парус в морской синеве.
1971
ГДЕ БЫ
Где бы я ни был, в каком бы месте
В мире, от людей скрываю убежденность в том,
Что не отсюда я.
Как будто послан был, чтобы впитать побольше
Цветов и вкусов, звуков, опытов и ароматов,
Всего, что стало
Долей человека,
Превратить то, что узнал я,
В колдовской реестр
И отнести туда,
Откуда я пришел.
2000
КАК МОГ ТЫ
Не пойму я, как мог Ты создать этот мир,
Безжалостный и чуждый человеческому сердцу,
В котором монстры совокупляются, и смерть -
Немой тюремщик - время сторожит.
Не верю, что Ты этого хотел.
Наверно, это предкосмическая катастрофа,
Победа инерции, что выше Твоей воли.
Бродячий рабби, который назвал Тебя нашим отцом,
Безоружный против законов и чудовищ этой земли,
Опозоренный и отчаявшийся,
Да укрепит меня
В моих молитвах к Тебе.
2002
Перевод Владимир Орданский
Источник,сайт - Сетевая Словесность, публикация, 2011-2012.
Россия[1]
Не вижу смысла прикидываться белой вороной и скрывать болезнь, гложущую любого поляка; наоборот, ее нужно признать и привыкнуть, в конце концов, обходиться с ней по возможности беспристрастно. Итак, поляки и русские друг друга не любят. Точней, испытывают друг к другу самые разные неприязненные чувства от презрения до ненависти, что, впрочем, не исключает какой-то непонятной взаимной тяги, всегда, тем не менее, окрашенной недоверием. Между ними стоит — воспользуюсь словами Джозефа Конрада — incompatibility of temper[2]. Может быть, любой народ, если смотреть на него как на единое целое, а не сообщество личностей, способен лишь оттолкнуть, и соседи узнают на его примере одну только неприятную правду о людях? Полякам, не исключаю, известно о русских то, о чем те и сами подозревают, но не хотят себе в этом признаться, — и наоборот. Поэтому неприязнь к полякам у националиста Достоевского — что-то вроде самообороны. Уважительно он отзывается о них только в “Записках из Мертвого дома”, хотя и здесь сотоварищи по каторге, бронированные католичеством и патриотизмом, на каждом шагу подчеркивающие свою чужеродность, если не прямое превосходство над прочими, не пробуждают в нем теплых чувств. Похоже, каждое столкновение с русскими полякам в тягость и настраивает их на самозащиту, поскольку разоблачает перед самими собой.
Описать запутанные истоки распри так же трудно, как причины застарелой вражды двух семейств, испокон веку живущих на одной улице; они могли бы показаться чем-то сугубо местным и провинциальным, не скрывайся за ними начатки событий мирового масштаба. Россия сумела стать такой, какой стала, только упразднив граничившую на юге с Турцией польско-литовскую республику и начав в 1839 году в административно-принудительном порядке обращать в православие жителей огромных территорий, по большей части — униатов, а стало быть — жертвуя поляками, подчинявшимися папе Римскому. Там же, где униатская церковь, как в Галиции при Габсбургах, удержалась, ее приверженцев силой обратили в православие уже после второй мировой войны — эпизод, вне связи с прошлым попросту непонятный.
Обычно говорят, что поляки недоброжелательны к русским, помня о пережитых обидах. Отчасти это так. И корни здесь уходят куда глубже двух последних веков, а любые перемены в Европе свидетельствуют: при любых внешних сдвигах основа остается прежней. Ее не коснулись ни революция во Франции, ни октябрьский переворот в России, ни послевоенный приход к власти коммунистов в Польше. Может быть, каждая цивилизация несет отпечаток того периода, который был для нее ключевым. Франция обязана всем своему городскому сословию — силе, созидательной и мощной уже за два столетия до Революции. А в Польше в эту эпоху складывалась дворянская культура, и польский крестьянин или рабочий по сей день колют ею глаза русскому, сплошь и рядом неся на себе ее следы , почему и получают от него злорадную кличку “пана”.
Начало всему — шестнадцатый и семнадцатый века. Сейчас трудно себе даже представить, что польский язык — язык господ, к тому же господ просвещенных — олицетворял изысканность и вкус на востоке до самого Полоцка и Киева. Московия была землей варваров, с которыми — как с татарвой — вели на окраинах войны, но которыми особенно не интересовались: в тогдашней польской словесности чаще встретишь портрет венгра, немца, француза или итальянца, нежели упоминание о подданных русского царя. У этих последних авторы отмечают непостижимую покорность произволу властей, склонность нарушать данное слово, коварство и высмеивают дикость их обычаев (так французам казались дикими обычаи Сарматии). И движение идей, и колонизация лесостепной зоны шли с запада на восток. Все ценное — образцы ремесла, архитектуры и письменности, спора гуманизма и Реформации — приходило в Польшу из Фландрии, Германии, Италии. Если какие заимствования с востока и были, то — через посредство Великого торгового пути — лишь из турецких земель, особенно во всем, что касалось сбруи, упряжи и соответствующего словаря. Московия же той поры, понемногу превращаясь в Россию, при всем ее большем или меньшем могуществе не представляла собой для поляков ничего привлекательного. Оставившие в польской культуре несводимый отпечаток XVI и XVII столетия для России наступили лишь в XIX веке. Из этого ощущения пустынной полосы со стороны востока у поляков сложился образ России как чего-то запредельного, находящегося за краем света. Свое поражение в войне поляки встретили недоуменно, как восприняли бы, наверно, победу татар: если в ней и крылся какой-то смысл, то разве что наказания за грехи. Только я-то думаю, что настоящим грехом поляков оставалась сама эта веками не затихавшая — в литературе, на сеймиках, в парламенте — дискуссия о собственных грехах, из которой на деле так никогда ничего и не следовало.
Побежденные презирали победителей, не видя в них ни малейших достоинств, кроме слепого послушания приказу. А оно раздражало. Закрадывалась мысль: да, вы сильны, но какой ценою? Напомню, что между русскими и польскими писателями — как правило, эмигрантами, жившими в Париже, — не умолкал спор, в котором ни одна из сторон не щадила другую. Антипольские стихи Пушкина дышат гневом на безумную гордыню побежденных, не признающих, что проиграли бесповоротно, а все еще мечтающих о возмездии, хитрящих и настраивающих дипломатические канцелярии Европы против России. В конце концов, в этих строках нет ничего, кроме проклятий народу, который пытается отстоять свою независимость. В них еще жива память о давнем соперничестве: существование самостоятельной Польши снова поставило бы в повестку дня вопрос, кому должны отойти Полоцк и Киев, иначе говоря — быть или не быть Российской Империи. Не зря Пушкин предсказывает, что “славянские ручьи сольются в русском море”.
Моральная ситуация польского поэта, революционера и союзника итальянских карбонариев, была, понятно, не в пример лучше, чем у его собрата по перу (и товарища, пока их не развела политика), наполовину узника царского двора. Жестокий антироссийский памфлет Мицкевича, написанный стихами, до сего дня образцовыми по лаконизму, попадает точно в цель как раз потому, что ненависть к самодержавию соединяется здесь с сочувствием к его жертве — народу России. Увиденное польским поэтом по сути не расходится с гоголевскими сатирами, хотя есть тут и нечто новое: все-таки на страну смотрит иноземец, чьи привязанности не смягчают критического взгляда. Его приводит в ужас бесчеловечность этих просторов, бесчеловечность отношений между людьми, пассивность и апатия подданных. И сам населяющий эту страну народ пугает его, как бесформенная глыба, которой еще не коснулся искусный резец истории:
Но вот, наконец, повстречались мне люди,
Их шеи крепки и могучи их груди.
Как зверь, как природа полночных краев,
Тут каждый и свеж, и силен, и здоров.
И только их лица подобны доныне
Земле их — пустынной и дикой равнине.
И пламя до глаз их еще не дошло
Из темных сердец, из подземных вулканов,
Чтоб, вольности факелом ярким воспрянув,
Той дивной печатью отметить чело,
Которой отмечены люди Восхода
И люди Заката, вкусившие яд
Падений и взлетов, надежд и утрат,
Чьи лица — как летопись жизни народа.
Здесь очи людей — точно их города,
Огромны и чисты. И, чуждый смятенью,
Их взор не покроется влажною тенью,
В нем грусть состраданья мелькнет без следа.
Глядишь на них издали — ярки и чудны,
А в глубь их заглянешь — пусты и безлюдны.
И тело людей этих — грубый кокон,
Хранит несозревшую бабочку он,
Чьи крылья еще не покрылись узором,
Не могут взлететь над цветущим простором.
Когда же свободы заря заблестит, —
Дневная ли бабочка к небу взлетит,
В бескрайнюю даль свой полет устремляя,
Иль мрака создание — совка ночная?[3]
Поэма Мицкевича суммирует взгляды поляков на Россию. Через несколько десятков лет этот же страх перед бесформенностью и моральным хаосом выплеснется в романе Джозефа Конрада “Under Western eyes”[4]. Хоть сам автор этого не признавал, по-моему, его книга задумана как спор с русским мессианством Достоевского.
Сегодня, когда я пишу эти строки, гитлеризм отошел в прошлое. Но, по всей видимости, не отошли в прошлое распространенные в свое время среди немцев взгляды на славян — и особенно на ближайших соседей поляков — как на полулюдей. Нацисты использовали эти взгляды, оправдывая самые чудовищные злодеяния. Не стоит, однако, впадать в крайности: разумеется, поляки знают, какие из их пороков позволили немцам утвердиться в столь приятном чувстве собственного превосходства, — разгильдяйство, безрукость (худые мосты и раскисшие дороги входят в типовой для европейской литературы образ Польши еще со времен средневековья), легкомыслие, пьянство, неспособность устроить жизнь gemutlich[5]. Понимают они и свои преимущества, редко встречающиеся у немцев, которых зовут за это тупицами и тугодумами, — свою фантазию, ироничность, дар импровизации, издевку над всякой властью, позволяющую как бы растопить любую политическую систему изнутри (так итальянцы “очеловечили” фашизм, превратив его в подобие маскарада). Столь охотно подчеркивавший свое польское происхождение Фридрих Ницше знал, что делает.
Так или иначе, контраст между двумя этими стереотипами мог бы послужить полякам наглядным уроком, заставив вдуматься в их отношение к русским. Ведь именно в России неумение обустроить окружающую жизнь, иначе говоря — нерадивость во всем, относящемся к gemutlichkeit[6], помноженная на взяточничество и казнокрадство, достигли масштабов воистину невиданных, а любое организаторское усилие давало результат лишь в том случае, если опять-таки служило прямому укреплению все той же власти. И как раз поляки — всегда на диво усердные за границей — оказываясь по принуждению или доброй воле в России, выступали там в роли цивилизаторов. Конечно, их общее суждение о русских — не в пример мнению немцев о них самих — всегда оставалось неоднозначным. Но, что ни говори, в нем неистребимо ощущался оттенок пренебрежения, приправленного жалостью. Традициям ли благодаря, католическому кодексу морали или принадлежности к Западу, но поляки так или иначе чувствовали свое превосходство. Их бесило какое-то оловянное спокойствие в глубине русского характера, долготерпение русских, их упрямство, их чуждое людям обдуманного компромисса стремление к крайностям, отчего и память о понесенном разгроме была особенно унизительной. А для русских польская привычка к условным реверансам, улыбкам, вежливости и лести выглядела пустой формальностью и потому отдавала фальшью. Они, со своей стороны, пестовали в себе чувство превосходства над легковесными, неглубокими, мотыльковыми поляками с их раздражительным гонором и тягой к самосожженчеству в героическом и бессмысленном порыве. Достаточно проницательные, чтобы не путать мучимую отсталостью от Запада, более старую культурную формацию с нечистой совестью прихлебателей самодержавия, они вполне отдавали себе отчет в том, почему в польском воздухе носится так и не брошенное по их адресу слово “варвары”. Их возбуждало именно то, что отталкивало: поэтичность, ирония, легкое отношение к жизни, латинский церковный обряд.
Поляки очеловечивали себя, влюбляясь в Запад, не отрывая глаз от Франции. С родиной Монтеня их связывало лишь то, что они постепенно — поколение за поколением — освоили и впитали. Это не так мало. И все же структура французского общества была в корне иной. Как с головы до пят дворянину (или наследнику дворянской культуры) понять с головы до пят обывателя? Структура общества скорее сближала Польшу с Россией: и там, и здесь капитализм возник поздно, еще не оставив необратимых следов в психике. Расчеты поляков на помощь Запада, питавшиеся по преимуществу верой в пустые посулы, оказались обмануты. Наполеона разбили, а вслед за ним канули и польские легионы, которые он успел бросить против повстанцев на Гаити, где еще и сегодня встречаешь чернокожих людей с польскими фамилиями — потомков солдат, так и не сумевших вернуться в Европу. И все же именно наполеоновская легенда окончательно кристаллизовала политические установки поляков, всегда принимавших за аксиому, будто свобода — это “веяние Запада”. Позже, надеясь свергнуть царей и тиранов, они ставили на демократическую революцию. Но революции гасли без видимых результатов, а Крымскую войну даже при желании не удалось бы выдать за крестовый поход.
На протяжении всего девятнадцатого века в поляках укреплялось что-то вроде “комплекса Кассандры”. Если исключить минутные, всегда несколько риторические приступы гнева и оставить в стороне двух таких ярых русофобов среди пишущей братии, как Карл Маркс и маркиз де Кюстин, то поляки постоянно сталкивались с непостижимой для них любовью западноевропейцев и к России, и к ее символу — власти русского царя. Сколько они ни кричали, что на просторах Евразии зреют гигантские амбиции и гигантские возможности, союзники, вежливо выслушав все это, отправлялись за сведениями о неблагонадежных элементах в российское посольство. Поэтому чувства поляков к Западу всегда оставались по меньше мере двусмысленными, а то и втайне злорадными.
Казалось, борьба с царизмом должна была породнить польских и русских революционеров. Но, что бы там ни толковали учебники, прочный союз между этими одинаково готовыми пожертвовать собой и одинаково образованными ( поскольку принадлежавшими и там, здесь к просвещенным классам) людьми затруднялся той же incompatibility of temper, иными словами — различием исторических формаций. Даже самые радикальные поляки опирались на богатейшие внутренние ресурсы, любя собственное прошлое и потому — зачастую бессознательно — видя в революции не начало чего-то, нигде и никогда не существовавшего в помине, а средство распространить на всех давние парламентские привилегии дворянства. Если революция несла с собой справедливость, то в первую очередь ей предстояло упразднить господство одних народов над другими, восстановив тем самым нарушенную преемственность государственного существования. Стремление реформировать общество всегда шло у нас рука об руку со стремлением к независимости, но поскольку это последнее объединяло (пусть не во всем) и постепеновцев, и консерваторов, то острота наиболее радикальных программ притуплялась. Другое дело — русские революционеры: их в ту пору занимало совсем иное. О своем суверенном — да еще как! — государстве они могли думать лишь с горечью. Ничто — ни первейшая опора трона, религия, ни прежние органические устои, которых они не любили, видя в них только цепи и всевластие царей, — не сдерживало их мечтаний. Поэтому они и обращались исключительно к будущему, ставя целью смести все и начать на земле, обращенной в tabula rasa, строить наново. Движение нигилистов, со всеми его неисчислимыми последствиями, не коснулось Польши. И даже когда революционеры обоих народов приходили вроде бы к полному взаимопониманию, им так и не удавалось забыть о яблоке раздора — Белоруссии и Украине. Упрекая своих польских соратников в том, что они идут по пути Речи Посполитой, постепенно полонизировавшей эти края, поддерживая униатскую или грекокатолическую церковь, русские говорили правду. Но правы были и поляки, упрекая теперь уже своих русских сотоварищей в замыслах русифицировать земли, языком официальных бумаг называемые — как единственно возможное и само собой разумеющееся — Западной Россией. А поскольку обе стороны признавали тамошние языки всего лишь местными диалектами, то все то дело о no man’s land окончательно тонуло в зыбкости и тумане.
В начале века иные наши марксисты, увидев, что национальное чувство гасит революционные порывы и ведет к классовому миру, объявили задачей номер один переворот в масштабах всей империи и подняли голос против движения за независимость. Эта ошибка Розы Люксембург дорого обошлась ее приверженцам и наследникам. Представьте себе сегодня призыв к революции в Африке с условием, что она останется частью Франции.. Социалисты-”независимцы” — и среди них Пилсудский — естественно, взяли верх. Из-за безвластия своего восточного соседа Польша вышла из первой мировой войны независимой, а война между ней и Советской Россией в 1920 году стала народной, получив поддержку польских рабочих и крестьян. Некоторые позднейшие события на других континентах — скажем, в арабских странах — помогают понять такие черты установившегося тогда порядка, как подогревание народных страстей, господствующее положение интеллигенции, в социологическом смысле прежде всего связанной в Польше (в отличие от опирающейся на фермеров Прибалтики) с поместьями, переживавшими уже экономический закат, или, наконец, роль армии.
Еще один ключ к ситуации тех лет — поражающая бесчисленными парадоксами ненависть левых к правой группировке так называемых народных демократов. Эти последние склонялись в прошлом к соглашательству с царем, сулившим “мир”, левые же следовали традициям бунтовщическим и антироссийским. Они-то в первую голову и раздули легенду об осмотрительности Пилсудского. И когда тот, опираясь на армию, пришел к власти, левые увидели в этом если не полный свой успех, то, по крайней мере, меньшее зло из возможных — барьер, спасающий от напора правых. Однако с концом парламентаризма и свободной игры политических сил как социал-демократы, так и прогрессисты любых мастей с неизбежностью вступили в пору постепенного распада. А что до наследников Розы Люксембург, коммунистов, то они нарушили всеобщее табу, и их трагедия свелась к метаниям в тупике. Шансов они имели не больше, чем, скажем. мексиканская партия, которую бы обвинили в попытке присоединить страну к Соединенным Штатам. С одной стороны, по ним стреляла полиция, с другой — Сталин, в конце концов завершивший игру , приказав в 1938 году прикончить вызванное в Москву руководство. Так исполнилось — правда, в перевернутом виде — предвидение Маркса, который в пору выхода “Коммунистического манифеста” считал одним из условий революции в Европе разгром восточной империи и восстановление Польши в границах 1772 года.
Маркс, нравится нам это теперь или нет, рассуждал о “европейской цивилизации” и делил народы на “плохие” и “хорошие”. На восточных окраинах той цивилизации он помещал три народа, к которым относился с симпатией, видя в ней созидателей и приверженцев свободы, — поляков, венгров и сербов. Панславизма он не переносил и — за двумя перечисленными исключениями — питал явную антипатию к славянам, всегда готовым, как он не раз говорил, служить слепым орудием тирании. Именно поэтому его статьи о международной политике производят на польских читателей действие необычайное: их мог бы написать поляк XIX века. Насколько точны оказались его тогдашние предсказания, можно убедиться и сегодня. Среди всех народов мира истинная и взаимная приязнь связывает поляков только с венграми и сербами.
Для моего поколения все эти, уже ставшие прошлым, сложности казались туманными и далекими. Мы росли в обычном государстве, чьи блеск и нищета оставались его внутренним делом, поскольку все так или иначе решалось в Варшаве, а не где-нибудь еще. Муки, заговоры, ссылка в Сибирь поминались в учебниках и, конечно же, вызывали сочувствие, но разум подталкивал нас относиться к романтическому пафосу прошлого с известной улыбкой. Россия в мыслях присутствовала, но как-то смутно. В конце концов, спор был закончен, нас разделяли пограничные столбы, а на страже стоял запрет вдумываться, исключена ли у нас их система. Марксизм, революция и прочее были их и только их делом. У себя пусть творят все, что заблагорассудится, нас это не трогает. Легко теперь назвать эту точку зрения глупостью. Но в ту пору она была общепринятой, а запретный порог — реальным, и всякий политик, не принявший их в расчет, совершил бы грубейшую ошибку.
В краю, зажатом между Германией и Россией, эмоциональные детерминанты складывались везде по-разному. В северо-западных и южных областях, по-прежнему числившихся в составе прусской и австрийской империй. такой детерминантов оставалась в первую очередь опора на традиционный немецкий “Drang nach Osten”. Кроме чудовищного мифа об ордене крестоносцев, немцы не имели ко мне ни малейшего касательства, языка их я не знал; при всем том, армия кайзера Вильгельма не оставила по себе особенно неприятных воспоминаний в наших краях. Крутя, как многие мои соотечественники, пальцем у виска при виде крепнущего гитлеризма, я глубоко переживал скорее уж драму эпохи в целом, чем задумывался над ролью в ней этих неотличимых друг от друга марсиан. Политику я зашифровывал в космических образах. А Россия была, на первый (и только на первый!) взгляд, совершенно конкретна: памятные с детства хаос и безмерность, но прежде всего — язык. За столом в нашем бедном и темном (как я теперь понимаю) доме русский был языком юмора именно потому, что его волнующе-брутальные оттенки никакому переводу не поддавались. В переводе такой, к примеру, отрывок из Щедрина, где два сановника осыпают друг друга бранью посреди веселящегося простонародья: “И ругались так ужасно, что восторженные босяки ежеминутно кричали “ура”[7], — попросту терял смысл. Главное, что через язык, притягивающий поляков и высвобождающий в них славянскую половину души, они интуитивно прикасались к самой сути русского: в языке было все, чему вообще стоило учиться у России. Но притягивал и, вместе с тем, настораживал он их — в этом, вероятно, и состоял урок — именно своей многозначностью. Нужно было втянуть воздух и нутряным басом выдохнуть: “Вырыта заступом яма глубокая”, — чтобы следом, беглым тенорком, прощебетать то же по-польски: “Wykopana szpadlem jama gleboka”. Ритмический рисунок ударных и безударных в первом случае выражал понурость, мрачность и силу, во втором — легкость, свет и слабость. Иначе говоря, с языком учились самоиронии и, вместе с тем, осмотрительности.
Однако понимание опасности мои сверстники перекладывали на других, а политический тупик, уже окрашивавший и мысль, и слово, старались так или иначе замаскировать. Им не приходило в голову, что отправленный в музей мартиролог вдруг придется начинать сызнова. А у меня если и было предчувствие катастрофы, то самое общее, в масштабе планеты и уж никак не страны. Это, кстати, должно было рано или поздно привести меня еще к одному конфликту с окружающими. Большинство поляков уже в первый месяц Второй мировой войны предпочло одним прыжком вернуться к старому и опереться на привычные шаблоны. Двадцать лет государственного суверенитета — срок слишком короткий , и нажитые за эти годы привычки стерлись, как пыльца с мотыльковых крылышек — в один миг. Действовало и сходство ситуаций: раздел страны между двумя врагами, тюрьмы, депортация, Сибирь, ставка на Францию и Англию, польские легионы на Западе. Политические идеи эмиграции сложились из тех же шаблонов. Освобождения ждали от разгрома и Германии, и России, поскольку так было в Первую мировую. Однако, как справедливо замечено, история однократна, а повторяясь — перемешивает трагедию с кровавым гротеском. Многие из нас, созревших мыслью в условиях, когда народные порывы могли вызвать разве что скептическую усмешку, пережили за годы войны нестерпимый внутренний раскол: чудовищно тяжело признаваться себе, что и умом, и глазами видишь все ту же фальшь застарелых штампов, когда этими штампами охвачены миллионы втоптанных в грязь и казнимых катами людей.
Все мы не раз попадали в ситуации, вынуждавшие как-то дистиллировать прежние смутные предчувствия, очищая их от случайностей и сводя к главному; вместе с тем, такие ситуации каждый раз бывают настолько непросты, что, пожалуй, правильней видеть в них своего рода метафоры, которые ведь всегда ближе к реальности, чем та или иная теория. Поэтому я предпочту не отправляться за самим собой в детские годы, а лучше шагну вперед и даже выйду за пределы Второй мировой войны в самый ее конец. Картина, как сейчас стоящая передо мной во всех подробностях, датируется январем 1945 года.
В большой горнице деревенского дома на лавках под стенами расселись около дюжины советских солдат и старшин. На коленях, обтянутых ветхим штатским сукном, они держали жестянку табаку, сворачивая цигарки из папиросной бумаги. Я их, напиравших плечами с обеих сторон (на лавке было тесно), совершенно не отделял сейчас от некоей мифической России. Может быть, человеку чужому, никогда прежде не встречавшемуся с русскими и не разбиравшему интонаций их голоса или смысла жестов, они показались бы чем-то новым, невиданным. Для меня же они были законными правоприемниками тех сокровищ, из которых черпали в свое время Достоевский и Толстой. И так же, как их предки разбили Наполеона, они разбили Гитлера. Взгляды всех сходились к центру избы, где стоял мужчина лет под тридцать, в белом кожухе до пят, с хорошо скроенным лицом распространенного в прирейнских областях типа. Пленный немец, завоеватель — и в полной их власти. Той зимой трупы в зеленых мундирах, вповалку лежавшие по полям, приоткрыв стекленеющую полоску зубов, ни вызывали у меня вздоха ни радости, ни печали. Чужие, как камни, они были всего лишь частью зрелища наказанной гордыни, и втоптанная в снег пряжка с выдавленным “Gott mit Uns” выглядела горькой иронией. И вот он стоял здесь, а за ним виделись аккуратные домики с ванной, елки в разноцветных шарах, старательно возделанные многими поколениями виноградники и музыка Иоганна Себастьяна Баха. Оторванный от своих — стоял перед чужими, у которых не было ни ванн, ни уложенных в сундук скатертей, полотенец и наволочек с вышитыми крестиком изречениями, ни грядки роз под окном, — только водка, единственное лекарство от убожества, нужды и невзгод. Глупый или, если хотите, наивный. И даже не в том было дело, что он один, а их много, и он безоружен, а они вооружены. Нет, психическая мощь их молчаливого ареопага превосходила его силы, он никогда еще не чувствовал при встрече с себе подобными такого напряжения, когда настоящая телепатия, обходясь без слов и знаков, разом сплачивает единицы в отдельное от них самих целое. От слова, крика или песни ему стало бы легче. Из них — по всей видимости, полуграмотных — била какая-то монументальная умудренность безучастия. И то, что он не мог прочесть в обращенных к нему глазах ничего, вгоняло его в ужас.
Видимо, я должен был его ненавидеть. И прежде всего — за его глупость, помноженную на глупость миллионов ему подобных и тем самым подарившую Гитлеру власть, а из него самого сделавшую слепое орудие смерти. Но я не чувствовал ненависти. Почему-то он представлялся мне на залитом солнцем склоне, в летней рубахе, за тачкой с фруктовыми черенками. Другие тоже не испытывали к нему ненависти. Он, как зверек в клетке, до того боялся неизвестности, что один из солдат встал и угостил его самокруткой, и это движение руки означало мир. Другой подошел и похлопал по плечу. Потом к нему шагнул старшина и стал что-то долго, вразумительно втолковывать. Затея напрасная, немец не улавливал ни слова, но не отрывал глаз от шевелившихся губ говорящего: пес, пытающийся угадать смысл слов хозяина. По дружелюбному тону он понял, что мстить ему не собираются, обидеть не хотят. “Да не трусь ты”, — с нажимом повторял старшина. Ничего плохого ему не сделают, война для него уже кончилась, он теперь не враг, а обыкновенный человек, будет себе мирно трудиться, сейчас его отправят в тыл. Жалость, больше того, сердечность в голосе успокоили немца, и он несмело улыбнулся — в знак благодарности. Когда один из солдат полусонно поднялся с лавки и без приказа повел его наружу, они повернулись все с той же апатией — вконец вымотанные люди, добравшиеся до привала. Минуты через две конвоир возвратился, волоча белый кожух, кинул его рядом со своим вещмешком и скрутил цигарку. Затягиваясь и поплевывая на пол, видящие всем видом выражали грустное раздумье о краткости человеческой жизни: “Не судьба”.
Жестоко, скажете вы? Но попробуйте увидеть этот случай тогдашними глазами. Немцы истребили бесчисленное множество советских военнопленных, бросив их за колючую проволоку на голодную смерть; сведения об этом разошлись среди солдат в мгновение ока, и при мысли о подобной опасности каждый поклялся сражаться до последнего. Число безоружных людей, уничтоженных гитлеровцами в Польше, выражалось цифрой, не уступавшей населению Швейцарии. Что до союзников, то их боровшимся с самосудом войскам удавалось иногда прятать пленных. Однако массовыми, особо обставленными действиями такого рода они только вызывали еще большую ненависть и презрение к немцам: жертвы, те при этом, на общий взгляд, как бы лишались даже остатков человеческого, делались отвратительными марионетками, что уже само по себе разжигало месть; в свое время подобный психический процесс, например, обдуманно возбуждался в массах самими нацистами, направляясь против евреев и поляков. В нашем случае солдаты убили немца не по злобе, а по велению необходимости. Необходимость воплощалась в хлопотах по отправке в тыл одного-единственного пленного, либо в белом кожухе. Может, с их точки зрения, забрать у человека теплую одежду и выгнать его на мороз было бы нехорошо, неправильно. Мы ведь сами назначаем себе границы необходимости, проводя черту между неизбежным и возможным. Разыгранную ими человечную комедию кто-то назовет подвохом, однако она всего лишь наилучшим образом выражала их внутреннюю потребность. Вполне искренне сочувствуя пленному, они вместе с тем считали, что такие дела следует делать по возможности мягко и тихо.
Кто знает, не здесь ли — самая суть нашего польского комплекса? Цепь сплетающихся хоть в какое-то целое причин и следствий длинна, и ни один из повинующихся ее диктату не в силах до конца осознать, почему она свилась так, а не иначе. Но заключительные звенья цепи, иначе говоря — ее структура, и не казались мне, так и этак крутившему тогда в мыслях происшедшее, чем-то решающим: структура ведь тоже проявляется не в пустоте, и сколько ты ее до окончательного экспортного блеска ни отделывай, а она все равно несет на себе ту же родимую почву. Я вспоминал некоторые сцены из русской литературы прошлого века и не мог отделаться от польского стереотипа, согласно которому русский если кого режет, то непременно обливая жертву горючими слезами. Однако прежде всего я с особой четкостью представил себе все, что приходилось читать о восточно-христианских сектах, в буквальном смысле слова близких мне, если иметь в виду мою “восточную” составляющую. В безжалостной природе и безжалостном общественном устройстве сектанты черпали убежденность в том, что мир безраздельно принадлежит Сатане. Упразднить его закон, как и законы самого творения, может лишь Царство Небесное. Поэтому русские мистики учили, что с приходом Царства Божия спасен будет не только человек, но и последний муравей и муха. Однако такое — до известной степени, нечеловеческое — сочувствие на практике разрывало связь между мыслью и действием. Ведь если до Христова пришествия мы полностью отданы во власть постыдного закона, то бунт нашего сердца бессилен. Позже, когда Царство Божие получило титул “коммунизма”, у его приверженцев могло быть, по крайней мере, то утешение, что их ведет вполне земная “железная необходимость”, а подчинение ей — на деле означавшее истребление противников, гнет и пытки — шаг за шагом приближает Великий День.
Конечно, солдаты могли уже не иметь ничего общего с христианством и даже не быть коммунистами. Но благодаря всему, окружавшему с самого детства, они напрактиковались в раздвоении, которое, стоит отметить, нигде за пределами их отечества не зашло так далеко. Государство с его величественной конституцией, школа, книги, — все нацеливало их на “идеалы братства”, “новый человек” был само благородство, сама чистота. Но это в теории, которая постепенно и независимо ни от чего разрасталась, как коралловый остров над поверхностью моря. Остров тот, впрочем, давно бы рухнул, не поддерживай его “заговор против правды”. Разыгрывая — и скорей перед собой, чем перед пленным — всю эту комедию, солдаты платили дань тому, что должно быть, вместе с тем отлично понимая, насколько в действительности все иначе.
А когда связь между мыслью и действием разорвана, благородные слова, дружеские объятия, слезы искренних признаний и вся эта хваленая и притягательная русская широта остаются чем-то вроде мысленного побега в свободную от давящих земных законов страну, где человек человеку — брат, в глубины подлинных переживаний, где можно позволить себе расковаться, хотя каким-то уголком сознания понимаешь: все это — лишь в рамках дозволенного. И что же тут удивляться, если потом один настучит на другого или его прикончит, ведь не мы виноваты, весь мир плох. Вот в Царствии Небесном (то бишь, при коммунизме) — там лев и вправду будет лежать бок о бок с барашком. Однако освобождение себя от любой ответственности быстро входит в привычку, а порог, за которым вступает в права пресловутая “необходимость”, оказывается куда как низким. Зло творят без воодушевления, но никто и пальцем не шевельнет, чтобы его избежать. Причем за любым свободным поступком подогревается исключительно стремление к материальной выгоде.
Поляки достаточно близки русским по крови и достаточно напуганы изнутри слабостью собственной индивидуальной этики, чтобы не чувствовать эту опасность на себе. Но наше прошлое, сложившееся так, как оно сложилось, оказалось во многом избавлено от эсхатологических крайностей. Наши радикальные протестантские секты — закваска и предвестие позднейших демократических движений — не учили, будто справедливости на земле не достичь. И хоть порой они запрещали своим членам отправлять обряды (любая власть считает долгом утверждаться с помощью меча), но чаще все же спорили о том, как следовать евангельским заветам в современном обществе, иными словами — как организоваться. В польской литературе не найдешь таких героев, как Алеша или князь Мышкин, стоящих перед дилеммой: или все в мире благо, или все — зло, — как не встретишь и отчаянного метания “лишних людей”, жаждущих высшей Цели, Бога, и почти на сто лет вперед предсказавших России революции с ее абсолютизмом целей. Ключевое, не меньше “Фауста” в Германии ценимое произведение польской словесности построено на прометеевом бунте против Бога во имя солидарности с угнетенным человеком (тягчайшее обвинение здесь: “И не Творец небесный ты, а ... Царь”[8]). Но бунт этот осложнен христианским послушанием и, вместе с тем, политическим действием во имя жизни людей (русский бы, наверное, выбрал или послушание и святость, или действие). Если вглядеться, заоблачный польский романтизм со всей его тоской куда ближе к земле, куда скромней, чем русский реализм, приправленный непомерной жаждой. И хотя я вынес из школы вполне ощутимые начатки раздвоенности, которые, думаю, и позволяли мне лучше других понимать русское, они уравновешивались другими влияниями: обозначу их заглавием одной книги XVI века (мы проходили ее по программе) — “De Republica emendanda”[9]. Важной оказалась и привязанность к литовцам. Сравнивая их с поляками, я признавал превосходство литовской основательности и хозяйственности. Их взаимоподдержку и взаимовыручку могла бы взять за образец вся Европа. Материю, какую ни на есть, со счетов не сбросишь — по крайней мере, я этого делать не собирался.
Прав я или нет, не стану скрывать и самый свой главный комплекс. “Глубина” русской литературы всегда казалась мне подозрительной. Не слишком ли велика ее цена? Разве, выбирая из двух зол, мы бы не предпочли что-нибудь “поплоше”, будь за этим как надо отстроенные дома, сытые и ухоженные люди? И чего стоит мощь, если всегдашний ее источник — опять лишь столичная власть, а тем временем в забытом Богом провинциальном городке снова и снова разыгрывается сюжет гоголевского “Ревизора”? Именно через Польшу времен моей юности проходила граница, отделявшая области, которыми некогда управляли Пруссия и Австрия, от тех, куда свидетельство своих управленческих талантов вложили русские. Империя была по обе стороны. Но мечтая начать с tabula rasa, русские революционеры лгали самим себе. Утвердившись в Кремле. они могли строить лишь из того “материала” людей, обычаев и привычек, который имели под рукой. И, что еще хуже, сами были слеплены из того же материала. Советские историки твердят, будто Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина II были их “предшественниками”, трудясь на благо будущей революции. И хоть подобные представления о предшественничестве могут вызвать только смех, они немало говорят о культе силы, сметающей любые преграды приказом с единого престола, этой точки наивысшего контроля надо всем, — и о полнейшем пренебрежении к естественному росту.
В моем отношении к России — начало позднейших недоразумений между мной и моими французскими и американскими друзьями. Они, случалось, обвиняли меня в национализме, хотя прекрасно видели, что я не делю людей на лучших и худших ни по языку, ни по цвету кожи, ни по вероисповеданию и считаю коллективную ответственность разновидностью преступления. При этом их удивляла моя симпатия к каждому русскому по отдельности, моя предрасположенность в его пользу. Все вместе складывалось в какое-то непонятное для них целое. К сожалению, вынужден признать, что у меня нет языка, способного раз и навсегда отграничить одно от другого. И этот недостаток терминов — не только мой грех. В паническом страхе перед бреднями националистов и расистов ХХ век пытается засыпать разверзшуюся пропасть времен цифрами произведенной продукции или титулатурой нескольких государственно-политических систем, отказываясь вникать в тончайшую ткань реальных явлений, где нельзя упустить ни единой нити. Среди таких явлений и взгляды всеми забытых старых русских сект. Это только кажется, что прошлое канет без следа. По сути, оно незаметно преображается, и такие вроде бы далекие реалии, как уклад жизни в Древнем Риме, продолжают жить и сегодня, поскольку именно там и больше нигде сложились формы будущего католицизма. Или другой пример. Завоевание французами в средние века земель к югу от Луары — событие, упрятанное в подсознании их жителей, — позже не раз проявлялось в протестантском, а потом и революционном настрое тех провинций. Когда описание стран и культур еще не было обставлено таким количеством запретов, связанных с разделением знаний по каталожным ящикам, авторы — и чаще всего путешественники — не пренебрегали следами времени, отпечатавшегося в наклоне крыши, выгибе рукоятки плуга, жесте или пословице. Журналист, социолог и историк вполне могли уживаться в одном человеке, пока — и с большим для себя уроном! — не расстались друг с другом. Некоторые афоризмы о взаимоотношениях двух наших стран и сегодня поражают какой-то не ухватываемой рассудком правдой. К примеру, русский писатель Дмитрий Мережковский говорил одному из своих польских собеседников так: “Россия — это женщина, у которой никогда не было мужа. Ее только насиловали — татары, цари, большевики. Единственным мужем ей могла бы стать Польша. Но Польша была слишком слаба”. Если кому-то трудно задуматься над справедливостью или несправедливостью этих слов, тогда, может быть, он хотя бы узнает в них некоторые следы старых и, право же, не во всем глупых людских верований?
Знание развивается неравномерно, устремляясь вперед в одних областях, топчась или даже пятясь — в других. Нынешний страх перед всяческими обобщениями, касающимися национальных и территориальных сообществ, заслуживают несомненного уважения, оберегая от прислужничества людям, которым нужна не правда, а добавочные аргументы в схватке за власть. И только когда поводы для подобных страхов отпадут, обученный видеть взаимозависимости разум проникнет в то, о чем более мудрые говорят сегодня с осторожностью и только за столом провинциального кабачка. А это наступит не раньше, чем оценка той или иной цивилизации перестанет быть орудием в борьбе против выработанного ею человеческого смысла, иначе говоря — нескоро. И поскольку судьба России решалась над Днепром в соперничестве с соседями, лишь тогда столкновение чувств, о которых здесь шла речь и которыми живут сегодня разве что впрямую вовлеченные единицы, станут темой, действительно волнующей каждого.
Перевод с польского Бориса Дубина
Источник - сайт журнальный зал http://magazines.russ.ru/slo/2001/1/ross.html
Родная Европа
Главы из книги
Война
Через много лет после второй мировой войны, когда Гитлер и Муссолини уже стали бледными призраками, я попал на пляж острова Олерон у берегов Франции, к северу от Бордо. Океанский отлив обнажил железные останки вросшего в песок корабельного остова. Трудолюбивая вода выдолбила возле ржавых балок рытвины, и получились прудики, в которых мой сын учился плавать. Мы решили, что остов лежит здесь со времен вторжения англо-американских войск, но оказалось, что намного дольше. Тут нашел свое пристанище плававший под уругвайским флагом корабль, перевозивший медь для французской армии, которая вела бои с войсками Вильгельма II. Прочность вещей и непрочность людей всегда поразительны. Я прикасаюсь к обросшим ракушками и водорослями бортам, не совсем еще готовый смириться с мыслью, что две великие войны теперь столь же нереальны, как пунические войны.
Первые мои сознательные впечатления совпали с войной. Высовывая голову из-под бабушкиной пелерины, я знакомился со страхом: рев перегоняемого куда-то скота, паника, густая пыль на дороге, темный горизонт, на котором сверкало и громыхало. Немцы наступали, царские войска отступали из Литвы, и с ними — толпы беженцев.
К тому лету 1914 года относится четко прорисованная сцена. Яркое солнце, газон, я сижу на лавочке с молодым казаком — он черный, тонкий в поясе и очень мне нравится. На груди у него перекрещиваются ленты с патронами. Он вытаскивает пулю, высыпает из гильзы на скамейку зернышки пороха. И тут происходит трагедия. Я люблю белого барашка. И вот я вижу: за ним среди зелени гонятся казаки, заступают ему дорогу. Чтобы его зарезать. Красивый казак вскакивает и бежит им на помощь. Мой отчаянный крик, нежелание признать неотвратимость беды — первый протест против Неизбежности.
В это же время появляются кладбища, которые позже станут излюбленным местом наших игр, — тщательно ухоженные могилы (мы натыкались на них в зарослях малины и ежевики) с каменными или деревянными крестами с фамилиями Шульц, Мюллер, Хильдебранд. Только о немецких павших возьмет на себя заботу чья-то рука. Никто не позаботится о солдатах царя.
На протяжении всего моего раннего детства реки, городки, пейзажи сменялись с огромной быстротой. Отца мобилизовали, он строил дороги и мосты для российской армии, и мы колесили с ним по прифронтовой полосе, вели кочевую жизнь, нигде не задерживаясь дольше двух-трех месяцев. Часто домом нам служил фургон, иногда — вагон военного эшелона с самоваром на полу, который опрокидывался, когда поезд внезапно трогался с места. Такое отсутствие оседлости, подсознательное ощущение, что все временно, входит, как мне кажется, в уравнения, составляемые в зрелом возрасте, и может быть причиной пренебрежительного отношения к государствам и строям. История становится текучей, обретает характер непрерывного странствования.
На меня обрушился хаос заманчивых и многоцветных картин: пушки разнообразной формы, винтовки, палатки, паровозы (один, похожий на огромную зеленую гусеницу, надолго поселился в моих сновидениях), моряки с кортиками, постукивающими по бедрам, киргизы в халатах до земли, китайцы с косичками. Возле какой-то станции я разглядывал самолет — путаницу веревок и тряпок. Мне подарили несколько игр — все с боями крейсеров. На всех накаляканных мною рисунках бежали в атаку солдаты и рвались снаряды.
Постоянно слыша вокруг себя русскую речь, я говорил по-русски, совершенно не понимая, что я двуязычен и по-разному складываю губы — в зависимости от того, к кому обращаюсь: к родным или чужим. Знание русского языка осталось навсегда, и потом никогда не было нужды специально его учить. Акцент, значение слов вдруг выскакивали из запертой кладовой памяти.
В одной местности, где мы задержались дольше обычного, проявилось мое призвание — видно, мне предназначалось стать бюрократом. Мы с моим приятелем Павлушкой, сыном бородатого старовера Абрама (библейский Авраам впоследствии неизменно представлялся мне только таким), прокрадывались в комнаты, где люди в мундирах с погонами писали и считали на счетах. Там мы усаживались за свободный стол, и я строгим голосом приказывал: “Павлушка, давай бумагу!” Насупив брови, я выводил нечто изображавшее подпись — движение карандаша наполняло меня сознанием своего могущества — и отдавал бумагу Павлушке, чтобы он приобщил ее к делу.
Вскоре после этих посещений армейской канцелярии мне надели на рукав красную повязку. Конец зимы 1916/17 года, отречение царя. Я гордился тем, что цвет моей повязки красивее, чем у местной детворы. Я узнал, что этот, малиновый, цвет — польский и патриотический. Очень хорошо, что прогнали царя, так ему и надо. Но мы — это одно, а русские — совсем другое.
Прибой омывал остов уругвайского корабля на песках Олерона и тогда, когда иприт на полях Фландрии отравлял людей, и когда рушились троны и государства, когда я проживал свою жизнь надежд и поражений, когда сооружались газовые камеры и сторожевые вышки концлагерей. В шуме океана всегда есть привкус бренности. Лучше довольствоваться малым человеческим временем.
Десять дней, которые потрясли мир
Барский дворец стоял в парке, спускающемся к Волге. Березовая аллея вела к расположенному в полутора верстах городу Ржеву. В подвалах дворца разместились армейские кухни, нижние этажи занимала семья владельца, в комнатах на чердаке жили мы, то есть “беженцы”. Любимыми моими друзьями были русские солдаты. Лицо приятно щекотали их рыжие бороды, мягкие, как обезьянка, которую мне сшили из лоскутков. Я участвовал во всех их трапезах в кухне внизу, сидя у кого-нибудь из бородачей на коленях. Мне совали в руку ложку и велели есть. Я относился к этому как к скучной обязанности, которую — неизвестно почему — надо исполнять, чтобы насладиться радостью общения. Потом я поднимался наверх, где меня ждал ритуал второго обеда: я все сметал с подсовываемых матерью тарелок не из жадности, а из послушания. В результате я стал мучеником аскетизма навыворот, подобно набожным ханжам-распутницам. Я тяжело заболел расширением желудка, что, как я сейчас понимаю, в преддверии приближавшихся великих событий было совсем некстати.
С хозяевами дворца я дружбы не завел и в их комнаты — сферу таинственную и недоступную — не заглядывал. Исключение составляла добрая старушка, которая уводила меня к себе по длинному, заставленному сундуками коридору. В ее комнате пахло ладаном, поблескивала позолота икон и красновато светились лампадки с плавающим в масле фитилем.
Кроме того, я, кажется, был влюблен в Лену. Правда, я мог только издали ею восхищаться. Это была двенадцатилетняя особа, гордая и надменная. Каждое утро к парадному крыльцу подкатывала коляска с кучером на облучке. Она отвозила Лену в Ржев, в школу. Я стоял поодаль и, глотая слюну, созерцал шею в вырезе матросского воротника. “Шея твоя, как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем — все щиты сильных”, — мог бы я сказать, однако не говорил. Меня не смущало, что у предмета моего восхищения веснушки и прыщи. Но тогда ни в чем не было ясности. Я постоянно слышал вокруг: “Ленин, Ленин”, и этот звук ничего не означал. Однако он ассоциировался с шеей, и оттого в моем воображении странным образом переплелись Лена и Ленин.
“Десять дней” представились мне следующим образом. Я лежал в кровати, открыл глаза и увидел одного из моих бородатых друзей. Его гимнастерка была сплошь забрызгана кровью. Вел он себя не так, как обычно. Каким-то хриплым шепотом, словно куда-то спешил, спросил, где родители. Потом исчез, и тут же вбежали мать с отцом с криком, не испугался ли я. “Сережа зарезал петуха”, — ответил я и, перевернувшись на другой бок, заснул.
Для свободы есть разные определения. Одно из них гласит, что свобода — это возможность пить водку в неограниченных количествах. В Ржеве солдаты разгромили казенную винную лавку. Спиртное потекло по сточным канавам, и жители города, не в силах глядеть на такое расточительство, ложились на край канав и пили. Сережа ввязался в пьяную драку и деловито зарезал не петуха, а одного из своих товарищей, вследствие чего другие погнались за ним, чтобы ответить ему тем же. Он влетел на наш чердак в поисках убежища. И кажется, мои родители где-то его спрятали, что было благородно.
Возникают новые линии раздела между людьми. Немаловажно деление на тех, кто знает Россию, и тех, кто ее не знает: разнится их глубинное, порой трудно определимое отношение к одним и тем же явлениям жизни. Знание это вовсе не обязательно осознанное. Поразительно, до какой степени дух той или иной страны может проникнуть в ребенка. Сильнее мысли зрительный образ: например, сухие листья на дорожках, сумерки, тяжелое небо. В парке пересвистывались революционные патрули. Волга была свинцово-черной. Я навечно впитывал ощущение подспудной опасности, непостижимых диалогов — шепот, перемигивания. Дворец покорно ждал обещанной расправы с его обитателями — этой печальной участи вряд ли избежали бы случайные приживальщики-беженцы, — и в воздухе был разлит страх. Я впитывал в себя и церковные луковки на фоне сине-красного неба, испятнанного тучами галок, булыжные мостовые Ржева, на которых за проезжающей телегой тянулся ручеек семечек из распоротого мешка, детей в ушанках, с криком запускающих змея. По неизвестным мне причинам — вероятно, из-за переездов конторы, где служил отец, или по соображениям безопасности — мы вскоре снова отправились в путь и поселились в Дерпте — городе на западном рубеже бывшей империи. Деревянная лестница в доме была грязная, двор унылый. Вокруг меня не стихали разговоры о голоде. Не хватало сахара, мяса, был хлеб, больше чем наполовину состоящий из опилок, сахарин и картошка. Ночью меня будил громкий стук в дверь, шаги и грубые голоса. При свете коптилки люди в кожанках и высоких сапогах высыпали на пол содержимое ящиков и шкафов. Отец мой был “спецом”, утвержденным рабочим советом предприятия, и в списке подозрительных лиц не значился. Обыски во всех домах города были, по-видимому, делом обычным. Ужас на лицах женщин, крик брата в колыбели, перевернутый вверх дном убогий семейный очаг, то бишь нора, — все это ранит детскую душу.
Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ
источник - http://magazines.russ.ru/inostran/1999/2/milosz.html
Груз прошлого
Вынужденный поворот
Боевой путь
Русские и поляки были естественными союзниками в борьбе с нацизмом. В обеих странах потом много говорили о "братстве по оружию, скрепленном кровью".
Памятный знак дивизии имени Тадеуша Костюшко с надписью "Ленино - Берлин"
В последние 20 лет выяснилось (а поляки помнили об этом всегда), что братство было омрачено предшествующими кровавыми событиями.
С Польшей у Сталина имелись особые счеты.
Во время советско-польской войны 1920 года он являлся членом Реввоенсовета (политкомиссаром) Юго-Западного фронта.
Большевики рассматривали "польский поход" как начало мировой революции, и связывали с ним большие надежды.
"Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству. На запад!" - писал в приказе №1423 от 2 июля 1920 года командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский.
"Даешь Варшаву! Дай Берлин!" - призывали на митингах бойцов.
"Границы фронта определяются пределами всего материка Старого Света", - говорилось в решениях проходившего 19 июля - 2 августа в Петрограде II конгресса Коминтерна.
В разгар наступления Ленин считал польский вопрос уже решенным и писал Сталину: "Зиновьев, Каменев, а также и я думаем, что следовало бы поощрить революцию тотчас в Италии. Мое личное мнение, что для этого надо советизировать Венгрию, а также Чехию и Румынию".
Не вышло.
Многие историки объясняют расправу над Тухачевским и бывшим командующим Юго-Западным фронтом Александром Егоровым в 1937 году, среди прочего, желанием Сталина избавиться от свидетелей своего позора.
"Красных маршалов" требовалось объявить врагами, вредившими советской власти еще с гражданской, чтобы объяснить народу, почему кампания, одну из ключевых ролей в которой играл "гениальный вождь", оказалась провальной.
Соседнюю страну, с которой пришлось заключить мир, выплатив пять миллионов золотых рублей контрибуции, в СССР именовали не иначе как "панской Польшей" и винили во всех бедах.
Как следовало из подписанного Сталиным и Молотовым в разгар голода начала 1930-х годов постановления о борьбе с миграцией крестьян в города, люди, оказывается, делали это, не пытаясь спастись от голодной смерти, а будучи подстрекаемы "польскими агентами".
Вплоть до середины 1930-х годов в советских военных планах Польша рассматривалась как главный потенциальный противник.
"Комсомолка, из нагана целься и думай: перед тобой лорды и паны", - писал Владимир Маяковский, призывая молодежь заниматься военной подготовкой в Осовиахиме.
Репрессии против проживавшего в Москве руководства польской компартии в 1937-1938 годах были обычной практикой, но то, что ее объявили "вредительской" как таковую и распустили решением Коминтерна, - факт уникальный.
В ходе "польской операции", проводившейся по секретному приказу Ежова №00485, были арестованы 143810 человек, из них осуждены 139835 и расстреляны 111091 - каждый шестой из живших в СССР этнических поляков.
23 августа 1939 года руководители СССР и нацистской Германии подписали Польше приговор
После событий сентября 1939 года, которые в Польше считают "четвертым разделом", Вячеслав Молотов в речи на сессии Верховного Совета назвал Польшу "уродливым детищем Версальского договора", а нарком обороны Климент Ворошилов в праздничном приказе от 7 ноября утверждал, что она "разлетелась, как старая и сгнившая телега".
Газеты публиковали издевательские карикатуры, на одной из которых, к примеру, грустный учитель объявлял классу: "На этом, дети, мы заканчиваем изучение истории польского государства".
В прессе и документах страну именовали либо "бывшей Польшей", либо, на нацистский лад, "генерал-губернаторством".
На вновь присоединенных территориях с населением в 13,4 миллиона человек за два с небольшим года были арестованы 107 тысяч, примерно половина из них поляки по национальности, и сосланы в Сибирь 391 тысяча, из которых около 10 тысяч умерли в ходе депортации и на поселении.
По количеству жертв перед этими трагедиями меркнет даже Нажать катынская расправа, хотя именно она стала известна всему миру.
Источник -
ПОЛЬСКИЙ ПОЭТ
Польский поэт с большим усилием преодолевает в себе всё закрепившееся в языке наследие беспокойства за судьбу страны, втиснутой меж двумя державами. И этим он отличается от поэта более счастливых языков.
Курдский поэт занят исключительно судьбой курдов. Для американского поэта не существует понятия “судьбы американцев”. Польский поэт всегда посередине.
Не из этой ли схватки двух тянущих в противоположные стороны сил должна вытекать специфика польской поэзии? Она заметна в стихах, ничего с виду не имеющих общего с историей, как в любовной поэзии Анны Свирщинской.
Чеслав Милош, из книги “Пес придорожный”
УПАДОК.
Смерть человека- словно падение сильного царства,
Имевшего армию мощную, вождей и пророков,
Порты богатые, и на всех морях корабли.
А теперь не придёт оно ни к кому с помощью,ни с кем не заключит
перемирия.
Ибо пусты его города, население в рассеянии,
Осотом поросла его земля, когда-то дававшая урожай.
Забыты его повеления, язык его утрачен.
Сельский диалект ещё где-то далеко, в недоступных горах.
Перевод - Лев Бондаревский
Так мало
Я сказал так мало.
Коротки дни.
Короткие дни
Короткие ночи
Коротких лет.
Я так мало сказал,
я не смог.
Мое сердце истомилось
восторгом,
отчаянием,
ненужным усердием,
надеждой.
Челюсти Левиафана
сомкнулись на мне.
Нагой лежал я на берегу
Безлюдного острова.
Уволок меня в бездну
Белый зверь мироздания.
И теперь я не знаю
Что было реальностью.
Построчный перевод М.Давиша
* Левиафан — чудовищный морской змей,
упоминаемый в Ветхом Завете,
иногда отождествляемый с сатаной.
Портрет 2-ой половины ХХ века.
Скрытый за братской усмешкой,
Презирая читателей газет,политических жертв
диалектики,
Произнося слово демократия с ледянящим взглядом,
Ненавидя физиологические людские радости,
Полный воспоминаний о тех,с кем ел-пил и объединялся,
А через мгновение перерезал им горло,
Хвастая танцами и весельем в ресторанах ,как
Способом против публичного гнева,
Призывая культуру и искусство,а думая об игрищах в цирке,
Смертельно уставший,
Во сне или под наркозом бормотал : Господи,Господи.
Приравнивая себя к римлянам с культом Митры,
Смешался с культом Иесуса.
Старые веры в нем не угасли. Иногда думает,что он
Во власти демона.
Громя прошлое,боится,что разгромив его,
Не будет, где преклонить голову.
Выбирает игры в карты и шахматы,чтобы собственных
Тайн не выдать.
Опираясь рукой на сочинения Маркса дома читает
Евангелие.
С иронией смотрит на процессию,выходящую из разбитого храма .
Руины его городов имеют цвет конского мяса.
В пальцах держит памятку об павших в антифашистских
Восстаниях.
Построчный перевод М.Давиша
ОБЛАКА
Облака, облака мои страшные,
Как бьется сердце, какая жалость и грусть земли,
Облака и тучи, белые, безмолвные,
Смотрю на вас на рассвете, и глаза мои слез полны,
И знаю, что во мне надменность, вожделенье,
Жестокость и зерно презренья
Сна мертвого сплетают ложе,
А ложь моя великолепьем красок
Закрыла правду. Опустив глаза,
Я чувствую, как вихрь меня пронзает
Сухой, палящий. О, как вы страшны,
Вы, стражи мира, облака!
Хочу уснуть,
Пусть милосердно примет ночь меня.
1935
ЛЮБОВЬ
Любовь это взгляд на себя самого
Со стороны, как на что-то чужое:
Ты лишь один из тысячи вокруг.
Кто так поглядит, сам не зная того,
Тревожное сердце свое успокоит,
Ему и дерево, и птица скажут: друг.
Тогда и он, и все, что есть снаружи,
Себя исполнив, светом засияет.
И пусть не знает сам, чему он служит:
Не лучше служит тот, кто понимает.
1943
ПЕСНЯ О КОНЦЕ СВЕТА
В день конца света
Пчелка тихо кружит над настурцией,
Рыбак починяет блестящую сеть.
Веселые дельфины скачут в море,
Воробышки расселись на заборе
И кожа змеи лоснится на солнце, как медь.
В день конца света
Идут по полю женщины с зонтами,
В газоне с краю пьяный засыпает,
Нас зеленщик на улицу зовет,
И желтый парус к острову плывет,
И скрипки звук, вверху зависнув,
Звёздную ночь нам отворяет.
А те, кто ждали молнии и грома,
Разочарованы.
А те, кто ждали знамений и архангельской трубы,
Не верят в то, что все уж началось.
Пока луна и солнце в небесах,
Пока у розы желтый шмель в гостях,
И детки розовенькие родятся,
Не верится, что все уж началось.
Лишь старичок седой, что мог бы быть пророком,
Но не пророк он - не клянет нас и не судит,
Бубнит, подвязывая помидоры:
Другого конца света не будет,
Другого конца света не будет.
1944
СУДЬБА
Разве одно и то же - желудь и дуб тенистый?
Разве одно и то же - папоротник и уголь?
Разве одно и то же - капля и волны быстрые?
Разве одно и то же - металл и колечко круглое?
Зачем же спрашивать меня о строчках давних
И помнить девушек чудные имена?
Пускай стихи мои живут, как знают,
Пусть девушки мои другим детей рожают,
Мне - уголь, дуб, кольцо и пенная волна.
1944
БЕДНЫЙ ХРИСТИАНИН СМОТРИТ НА ГЕТТО
Пчелы обустраивают красную печень,
Муравьи обустраивают черную кость,
Начинается раздирание, топтание шелка,
Начинается толчение стекла, дерева, меди, никеля,
/серебра, гипсовой
Штукатурки, жести, струн, труб, листьев, шаров, кристаллов -
Пых! Фосфорический огонь с желтых стен
Заглатывает волосы людей и животных.
Пчелы обустраивают алебастр легких,
Муравьи обустраивают белую кость,
Раздирается бумага, каучук, полотно, кожа, лен,
Волокна, ткани, целлюлоза, волос, змеиные чешуйки, проволока,
Рушится в пламени крыша, стена, и жар обнимает фундамент.
Теперь есть лишь песчаная, затоптанная, с одним деревом
/без листьев
Земля.
Не спеша, буря свой туннель, продвигается стражник-крот
С маленьким красным фонариком, прикрепленным ко лбу.
Он касается тел погребенных, считает, продирается дальше,
Различает человеческий пепел по висящему радугой пару,
Пепел каждого человека по иному радуги цвету.
Пчелы обустраивают красный след,
Муравьи обустраивают место после моего тела.
Я боюсь, так боюсь я стражника-крота.
Его веки набрякли, словно у патриарха,
Что немало сиживал при свечах,
Читая великую книгу нашего рода.
Что скажу ему я, новозаветный еврей,
Уж две тысячи лет как ждущий пришествия Иисуса?
Мое тело разбитое выдаст меня его взгляду,
И сочтет он меня меж пособников смерти:
Необрезанных.
1945
ОШИБКА
Я думал, что все это подготовка,
Чтоб наконец-то научиться умирать.
Рассветы, сумерки, в траве под кленом
Лаура, без трусов уснувшая с малиной в изголовье,
Пока Филон, счастливый, моется в ручье,
Рассветы и года. Любой бокал вина,
Лаура, море, суша и архипелаг,
Нас приближают, верил я, к одной лишь цели,
Служить должны для этой только цели.
Но паралитик с улицы моей,
Которого передвигают вместе с креслом
Из тени к солнцу и от солнца в тень,
Глядит на кошку, листья и блестящие авто,
Одно и то же бормоча: "Beau temps, beau temps".
И, без сомнения, прекрасно наше время,
Насколько слово "время" здесь уместно.
1957
ЗАДАЧА
С тревогой думаю, что жизнь свою я оправдал бы,
Лишь исповедь публично совершив,
Раскрыв обман и мой, и времени того:
Нам разрешалось верещать, как карликам и бесам,
Но под запретом оставались строгим
Достойные и чистые слова.
И так была сурова кара,
Что, вымолвив хотя б одно из них,
Уж человек себя считал погибшим.
1970
ДАР
Что за счастливый день,
Рано осел туман, я работал в саду,
Колибри висели над цветком каприфоли.
Не было в мире вещи, которой бы я пожелал.
Никого, кому стоило бы завидовать.
Что плохого случилось, все позабыл.
Мне не было стыдно за то, что такой я, как есть,
И ничто у меня не болело.
Выпрямляясь, я видел парус в морской синеве.
1971
ГДЕ БЫ
Где бы я ни был, в каком бы месте
В мире, от людей скрываю убежденность в том,
Что не отсюда я.
Как будто послан был, чтобы впитать побольше
Цветов и вкусов, звуков, опытов и ароматов,
Всего, что стало
Долей человека,
Превратить то, что узнал я,
В колдовской реестр
И отнести туда,
Откуда я пришел.
2000
КАК МОГ ТЫ
Не пойму я, как мог Ты создать этот мир,
Безжалостный и чуждый человеческому сердцу,
В котором монстры совокупляются, и смерть -
Немой тюремщик - время сторожит.
Не верю, что Ты этого хотел.
Наверно, это предкосмическая катастрофа,
Победа инерции, что выше Твоей воли.
Бродячий рабби, который назвал Тебя нашим отцом,
Безоружный против законов и чудовищ этой земли,
Опозоренный и отчаявшийся,
Да укрепит меня
В моих молитвах к Тебе.
2002
Перевод Владимир Орданский
Источник,сайт - Сетевая Словесность, публикация, 2011-2012.
Россия[1]
Не вижу смысла прикидываться белой вороной и скрывать болезнь, гложущую любого поляка; наоборот, ее нужно признать и привыкнуть, в конце концов, обходиться с ней по возможности беспристрастно. Итак, поляки и русские друг друга не любят. Точней, испытывают друг к другу самые разные неприязненные чувства от презрения до ненависти, что, впрочем, не исключает какой-то непонятной взаимной тяги, всегда, тем не менее, окрашенной недоверием. Между ними стоит — воспользуюсь словами Джозефа Конрада — incompatibility of temper[2]. Может быть, любой народ, если смотреть на него как на единое целое, а не сообщество личностей, способен лишь оттолкнуть, и соседи узнают на его примере одну только неприятную правду о людях? Полякам, не исключаю, известно о русских то, о чем те и сами подозревают, но не хотят себе в этом признаться, — и наоборот. Поэтому неприязнь к полякам у националиста Достоевского — что-то вроде самообороны. Уважительно он отзывается о них только в “Записках из Мертвого дома”, хотя и здесь сотоварищи по каторге, бронированные католичеством и патриотизмом, на каждом шагу подчеркивающие свою чужеродность, если не прямое превосходство над прочими, не пробуждают в нем теплых чувств. Похоже, каждое столкновение с русскими полякам в тягость и настраивает их на самозащиту, поскольку разоблачает перед самими собой.
Описать запутанные истоки распри так же трудно, как причины застарелой вражды двух семейств, испокон веку живущих на одной улице; они могли бы показаться чем-то сугубо местным и провинциальным, не скрывайся за ними начатки событий мирового масштаба. Россия сумела стать такой, какой стала, только упразднив граничившую на юге с Турцией польско-литовскую республику и начав в 1839 году в административно-принудительном порядке обращать в православие жителей огромных территорий, по большей части — униатов, а стало быть — жертвуя поляками, подчинявшимися папе Римскому. Там же, где униатская церковь, как в Галиции при Габсбургах, удержалась, ее приверженцев силой обратили в православие уже после второй мировой войны — эпизод, вне связи с прошлым попросту непонятный.
Обычно говорят, что поляки недоброжелательны к русским, помня о пережитых обидах. Отчасти это так. И корни здесь уходят куда глубже двух последних веков, а любые перемены в Европе свидетельствуют: при любых внешних сдвигах основа остается прежней. Ее не коснулись ни революция во Франции, ни октябрьский переворот в России, ни послевоенный приход к власти коммунистов в Польше. Может быть, каждая цивилизация несет отпечаток того периода, который был для нее ключевым. Франция обязана всем своему городскому сословию — силе, созидательной и мощной уже за два столетия до Революции. А в Польше в эту эпоху складывалась дворянская культура, и польский крестьянин или рабочий по сей день колют ею глаза русскому, сплошь и рядом неся на себе ее следы , почему и получают от него злорадную кличку “пана”.
Начало всему — шестнадцатый и семнадцатый века. Сейчас трудно себе даже представить, что польский язык — язык господ, к тому же господ просвещенных — олицетворял изысканность и вкус на востоке до самого Полоцка и Киева. Московия была землей варваров, с которыми — как с татарвой — вели на окраинах войны, но которыми особенно не интересовались: в тогдашней польской словесности чаще встретишь портрет венгра, немца, француза или итальянца, нежели упоминание о подданных русского царя. У этих последних авторы отмечают непостижимую покорность произволу властей, склонность нарушать данное слово, коварство и высмеивают дикость их обычаев (так французам казались дикими обычаи Сарматии). И движение идей, и колонизация лесостепной зоны шли с запада на восток. Все ценное — образцы ремесла, архитектуры и письменности, спора гуманизма и Реформации — приходило в Польшу из Фландрии, Германии, Италии. Если какие заимствования с востока и были, то — через посредство Великого торгового пути — лишь из турецких земель, особенно во всем, что касалось сбруи, упряжи и соответствующего словаря. Московия же той поры, понемногу превращаясь в Россию, при всем ее большем или меньшем могуществе не представляла собой для поляков ничего привлекательного. Оставившие в польской культуре несводимый отпечаток XVI и XVII столетия для России наступили лишь в XIX веке. Из этого ощущения пустынной полосы со стороны востока у поляков сложился образ России как чего-то запредельного, находящегося за краем света. Свое поражение в войне поляки встретили недоуменно, как восприняли бы, наверно, победу татар: если в ней и крылся какой-то смысл, то разве что наказания за грехи. Только я-то думаю, что настоящим грехом поляков оставалась сама эта веками не затихавшая — в литературе, на сеймиках, в парламенте — дискуссия о собственных грехах, из которой на деле так никогда ничего и не следовало.
Побежденные презирали победителей, не видя в них ни малейших достоинств, кроме слепого послушания приказу. А оно раздражало. Закрадывалась мысль: да, вы сильны, но какой ценою? Напомню, что между русскими и польскими писателями — как правило, эмигрантами, жившими в Париже, — не умолкал спор, в котором ни одна из сторон не щадила другую. Антипольские стихи Пушкина дышат гневом на безумную гордыню побежденных, не признающих, что проиграли бесповоротно, а все еще мечтающих о возмездии, хитрящих и настраивающих дипломатические канцелярии Европы против России. В конце концов, в этих строках нет ничего, кроме проклятий народу, который пытается отстоять свою независимость. В них еще жива память о давнем соперничестве: существование самостоятельной Польши снова поставило бы в повестку дня вопрос, кому должны отойти Полоцк и Киев, иначе говоря — быть или не быть Российской Империи. Не зря Пушкин предсказывает, что “славянские ручьи сольются в русском море”.
Моральная ситуация польского поэта, революционера и союзника итальянских карбонариев, была, понятно, не в пример лучше, чем у его собрата по перу (и товарища, пока их не развела политика), наполовину узника царского двора. Жестокий антироссийский памфлет Мицкевича, написанный стихами, до сего дня образцовыми по лаконизму, попадает точно в цель как раз потому, что ненависть к самодержавию соединяется здесь с сочувствием к его жертве — народу России. Увиденное польским поэтом по сути не расходится с гоголевскими сатирами, хотя есть тут и нечто новое: все-таки на страну смотрит иноземец, чьи привязанности не смягчают критического взгляда. Его приводит в ужас бесчеловечность этих просторов, бесчеловечность отношений между людьми, пассивность и апатия подданных. И сам населяющий эту страну народ пугает его, как бесформенная глыба, которой еще не коснулся искусный резец истории:
Но вот, наконец, повстречались мне люди,
Их шеи крепки и могучи их груди.
Как зверь, как природа полночных краев,
Тут каждый и свеж, и силен, и здоров.
И только их лица подобны доныне
Земле их — пустынной и дикой равнине.
И пламя до глаз их еще не дошло
Из темных сердец, из подземных вулканов,
Чтоб, вольности факелом ярким воспрянув,
Той дивной печатью отметить чело,
Которой отмечены люди Восхода
И люди Заката, вкусившие яд
Падений и взлетов, надежд и утрат,
Чьи лица — как летопись жизни народа.
Здесь очи людей — точно их города,
Огромны и чисты. И, чуждый смятенью,
Их взор не покроется влажною тенью,
В нем грусть состраданья мелькнет без следа.
Глядишь на них издали — ярки и чудны,
А в глубь их заглянешь — пусты и безлюдны.
И тело людей этих — грубый кокон,
Хранит несозревшую бабочку он,
Чьи крылья еще не покрылись узором,
Не могут взлететь над цветущим простором.
Когда же свободы заря заблестит, —
Дневная ли бабочка к небу взлетит,
В бескрайнюю даль свой полет устремляя,
Иль мрака создание — совка ночная?[3]
Поэма Мицкевича суммирует взгляды поляков на Россию. Через несколько десятков лет этот же страх перед бесформенностью и моральным хаосом выплеснется в романе Джозефа Конрада “Under Western eyes”[4]. Хоть сам автор этого не признавал, по-моему, его книга задумана как спор с русским мессианством Достоевского.
Сегодня, когда я пишу эти строки, гитлеризм отошел в прошлое. Но, по всей видимости, не отошли в прошлое распространенные в свое время среди немцев взгляды на славян — и особенно на ближайших соседей поляков — как на полулюдей. Нацисты использовали эти взгляды, оправдывая самые чудовищные злодеяния. Не стоит, однако, впадать в крайности: разумеется, поляки знают, какие из их пороков позволили немцам утвердиться в столь приятном чувстве собственного превосходства, — разгильдяйство, безрукость (худые мосты и раскисшие дороги входят в типовой для европейской литературы образ Польши еще со времен средневековья), легкомыслие, пьянство, неспособность устроить жизнь gemutlich[5]. Понимают они и свои преимущества, редко встречающиеся у немцев, которых зовут за это тупицами и тугодумами, — свою фантазию, ироничность, дар импровизации, издевку над всякой властью, позволяющую как бы растопить любую политическую систему изнутри (так итальянцы “очеловечили” фашизм, превратив его в подобие маскарада). Столь охотно подчеркивавший свое польское происхождение Фридрих Ницше знал, что делает.
Так или иначе, контраст между двумя этими стереотипами мог бы послужить полякам наглядным уроком, заставив вдуматься в их отношение к русским. Ведь именно в России неумение обустроить окружающую жизнь, иначе говоря — нерадивость во всем, относящемся к gemutlichkeit[6], помноженная на взяточничество и казнокрадство, достигли масштабов воистину невиданных, а любое организаторское усилие давало результат лишь в том случае, если опять-таки служило прямому укреплению все той же власти. И как раз поляки — всегда на диво усердные за границей — оказываясь по принуждению или доброй воле в России, выступали там в роли цивилизаторов. Конечно, их общее суждение о русских — не в пример мнению немцев о них самих — всегда оставалось неоднозначным. Но, что ни говори, в нем неистребимо ощущался оттенок пренебрежения, приправленного жалостью. Традициям ли благодаря, католическому кодексу морали или принадлежности к Западу, но поляки так или иначе чувствовали свое превосходство. Их бесило какое-то оловянное спокойствие в глубине русского характера, долготерпение русских, их упрямство, их чуждое людям обдуманного компромисса стремление к крайностям, отчего и память о понесенном разгроме была особенно унизительной. А для русских польская привычка к условным реверансам, улыбкам, вежливости и лести выглядела пустой формальностью и потому отдавала фальшью. Они, со своей стороны, пестовали в себе чувство превосходства над легковесными, неглубокими, мотыльковыми поляками с их раздражительным гонором и тягой к самосожженчеству в героическом и бессмысленном порыве. Достаточно проницательные, чтобы не путать мучимую отсталостью от Запада, более старую культурную формацию с нечистой совестью прихлебателей самодержавия, они вполне отдавали себе отчет в том, почему в польском воздухе носится так и не брошенное по их адресу слово “варвары”. Их возбуждало именно то, что отталкивало: поэтичность, ирония, легкое отношение к жизни, латинский церковный обряд.
Поляки очеловечивали себя, влюбляясь в Запад, не отрывая глаз от Франции. С родиной Монтеня их связывало лишь то, что они постепенно — поколение за поколением — освоили и впитали. Это не так мало. И все же структура французского общества была в корне иной. Как с головы до пят дворянину (или наследнику дворянской культуры) понять с головы до пят обывателя? Структура общества скорее сближала Польшу с Россией: и там, и здесь капитализм возник поздно, еще не оставив необратимых следов в психике. Расчеты поляков на помощь Запада, питавшиеся по преимуществу верой в пустые посулы, оказались обмануты. Наполеона разбили, а вслед за ним канули и польские легионы, которые он успел бросить против повстанцев на Гаити, где еще и сегодня встречаешь чернокожих людей с польскими фамилиями — потомков солдат, так и не сумевших вернуться в Европу. И все же именно наполеоновская легенда окончательно кристаллизовала политические установки поляков, всегда принимавших за аксиому, будто свобода — это “веяние Запада”. Позже, надеясь свергнуть царей и тиранов, они ставили на демократическую революцию. Но революции гасли без видимых результатов, а Крымскую войну даже при желании не удалось бы выдать за крестовый поход.
На протяжении всего девятнадцатого века в поляках укреплялось что-то вроде “комплекса Кассандры”. Если исключить минутные, всегда несколько риторические приступы гнева и оставить в стороне двух таких ярых русофобов среди пишущей братии, как Карл Маркс и маркиз де Кюстин, то поляки постоянно сталкивались с непостижимой для них любовью западноевропейцев и к России, и к ее символу — власти русского царя. Сколько они ни кричали, что на просторах Евразии зреют гигантские амбиции и гигантские возможности, союзники, вежливо выслушав все это, отправлялись за сведениями о неблагонадежных элементах в российское посольство. Поэтому чувства поляков к Западу всегда оставались по меньше мере двусмысленными, а то и втайне злорадными.
Казалось, борьба с царизмом должна была породнить польских и русских революционеров. Но, что бы там ни толковали учебники, прочный союз между этими одинаково готовыми пожертвовать собой и одинаково образованными ( поскольку принадлежавшими и там, здесь к просвещенным классам) людьми затруднялся той же incompatibility of temper, иными словами — различием исторических формаций. Даже самые радикальные поляки опирались на богатейшие внутренние ресурсы, любя собственное прошлое и потому — зачастую бессознательно — видя в революции не начало чего-то, нигде и никогда не существовавшего в помине, а средство распространить на всех давние парламентские привилегии дворянства. Если революция несла с собой справедливость, то в первую очередь ей предстояло упразднить господство одних народов над другими, восстановив тем самым нарушенную преемственность государственного существования. Стремление реформировать общество всегда шло у нас рука об руку со стремлением к независимости, но поскольку это последнее объединяло (пусть не во всем) и постепеновцев, и консерваторов, то острота наиболее радикальных программ притуплялась. Другое дело — русские революционеры: их в ту пору занимало совсем иное. О своем суверенном — да еще как! — государстве они могли думать лишь с горечью. Ничто — ни первейшая опора трона, религия, ни прежние органические устои, которых они не любили, видя в них только цепи и всевластие царей, — не сдерживало их мечтаний. Поэтому они и обращались исключительно к будущему, ставя целью смести все и начать на земле, обращенной в tabula rasa, строить наново. Движение нигилистов, со всеми его неисчислимыми последствиями, не коснулось Польши. И даже когда революционеры обоих народов приходили вроде бы к полному взаимопониманию, им так и не удавалось забыть о яблоке раздора — Белоруссии и Украине. Упрекая своих польских соратников в том, что они идут по пути Речи Посполитой, постепенно полонизировавшей эти края, поддерживая униатскую или грекокатолическую церковь, русские говорили правду. Но правы были и поляки, упрекая теперь уже своих русских сотоварищей в замыслах русифицировать земли, языком официальных бумаг называемые — как единственно возможное и само собой разумеющееся — Западной Россией. А поскольку обе стороны признавали тамошние языки всего лишь местными диалектами, то все то дело о no man’s land окончательно тонуло в зыбкости и тумане.
В начале века иные наши марксисты, увидев, что национальное чувство гасит революционные порывы и ведет к классовому миру, объявили задачей номер один переворот в масштабах всей империи и подняли голос против движения за независимость. Эта ошибка Розы Люксембург дорого обошлась ее приверженцам и наследникам. Представьте себе сегодня призыв к революции в Африке с условием, что она останется частью Франции.. Социалисты-”независимцы” — и среди них Пилсудский — естественно, взяли верх. Из-за безвластия своего восточного соседа Польша вышла из первой мировой войны независимой, а война между ней и Советской Россией в 1920 году стала народной, получив поддержку польских рабочих и крестьян. Некоторые позднейшие события на других континентах — скажем, в арабских странах — помогают понять такие черты установившегося тогда порядка, как подогревание народных страстей, господствующее положение интеллигенции, в социологическом смысле прежде всего связанной в Польше (в отличие от опирающейся на фермеров Прибалтики) с поместьями, переживавшими уже экономический закат, или, наконец, роль армии.
Еще один ключ к ситуации тех лет — поражающая бесчисленными парадоксами ненависть левых к правой группировке так называемых народных демократов. Эти последние склонялись в прошлом к соглашательству с царем, сулившим “мир”, левые же следовали традициям бунтовщическим и антироссийским. Они-то в первую голову и раздули легенду об осмотрительности Пилсудского. И когда тот, опираясь на армию, пришел к власти, левые увидели в этом если не полный свой успех, то, по крайней мере, меньшее зло из возможных — барьер, спасающий от напора правых. Однако с концом парламентаризма и свободной игры политических сил как социал-демократы, так и прогрессисты любых мастей с неизбежностью вступили в пору постепенного распада. А что до наследников Розы Люксембург, коммунистов, то они нарушили всеобщее табу, и их трагедия свелась к метаниям в тупике. Шансов они имели не больше, чем, скажем. мексиканская партия, которую бы обвинили в попытке присоединить страну к Соединенным Штатам. С одной стороны, по ним стреляла полиция, с другой — Сталин, в конце концов завершивший игру , приказав в 1938 году прикончить вызванное в Москву руководство. Так исполнилось — правда, в перевернутом виде — предвидение Маркса, который в пору выхода “Коммунистического манифеста” считал одним из условий революции в Европе разгром восточной империи и восстановление Польши в границах 1772 года.
Маркс, нравится нам это теперь или нет, рассуждал о “европейской цивилизации” и делил народы на “плохие” и “хорошие”. На восточных окраинах той цивилизации он помещал три народа, к которым относился с симпатией, видя в ней созидателей и приверженцев свободы, — поляков, венгров и сербов. Панславизма он не переносил и — за двумя перечисленными исключениями — питал явную антипатию к славянам, всегда готовым, как он не раз говорил, служить слепым орудием тирании. Именно поэтому его статьи о международной политике производят на польских читателей действие необычайное: их мог бы написать поляк XIX века. Насколько точны оказались его тогдашние предсказания, можно убедиться и сегодня. Среди всех народов мира истинная и взаимная приязнь связывает поляков только с венграми и сербами.
Для моего поколения все эти, уже ставшие прошлым, сложности казались туманными и далекими. Мы росли в обычном государстве, чьи блеск и нищета оставались его внутренним делом, поскольку все так или иначе решалось в Варшаве, а не где-нибудь еще. Муки, заговоры, ссылка в Сибирь поминались в учебниках и, конечно же, вызывали сочувствие, но разум подталкивал нас относиться к романтическому пафосу прошлого с известной улыбкой. Россия в мыслях присутствовала, но как-то смутно. В конце концов, спор был закончен, нас разделяли пограничные столбы, а на страже стоял запрет вдумываться, исключена ли у нас их система. Марксизм, революция и прочее были их и только их делом. У себя пусть творят все, что заблагорассудится, нас это не трогает. Легко теперь назвать эту точку зрения глупостью. Но в ту пору она была общепринятой, а запретный порог — реальным, и всякий политик, не принявший их в расчет, совершил бы грубейшую ошибку.
В краю, зажатом между Германией и Россией, эмоциональные детерминанты складывались везде по-разному. В северо-западных и южных областях, по-прежнему числившихся в составе прусской и австрийской империй. такой детерминантов оставалась в первую очередь опора на традиционный немецкий “Drang nach Osten”. Кроме чудовищного мифа об ордене крестоносцев, немцы не имели ко мне ни малейшего касательства, языка их я не знал; при всем том, армия кайзера Вильгельма не оставила по себе особенно неприятных воспоминаний в наших краях. Крутя, как многие мои соотечественники, пальцем у виска при виде крепнущего гитлеризма, я глубоко переживал скорее уж драму эпохи в целом, чем задумывался над ролью в ней этих неотличимых друг от друга марсиан. Политику я зашифровывал в космических образах. А Россия была, на первый (и только на первый!) взгляд, совершенно конкретна: памятные с детства хаос и безмерность, но прежде всего — язык. За столом в нашем бедном и темном (как я теперь понимаю) доме русский был языком юмора именно потому, что его волнующе-брутальные оттенки никакому переводу не поддавались. В переводе такой, к примеру, отрывок из Щедрина, где два сановника осыпают друг друга бранью посреди веселящегося простонародья: “И ругались так ужасно, что восторженные босяки ежеминутно кричали “ура”[7], — попросту терял смысл. Главное, что через язык, притягивающий поляков и высвобождающий в них славянскую половину души, они интуитивно прикасались к самой сути русского: в языке было все, чему вообще стоило учиться у России. Но притягивал и, вместе с тем, настораживал он их — в этом, вероятно, и состоял урок — именно своей многозначностью. Нужно было втянуть воздух и нутряным басом выдохнуть: “Вырыта заступом яма глубокая”, — чтобы следом, беглым тенорком, прощебетать то же по-польски: “Wykopana szpadlem jama gleboka”. Ритмический рисунок ударных и безударных в первом случае выражал понурость, мрачность и силу, во втором — легкость, свет и слабость. Иначе говоря, с языком учились самоиронии и, вместе с тем, осмотрительности.
Однако понимание опасности мои сверстники перекладывали на других, а политический тупик, уже окрашивавший и мысль, и слово, старались так или иначе замаскировать. Им не приходило в голову, что отправленный в музей мартиролог вдруг придется начинать сызнова. А у меня если и было предчувствие катастрофы, то самое общее, в масштабе планеты и уж никак не страны. Это, кстати, должно было рано или поздно привести меня еще к одному конфликту с окружающими. Большинство поляков уже в первый месяц Второй мировой войны предпочло одним прыжком вернуться к старому и опереться на привычные шаблоны. Двадцать лет государственного суверенитета — срок слишком короткий , и нажитые за эти годы привычки стерлись, как пыльца с мотыльковых крылышек — в один миг. Действовало и сходство ситуаций: раздел страны между двумя врагами, тюрьмы, депортация, Сибирь, ставка на Францию и Англию, польские легионы на Западе. Политические идеи эмиграции сложились из тех же шаблонов. Освобождения ждали от разгрома и Германии, и России, поскольку так было в Первую мировую. Однако, как справедливо замечено, история однократна, а повторяясь — перемешивает трагедию с кровавым гротеском. Многие из нас, созревших мыслью в условиях, когда народные порывы могли вызвать разве что скептическую усмешку, пережили за годы войны нестерпимый внутренний раскол: чудовищно тяжело признаваться себе, что и умом, и глазами видишь все ту же фальшь застарелых штампов, когда этими штампами охвачены миллионы втоптанных в грязь и казнимых катами людей.
Все мы не раз попадали в ситуации, вынуждавшие как-то дистиллировать прежние смутные предчувствия, очищая их от случайностей и сводя к главному; вместе с тем, такие ситуации каждый раз бывают настолько непросты, что, пожалуй, правильней видеть в них своего рода метафоры, которые ведь всегда ближе к реальности, чем та или иная теория. Поэтому я предпочту не отправляться за самим собой в детские годы, а лучше шагну вперед и даже выйду за пределы Второй мировой войны в самый ее конец. Картина, как сейчас стоящая передо мной во всех подробностях, датируется январем 1945 года.
В большой горнице деревенского дома на лавках под стенами расселись около дюжины советских солдат и старшин. На коленях, обтянутых ветхим штатским сукном, они держали жестянку табаку, сворачивая цигарки из папиросной бумаги. Я их, напиравших плечами с обеих сторон (на лавке было тесно), совершенно не отделял сейчас от некоей мифической России. Может быть, человеку чужому, никогда прежде не встречавшемуся с русскими и не разбиравшему интонаций их голоса или смысла жестов, они показались бы чем-то новым, невиданным. Для меня же они были законными правоприемниками тех сокровищ, из которых черпали в свое время Достоевский и Толстой. И так же, как их предки разбили Наполеона, они разбили Гитлера. Взгляды всех сходились к центру избы, где стоял мужчина лет под тридцать, в белом кожухе до пят, с хорошо скроенным лицом распространенного в прирейнских областях типа. Пленный немец, завоеватель — и в полной их власти. Той зимой трупы в зеленых мундирах, вповалку лежавшие по полям, приоткрыв стекленеющую полоску зубов, ни вызывали у меня вздоха ни радости, ни печали. Чужие, как камни, они были всего лишь частью зрелища наказанной гордыни, и втоптанная в снег пряжка с выдавленным “Gott mit Uns” выглядела горькой иронией. И вот он стоял здесь, а за ним виделись аккуратные домики с ванной, елки в разноцветных шарах, старательно возделанные многими поколениями виноградники и музыка Иоганна Себастьяна Баха. Оторванный от своих — стоял перед чужими, у которых не было ни ванн, ни уложенных в сундук скатертей, полотенец и наволочек с вышитыми крестиком изречениями, ни грядки роз под окном, — только водка, единственное лекарство от убожества, нужды и невзгод. Глупый или, если хотите, наивный. И даже не в том было дело, что он один, а их много, и он безоружен, а они вооружены. Нет, психическая мощь их молчаливого ареопага превосходила его силы, он никогда еще не чувствовал при встрече с себе подобными такого напряжения, когда настоящая телепатия, обходясь без слов и знаков, разом сплачивает единицы в отдельное от них самих целое. От слова, крика или песни ему стало бы легче. Из них — по всей видимости, полуграмотных — била какая-то монументальная умудренность безучастия. И то, что он не мог прочесть в обращенных к нему глазах ничего, вгоняло его в ужас.
Видимо, я должен был его ненавидеть. И прежде всего — за его глупость, помноженную на глупость миллионов ему подобных и тем самым подарившую Гитлеру власть, а из него самого сделавшую слепое орудие смерти. Но я не чувствовал ненависти. Почему-то он представлялся мне на залитом солнцем склоне, в летней рубахе, за тачкой с фруктовыми черенками. Другие тоже не испытывали к нему ненависти. Он, как зверек в клетке, до того боялся неизвестности, что один из солдат встал и угостил его самокруткой, и это движение руки означало мир. Другой подошел и похлопал по плечу. Потом к нему шагнул старшина и стал что-то долго, вразумительно втолковывать. Затея напрасная, немец не улавливал ни слова, но не отрывал глаз от шевелившихся губ говорящего: пес, пытающийся угадать смысл слов хозяина. По дружелюбному тону он понял, что мстить ему не собираются, обидеть не хотят. “Да не трусь ты”, — с нажимом повторял старшина. Ничего плохого ему не сделают, война для него уже кончилась, он теперь не враг, а обыкновенный человек, будет себе мирно трудиться, сейчас его отправят в тыл. Жалость, больше того, сердечность в голосе успокоили немца, и он несмело улыбнулся — в знак благодарности. Когда один из солдат полусонно поднялся с лавки и без приказа повел его наружу, они повернулись все с той же апатией — вконец вымотанные люди, добравшиеся до привала. Минуты через две конвоир возвратился, волоча белый кожух, кинул его рядом со своим вещмешком и скрутил цигарку. Затягиваясь и поплевывая на пол, видящие всем видом выражали грустное раздумье о краткости человеческой жизни: “Не судьба”.
Жестоко, скажете вы? Но попробуйте увидеть этот случай тогдашними глазами. Немцы истребили бесчисленное множество советских военнопленных, бросив их за колючую проволоку на голодную смерть; сведения об этом разошлись среди солдат в мгновение ока, и при мысли о подобной опасности каждый поклялся сражаться до последнего. Число безоружных людей, уничтоженных гитлеровцами в Польше, выражалось цифрой, не уступавшей населению Швейцарии. Что до союзников, то их боровшимся с самосудом войскам удавалось иногда прятать пленных. Однако массовыми, особо обставленными действиями такого рода они только вызывали еще большую ненависть и презрение к немцам: жертвы, те при этом, на общий взгляд, как бы лишались даже остатков человеческого, делались отвратительными марионетками, что уже само по себе разжигало месть; в свое время подобный психический процесс, например, обдуманно возбуждался в массах самими нацистами, направляясь против евреев и поляков. В нашем случае солдаты убили немца не по злобе, а по велению необходимости. Необходимость воплощалась в хлопотах по отправке в тыл одного-единственного пленного, либо в белом кожухе. Может, с их точки зрения, забрать у человека теплую одежду и выгнать его на мороз было бы нехорошо, неправильно. Мы ведь сами назначаем себе границы необходимости, проводя черту между неизбежным и возможным. Разыгранную ими человечную комедию кто-то назовет подвохом, однако она всего лишь наилучшим образом выражала их внутреннюю потребность. Вполне искренне сочувствуя пленному, они вместе с тем считали, что такие дела следует делать по возможности мягко и тихо.
Кто знает, не здесь ли — самая суть нашего польского комплекса? Цепь сплетающихся хоть в какое-то целое причин и следствий длинна, и ни один из повинующихся ее диктату не в силах до конца осознать, почему она свилась так, а не иначе. Но заключительные звенья цепи, иначе говоря — ее структура, и не казались мне, так и этак крутившему тогда в мыслях происшедшее, чем-то решающим: структура ведь тоже проявляется не в пустоте, и сколько ты ее до окончательного экспортного блеска ни отделывай, а она все равно несет на себе ту же родимую почву. Я вспоминал некоторые сцены из русской литературы прошлого века и не мог отделаться от польского стереотипа, согласно которому русский если кого режет, то непременно обливая жертву горючими слезами. Однако прежде всего я с особой четкостью представил себе все, что приходилось читать о восточно-христианских сектах, в буквальном смысле слова близких мне, если иметь в виду мою “восточную” составляющую. В безжалостной природе и безжалостном общественном устройстве сектанты черпали убежденность в том, что мир безраздельно принадлежит Сатане. Упразднить его закон, как и законы самого творения, может лишь Царство Небесное. Поэтому русские мистики учили, что с приходом Царства Божия спасен будет не только человек, но и последний муравей и муха. Однако такое — до известной степени, нечеловеческое — сочувствие на практике разрывало связь между мыслью и действием. Ведь если до Христова пришествия мы полностью отданы во власть постыдного закона, то бунт нашего сердца бессилен. Позже, когда Царство Божие получило титул “коммунизма”, у его приверженцев могло быть, по крайней мере, то утешение, что их ведет вполне земная “железная необходимость”, а подчинение ей — на деле означавшее истребление противников, гнет и пытки — шаг за шагом приближает Великий День.
Конечно, солдаты могли уже не иметь ничего общего с христианством и даже не быть коммунистами. Но благодаря всему, окружавшему с самого детства, они напрактиковались в раздвоении, которое, стоит отметить, нигде за пределами их отечества не зашло так далеко. Государство с его величественной конституцией, школа, книги, — все нацеливало их на “идеалы братства”, “новый человек” был само благородство, сама чистота. Но это в теории, которая постепенно и независимо ни от чего разрасталась, как коралловый остров над поверхностью моря. Остров тот, впрочем, давно бы рухнул, не поддерживай его “заговор против правды”. Разыгрывая — и скорей перед собой, чем перед пленным — всю эту комедию, солдаты платили дань тому, что должно быть, вместе с тем отлично понимая, насколько в действительности все иначе.
А когда связь между мыслью и действием разорвана, благородные слова, дружеские объятия, слезы искренних признаний и вся эта хваленая и притягательная русская широта остаются чем-то вроде мысленного побега в свободную от давящих земных законов страну, где человек человеку — брат, в глубины подлинных переживаний, где можно позволить себе расковаться, хотя каким-то уголком сознания понимаешь: все это — лишь в рамках дозволенного. И что же тут удивляться, если потом один настучит на другого или его прикончит, ведь не мы виноваты, весь мир плох. Вот в Царствии Небесном (то бишь, при коммунизме) — там лев и вправду будет лежать бок о бок с барашком. Однако освобождение себя от любой ответственности быстро входит в привычку, а порог, за которым вступает в права пресловутая “необходимость”, оказывается куда как низким. Зло творят без воодушевления, но никто и пальцем не шевельнет, чтобы его избежать. Причем за любым свободным поступком подогревается исключительно стремление к материальной выгоде.
Поляки достаточно близки русским по крови и достаточно напуганы изнутри слабостью собственной индивидуальной этики, чтобы не чувствовать эту опасность на себе. Но наше прошлое, сложившееся так, как оно сложилось, оказалось во многом избавлено от эсхатологических крайностей. Наши радикальные протестантские секты — закваска и предвестие позднейших демократических движений — не учили, будто справедливости на земле не достичь. И хоть порой они запрещали своим членам отправлять обряды (любая власть считает долгом утверждаться с помощью меча), но чаще все же спорили о том, как следовать евангельским заветам в современном обществе, иными словами — как организоваться. В польской литературе не найдешь таких героев, как Алеша или князь Мышкин, стоящих перед дилеммой: или все в мире благо, или все — зло, — как не встретишь и отчаянного метания “лишних людей”, жаждущих высшей Цели, Бога, и почти на сто лет вперед предсказавших России революции с ее абсолютизмом целей. Ключевое, не меньше “Фауста” в Германии ценимое произведение польской словесности построено на прометеевом бунте против Бога во имя солидарности с угнетенным человеком (тягчайшее обвинение здесь: “И не Творец небесный ты, а ... Царь”[8]). Но бунт этот осложнен христианским послушанием и, вместе с тем, политическим действием во имя жизни людей (русский бы, наверное, выбрал или послушание и святость, или действие). Если вглядеться, заоблачный польский романтизм со всей его тоской куда ближе к земле, куда скромней, чем русский реализм, приправленный непомерной жаждой. И хотя я вынес из школы вполне ощутимые начатки раздвоенности, которые, думаю, и позволяли мне лучше других понимать русское, они уравновешивались другими влияниями: обозначу их заглавием одной книги XVI века (мы проходили ее по программе) — “De Republica emendanda”[9]. Важной оказалась и привязанность к литовцам. Сравнивая их с поляками, я признавал превосходство литовской основательности и хозяйственности. Их взаимоподдержку и взаимовыручку могла бы взять за образец вся Европа. Материю, какую ни на есть, со счетов не сбросишь — по крайней мере, я этого делать не собирался.
Прав я или нет, не стану скрывать и самый свой главный комплекс. “Глубина” русской литературы всегда казалась мне подозрительной. Не слишком ли велика ее цена? Разве, выбирая из двух зол, мы бы не предпочли что-нибудь “поплоше”, будь за этим как надо отстроенные дома, сытые и ухоженные люди? И чего стоит мощь, если всегдашний ее источник — опять лишь столичная власть, а тем временем в забытом Богом провинциальном городке снова и снова разыгрывается сюжет гоголевского “Ревизора”? Именно через Польшу времен моей юности проходила граница, отделявшая области, которыми некогда управляли Пруссия и Австрия, от тех, куда свидетельство своих управленческих талантов вложили русские. Империя была по обе стороны. Но мечтая начать с tabula rasa, русские революционеры лгали самим себе. Утвердившись в Кремле. они могли строить лишь из того “материала” людей, обычаев и привычек, который имели под рукой. И, что еще хуже, сами были слеплены из того же материала. Советские историки твердят, будто Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина II были их “предшественниками”, трудясь на благо будущей революции. И хоть подобные представления о предшественничестве могут вызвать только смех, они немало говорят о культе силы, сметающей любые преграды приказом с единого престола, этой точки наивысшего контроля надо всем, — и о полнейшем пренебрежении к естественному росту.
В моем отношении к России — начало позднейших недоразумений между мной и моими французскими и американскими друзьями. Они, случалось, обвиняли меня в национализме, хотя прекрасно видели, что я не делю людей на лучших и худших ни по языку, ни по цвету кожи, ни по вероисповеданию и считаю коллективную ответственность разновидностью преступления. При этом их удивляла моя симпатия к каждому русскому по отдельности, моя предрасположенность в его пользу. Все вместе складывалось в какое-то непонятное для них целое. К сожалению, вынужден признать, что у меня нет языка, способного раз и навсегда отграничить одно от другого. И этот недостаток терминов — не только мой грех. В паническом страхе перед бреднями националистов и расистов ХХ век пытается засыпать разверзшуюся пропасть времен цифрами произведенной продукции или титулатурой нескольких государственно-политических систем, отказываясь вникать в тончайшую ткань реальных явлений, где нельзя упустить ни единой нити. Среди таких явлений и взгляды всеми забытых старых русских сект. Это только кажется, что прошлое канет без следа. По сути, оно незаметно преображается, и такие вроде бы далекие реалии, как уклад жизни в Древнем Риме, продолжают жить и сегодня, поскольку именно там и больше нигде сложились формы будущего католицизма. Или другой пример. Завоевание французами в средние века земель к югу от Луары — событие, упрятанное в подсознании их жителей, — позже не раз проявлялось в протестантском, а потом и революционном настрое тех провинций. Когда описание стран и культур еще не было обставлено таким количеством запретов, связанных с разделением знаний по каталожным ящикам, авторы — и чаще всего путешественники — не пренебрегали следами времени, отпечатавшегося в наклоне крыши, выгибе рукоятки плуга, жесте или пословице. Журналист, социолог и историк вполне могли уживаться в одном человеке, пока — и с большим для себя уроном! — не расстались друг с другом. Некоторые афоризмы о взаимоотношениях двух наших стран и сегодня поражают какой-то не ухватываемой рассудком правдой. К примеру, русский писатель Дмитрий Мережковский говорил одному из своих польских собеседников так: “Россия — это женщина, у которой никогда не было мужа. Ее только насиловали — татары, цари, большевики. Единственным мужем ей могла бы стать Польша. Но Польша была слишком слаба”. Если кому-то трудно задуматься над справедливостью или несправедливостью этих слов, тогда, может быть, он хотя бы узнает в них некоторые следы старых и, право же, не во всем глупых людских верований?
Знание развивается неравномерно, устремляясь вперед в одних областях, топчась или даже пятясь — в других. Нынешний страх перед всяческими обобщениями, касающимися национальных и территориальных сообществ, заслуживают несомненного уважения, оберегая от прислужничества людям, которым нужна не правда, а добавочные аргументы в схватке за власть. И только когда поводы для подобных страхов отпадут, обученный видеть взаимозависимости разум проникнет в то, о чем более мудрые говорят сегодня с осторожностью и только за столом провинциального кабачка. А это наступит не раньше, чем оценка той или иной цивилизации перестанет быть орудием в борьбе против выработанного ею человеческого смысла, иначе говоря — нескоро. И поскольку судьба России решалась над Днепром в соперничестве с соседями, лишь тогда столкновение чувств, о которых здесь шла речь и которыми живут сегодня разве что впрямую вовлеченные единицы, станут темой, действительно волнующей каждого.
Перевод с польского Бориса Дубина
Источник - сайт журнальный зал http://magazines.russ.ru/slo/2001/1/ross.html
Родная Европа
Главы из книги
Война
Через много лет после второй мировой войны, когда Гитлер и Муссолини уже стали бледными призраками, я попал на пляж острова Олерон у берегов Франции, к северу от Бордо. Океанский отлив обнажил железные останки вросшего в песок корабельного остова. Трудолюбивая вода выдолбила возле ржавых балок рытвины, и получились прудики, в которых мой сын учился плавать. Мы решили, что остов лежит здесь со времен вторжения англо-американских войск, но оказалось, что намного дольше. Тут нашел свое пристанище плававший под уругвайским флагом корабль, перевозивший медь для французской армии, которая вела бои с войсками Вильгельма II. Прочность вещей и непрочность людей всегда поразительны. Я прикасаюсь к обросшим ракушками и водорослями бортам, не совсем еще готовый смириться с мыслью, что две великие войны теперь столь же нереальны, как пунические войны.
Первые мои сознательные впечатления совпали с войной. Высовывая голову из-под бабушкиной пелерины, я знакомился со страхом: рев перегоняемого куда-то скота, паника, густая пыль на дороге, темный горизонт, на котором сверкало и громыхало. Немцы наступали, царские войска отступали из Литвы, и с ними — толпы беженцев.
К тому лету 1914 года относится четко прорисованная сцена. Яркое солнце, газон, я сижу на лавочке с молодым казаком — он черный, тонкий в поясе и очень мне нравится. На груди у него перекрещиваются ленты с патронами. Он вытаскивает пулю, высыпает из гильзы на скамейку зернышки пороха. И тут происходит трагедия. Я люблю белого барашка. И вот я вижу: за ним среди зелени гонятся казаки, заступают ему дорогу. Чтобы его зарезать. Красивый казак вскакивает и бежит им на помощь. Мой отчаянный крик, нежелание признать неотвратимость беды — первый протест против Неизбежности.
В это же время появляются кладбища, которые позже станут излюбленным местом наших игр, — тщательно ухоженные могилы (мы натыкались на них в зарослях малины и ежевики) с каменными или деревянными крестами с фамилиями Шульц, Мюллер, Хильдебранд. Только о немецких павших возьмет на себя заботу чья-то рука. Никто не позаботится о солдатах царя.
На протяжении всего моего раннего детства реки, городки, пейзажи сменялись с огромной быстротой. Отца мобилизовали, он строил дороги и мосты для российской армии, и мы колесили с ним по прифронтовой полосе, вели кочевую жизнь, нигде не задерживаясь дольше двух-трех месяцев. Часто домом нам служил фургон, иногда — вагон военного эшелона с самоваром на полу, который опрокидывался, когда поезд внезапно трогался с места. Такое отсутствие оседлости, подсознательное ощущение, что все временно, входит, как мне кажется, в уравнения, составляемые в зрелом возрасте, и может быть причиной пренебрежительного отношения к государствам и строям. История становится текучей, обретает характер непрерывного странствования.
На меня обрушился хаос заманчивых и многоцветных картин: пушки разнообразной формы, винтовки, палатки, паровозы (один, похожий на огромную зеленую гусеницу, надолго поселился в моих сновидениях), моряки с кортиками, постукивающими по бедрам, киргизы в халатах до земли, китайцы с косичками. Возле какой-то станции я разглядывал самолет — путаницу веревок и тряпок. Мне подарили несколько игр — все с боями крейсеров. На всех накаляканных мною рисунках бежали в атаку солдаты и рвались снаряды.
Постоянно слыша вокруг себя русскую речь, я говорил по-русски, совершенно не понимая, что я двуязычен и по-разному складываю губы — в зависимости от того, к кому обращаюсь: к родным или чужим. Знание русского языка осталось навсегда, и потом никогда не было нужды специально его учить. Акцент, значение слов вдруг выскакивали из запертой кладовой памяти.
В одной местности, где мы задержались дольше обычного, проявилось мое призвание — видно, мне предназначалось стать бюрократом. Мы с моим приятелем Павлушкой, сыном бородатого старовера Абрама (библейский Авраам впоследствии неизменно представлялся мне только таким), прокрадывались в комнаты, где люди в мундирах с погонами писали и считали на счетах. Там мы усаживались за свободный стол, и я строгим голосом приказывал: “Павлушка, давай бумагу!” Насупив брови, я выводил нечто изображавшее подпись — движение карандаша наполняло меня сознанием своего могущества — и отдавал бумагу Павлушке, чтобы он приобщил ее к делу.
Вскоре после этих посещений армейской канцелярии мне надели на рукав красную повязку. Конец зимы 1916/17 года, отречение царя. Я гордился тем, что цвет моей повязки красивее, чем у местной детворы. Я узнал, что этот, малиновый, цвет — польский и патриотический. Очень хорошо, что прогнали царя, так ему и надо. Но мы — это одно, а русские — совсем другое.
Прибой омывал остов уругвайского корабля на песках Олерона и тогда, когда иприт на полях Фландрии отравлял людей, и когда рушились троны и государства, когда я проживал свою жизнь надежд и поражений, когда сооружались газовые камеры и сторожевые вышки концлагерей. В шуме океана всегда есть привкус бренности. Лучше довольствоваться малым человеческим временем.
Десять дней, которые потрясли мир
Барский дворец стоял в парке, спускающемся к Волге. Березовая аллея вела к расположенному в полутора верстах городу Ржеву. В подвалах дворца разместились армейские кухни, нижние этажи занимала семья владельца, в комнатах на чердаке жили мы, то есть “беженцы”. Любимыми моими друзьями были русские солдаты. Лицо приятно щекотали их рыжие бороды, мягкие, как обезьянка, которую мне сшили из лоскутков. Я участвовал во всех их трапезах в кухне внизу, сидя у кого-нибудь из бородачей на коленях. Мне совали в руку ложку и велели есть. Я относился к этому как к скучной обязанности, которую — неизвестно почему — надо исполнять, чтобы насладиться радостью общения. Потом я поднимался наверх, где меня ждал ритуал второго обеда: я все сметал с подсовываемых матерью тарелок не из жадности, а из послушания. В результате я стал мучеником аскетизма навыворот, подобно набожным ханжам-распутницам. Я тяжело заболел расширением желудка, что, как я сейчас понимаю, в преддверии приближавшихся великих событий было совсем некстати.
С хозяевами дворца я дружбы не завел и в их комнаты — сферу таинственную и недоступную — не заглядывал. Исключение составляла добрая старушка, которая уводила меня к себе по длинному, заставленному сундуками коридору. В ее комнате пахло ладаном, поблескивала позолота икон и красновато светились лампадки с плавающим в масле фитилем.
Кроме того, я, кажется, был влюблен в Лену. Правда, я мог только издали ею восхищаться. Это была двенадцатилетняя особа, гордая и надменная. Каждое утро к парадному крыльцу подкатывала коляска с кучером на облучке. Она отвозила Лену в Ржев, в школу. Я стоял поодаль и, глотая слюну, созерцал шею в вырезе матросского воротника. “Шея твоя, как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем — все щиты сильных”, — мог бы я сказать, однако не говорил. Меня не смущало, что у предмета моего восхищения веснушки и прыщи. Но тогда ни в чем не было ясности. Я постоянно слышал вокруг: “Ленин, Ленин”, и этот звук ничего не означал. Однако он ассоциировался с шеей, и оттого в моем воображении странным образом переплелись Лена и Ленин.
“Десять дней” представились мне следующим образом. Я лежал в кровати, открыл глаза и увидел одного из моих бородатых друзей. Его гимнастерка была сплошь забрызгана кровью. Вел он себя не так, как обычно. Каким-то хриплым шепотом, словно куда-то спешил, спросил, где родители. Потом исчез, и тут же вбежали мать с отцом с криком, не испугался ли я. “Сережа зарезал петуха”, — ответил я и, перевернувшись на другой бок, заснул.
Для свободы есть разные определения. Одно из них гласит, что свобода — это возможность пить водку в неограниченных количествах. В Ржеве солдаты разгромили казенную винную лавку. Спиртное потекло по сточным канавам, и жители города, не в силах глядеть на такое расточительство, ложились на край канав и пили. Сережа ввязался в пьяную драку и деловито зарезал не петуха, а одного из своих товарищей, вследствие чего другие погнались за ним, чтобы ответить ему тем же. Он влетел на наш чердак в поисках убежища. И кажется, мои родители где-то его спрятали, что было благородно.
Возникают новые линии раздела между людьми. Немаловажно деление на тех, кто знает Россию, и тех, кто ее не знает: разнится их глубинное, порой трудно определимое отношение к одним и тем же явлениям жизни. Знание это вовсе не обязательно осознанное. Поразительно, до какой степени дух той или иной страны может проникнуть в ребенка. Сильнее мысли зрительный образ: например, сухие листья на дорожках, сумерки, тяжелое небо. В парке пересвистывались революционные патрули. Волга была свинцово-черной. Я навечно впитывал ощущение подспудной опасности, непостижимых диалогов — шепот, перемигивания. Дворец покорно ждал обещанной расправы с его обитателями — этой печальной участи вряд ли избежали бы случайные приживальщики-беженцы, — и в воздухе был разлит страх. Я впитывал в себя и церковные луковки на фоне сине-красного неба, испятнанного тучами галок, булыжные мостовые Ржева, на которых за проезжающей телегой тянулся ручеек семечек из распоротого мешка, детей в ушанках, с криком запускающих змея. По неизвестным мне причинам — вероятно, из-за переездов конторы, где служил отец, или по соображениям безопасности — мы вскоре снова отправились в путь и поселились в Дерпте — городе на западном рубеже бывшей империи. Деревянная лестница в доме была грязная, двор унылый. Вокруг меня не стихали разговоры о голоде. Не хватало сахара, мяса, был хлеб, больше чем наполовину состоящий из опилок, сахарин и картошка. Ночью меня будил громкий стук в дверь, шаги и грубые голоса. При свете коптилки люди в кожанках и высоких сапогах высыпали на пол содержимое ящиков и шкафов. Отец мой был “спецом”, утвержденным рабочим советом предприятия, и в списке подозрительных лиц не значился. Обыски во всех домах города были, по-видимому, делом обычным. Ужас на лицах женщин, крик брата в колыбели, перевернутый вверх дном убогий семейный очаг, то бишь нора, — все это ранит детскую душу.
Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ
источник - http://magazines.russ.ru/inostran/1999/2/milosz.html
Груз прошлого
Вынужденный поворот
Боевой путь
Русские и поляки были естественными союзниками в борьбе с нацизмом. В обеих странах потом много говорили о "братстве по оружию, скрепленном кровью".
Памятный знак дивизии имени Тадеуша Костюшко с надписью "Ленино - Берлин"
В последние 20 лет выяснилось (а поляки помнили об этом всегда), что братство было омрачено предшествующими кровавыми событиями.
С Польшей у Сталина имелись особые счеты.
Во время советско-польской войны 1920 года он являлся членом Реввоенсовета (политкомиссаром) Юго-Западного фронта.
Большевики рассматривали "польский поход" как начало мировой революции, и связывали с ним большие надежды.
"Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству. На запад!" - писал в приказе №1423 от 2 июля 1920 года командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский.
"Даешь Варшаву! Дай Берлин!" - призывали на митингах бойцов.
"Границы фронта определяются пределами всего материка Старого Света", - говорилось в решениях проходившего 19 июля - 2 августа в Петрограде II конгресса Коминтерна.
В разгар наступления Ленин считал польский вопрос уже решенным и писал Сталину: "Зиновьев, Каменев, а также и я думаем, что следовало бы поощрить революцию тотчас в Италии. Мое личное мнение, что для этого надо советизировать Венгрию, а также Чехию и Румынию".
Не вышло.
Многие историки объясняют расправу над Тухачевским и бывшим командующим Юго-Западным фронтом Александром Егоровым в 1937 году, среди прочего, желанием Сталина избавиться от свидетелей своего позора.
"Красных маршалов" требовалось объявить врагами, вредившими советской власти еще с гражданской, чтобы объяснить народу, почему кампания, одну из ключевых ролей в которой играл "гениальный вождь", оказалась провальной.
Соседнюю страну, с которой пришлось заключить мир, выплатив пять миллионов золотых рублей контрибуции, в СССР именовали не иначе как "панской Польшей" и винили во всех бедах.
Как следовало из подписанного Сталиным и Молотовым в разгар голода начала 1930-х годов постановления о борьбе с миграцией крестьян в города, люди, оказывается, делали это, не пытаясь спастись от голодной смерти, а будучи подстрекаемы "польскими агентами".
Вплоть до середины 1930-х годов в советских военных планах Польша рассматривалась как главный потенциальный противник.
"Комсомолка, из нагана целься и думай: перед тобой лорды и паны", - писал Владимир Маяковский, призывая молодежь заниматься военной подготовкой в Осовиахиме.
Репрессии против проживавшего в Москве руководства польской компартии в 1937-1938 годах были обычной практикой, но то, что ее объявили "вредительской" как таковую и распустили решением Коминтерна, - факт уникальный.
В ходе "польской операции", проводившейся по секретному приказу Ежова №00485, были арестованы 143810 человек, из них осуждены 139835 и расстреляны 111091 - каждый шестой из живших в СССР этнических поляков.
23 августа 1939 года руководители СССР и нацистской Германии подписали Польше приговор
После событий сентября 1939 года, которые в Польше считают "четвертым разделом", Вячеслав Молотов в речи на сессии Верховного Совета назвал Польшу "уродливым детищем Версальского договора", а нарком обороны Климент Ворошилов в праздничном приказе от 7 ноября утверждал, что она "разлетелась, как старая и сгнившая телега".
Газеты публиковали издевательские карикатуры, на одной из которых, к примеру, грустный учитель объявлял классу: "На этом, дети, мы заканчиваем изучение истории польского государства".
В прессе и документах страну именовали либо "бывшей Польшей", либо, на нацистский лад, "генерал-губернаторством".
На вновь присоединенных территориях с населением в 13,4 миллиона человек за два с небольшим года были арестованы 107 тысяч, примерно половина из них поляки по национальности, и сосланы в Сибирь 391 тысяча, из которых около 10 тысяч умерли в ходе депортации и на поселении.
По количеству жертв перед этими трагедиями меркнет даже Нажать катынская расправа, хотя именно она стала известна всему миру.
Источник -
Метки: