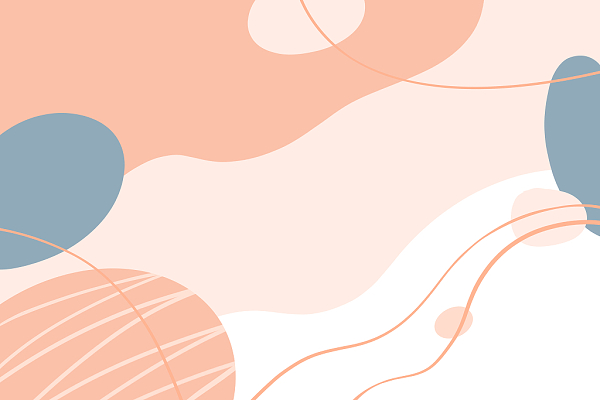Вторая встреча
Мы шли с Борисом Николаевичем по Крещатику. Цвели каштаны. Светило солнце, сверкали вымытые тротуары, стекла витрин, все дышало чистотой, негой и предвосхищением. ?Знову цвитуть каштаны, хвыля днипровська бъе…? - доносился из динамиков этот вальс-гимн великого города, праматери городов русских. Дышалось глубоко и часто, сказывалось волнение от всего происшедшего с нами, хотя ничего внешне значимого не было, но что-то происходило в душах, невообразимо прекрасное, томительное до изнеможения, до боли от невозможности упиться этим здесь и сейчас ?до одури, до смерти?. Чтобы забыться, впасть в бесчувствие…
Борис Николаевич, мой учитель, художник, маэстро. Уже просмотрены выставки, художественные музеи, дом Булгакова, уже забиты файлы оперативной памяти всяческой информацией, идет анализ. Разговор двух художников – это нечто особенное. Постороннему он может показаться бредом двух умалишенных, говорящих то выспренно на волне восторгов, ссылок и цитат, то вдруг едко и зло без видимой связи и смысла обрушивающихся на нечто невинное и малозначимое. Мы зашли в кафе на Бессарабке. Любимый нами Михаил Афанасьевич, в деталях, подробно и поэтично описал бы вам ее саму и, до слюновыделения, поданные кушанья. Я же ограничусь репликой Бориса Николаевича, сравнившего необыкновенную чистоту и безукоризненную свежесть киевских официанток, поварих, и даже уборщиц, с нашими грязновато-синюшными питерскими леди (с их непременной ?беломориной? в зубах). Ели мы что-то национальное (не галушки!), поразительно свежее и вкусное. Борис Николаевич говорил – я слушал. Массивы знаний и опыта были настолько несоизмеримы, что оставалось только слушать и, по возможности, понимать. Иногда маэстро задавал вопрос, чтобы убедиться в этом самом понимании, я отвечал и ?беседа? либо продолжалась, либо задерживалась на более обстоятельном толковании. Я вам уже говорил о волнении непонятном и необъяснимом. Именно это и привело нас к графинчику, под который потекла речь об ?Андрее Рублеве? Тарковского и Борис Николаевич уже сам уподобился Феофану Греку и со слезой в голосе описывал мир, увиденный глазами художников всех времен и народов. Эрудиция с легкостью позволяла ему все. Надобно заметить, что художник – это такая тварь, специально натасканная на красоту. Красоту чувствуют все, но художник, как такса наркотик, находит ее мгновенно и безошибочно и в таких местах, где другим и в голову бы не пришло искать. Если у вас есть ребенок, настроение которого меняется на резко противоположное несколько раз в день, если он, сосредоточенно сопя, долго и упорно чем-то занят, да так, что без скандала не оторвать – а то не может ни на чем сосредоточиться, хватается за все без разбора и сразу – знайте он оттуда! Он создаст нейтринную какую-нибудь бомбу, построит невиданные города и корабли, напишет картины, стихи и музыку – неважно – он оттуда. И горе ему, бедному, если не найдет точки приложения своему дарованию. А бывает и горе всем. Нет участи печальнее на свете! Вы уж поверьте.
Мы вышли из кафе и мимо прекрасного гранитного монумента Владимиру Ильичу пошли по бульвару. Борис Николаевич любовался каштанами в цвету. Предлагал анализ листвы на просвет, на отраженный свет, на контражур с золотым небом, цитировал Врубеля о рисунке пространства между листьями, ссылался на импрессионистов, внезапно переходил к нашим, русским и, как следовало ожидать, остановился на, любимых им в ту пору, ?малых голландцах?. Когда он рассказывал об окошке в углу мастерской Вермеера, ставшего историческим в силу мощи таланта художника, мы уже подходили к университету имени Т. Г. Шевченка. Бульвар заполнялся студентами и студентками: праздными, нарядными, задорными, беззаботными, молодыми и красивыми. Уродство тогда еще не входило в моду. Это несколько отвлекло меня (молодость!) и я невольно залюбовался стройными, но статными и обольстительными фигурками киевлянок.
Вот тут оно и случилось. Она шла навстречу одна. Все звуки исчезли, уступив место чеканному ритму ее каблучков. Гордо несла она себя, как каравелла при всех парусах и флагах среди рыбацких парусников. Вермеер бы задохнулся. Гоголь, разве что, смог бы описать ее грудь. Он уже и писал о ней в своей изумительной статье об архитектуре, где белые, сладострастные купола и были ее грудью! Ноги! А лицо, волосы! Боже, дар твой оставил нас, речь пресеклась и соляными столпами я, молодой и ветреный, и Борис Николаевич, седой и мудрый, застыли мы, образуя почетный караул, мимо которого она царственно прошествовала. Уже на подходе она скользнула взглядом по моему лицу, слегка зарделась, взглянула на Бориса Николаевича, улыбнулась как-то виновато и он, так же, улыбнулся ей. Я почти услышал, как она сказала: ?Я узнала тебя, мой рыцарь. Но ты постарел и на излете, а я так молода... Прости меня?. ?Прости и ты меня, моя голубка, но все же, мы встретились!? - был ответ.
Мы долго шли молча. Не было слов. Борис Николаевич кашлянул и попытался что-то сказать, но пришлось прокашляться основательно. Затем, севшим голосом, заговорил:
- Коля, а знаешь, как утешают себя венгры, когда им встречается очень красивая женщина?
- Чем же можно утешиться, Борис Николаевич? – отчаянно вскрикнул я.
- Они говорят себе: ? А кому-то она уже и надоела!?
- Да как такая может надоесть, это невозможно, Борис Николаевич!
- Венгры так говорят, Коля. Они мудрый народ.
Мы шли, я смотрел на розовые плиты под ногами, автоматически отмечал солнечные пятна, зачем-то считал шаги и думал, думал о ней. Мысль о том, что и она может кому-то надоесть, не утешала, но примиряла с жизнью.
Борис Николаевич, мой учитель, художник, маэстро. Уже просмотрены выставки, художественные музеи, дом Булгакова, уже забиты файлы оперативной памяти всяческой информацией, идет анализ. Разговор двух художников – это нечто особенное. Постороннему он может показаться бредом двух умалишенных, говорящих то выспренно на волне восторгов, ссылок и цитат, то вдруг едко и зло без видимой связи и смысла обрушивающихся на нечто невинное и малозначимое. Мы зашли в кафе на Бессарабке. Любимый нами Михаил Афанасьевич, в деталях, подробно и поэтично описал бы вам ее саму и, до слюновыделения, поданные кушанья. Я же ограничусь репликой Бориса Николаевича, сравнившего необыкновенную чистоту и безукоризненную свежесть киевских официанток, поварих, и даже уборщиц, с нашими грязновато-синюшными питерскими леди (с их непременной ?беломориной? в зубах). Ели мы что-то национальное (не галушки!), поразительно свежее и вкусное. Борис Николаевич говорил – я слушал. Массивы знаний и опыта были настолько несоизмеримы, что оставалось только слушать и, по возможности, понимать. Иногда маэстро задавал вопрос, чтобы убедиться в этом самом понимании, я отвечал и ?беседа? либо продолжалась, либо задерживалась на более обстоятельном толковании. Я вам уже говорил о волнении непонятном и необъяснимом. Именно это и привело нас к графинчику, под который потекла речь об ?Андрее Рублеве? Тарковского и Борис Николаевич уже сам уподобился Феофану Греку и со слезой в голосе описывал мир, увиденный глазами художников всех времен и народов. Эрудиция с легкостью позволяла ему все. Надобно заметить, что художник – это такая тварь, специально натасканная на красоту. Красоту чувствуют все, но художник, как такса наркотик, находит ее мгновенно и безошибочно и в таких местах, где другим и в голову бы не пришло искать. Если у вас есть ребенок, настроение которого меняется на резко противоположное несколько раз в день, если он, сосредоточенно сопя, долго и упорно чем-то занят, да так, что без скандала не оторвать – а то не может ни на чем сосредоточиться, хватается за все без разбора и сразу – знайте он оттуда! Он создаст нейтринную какую-нибудь бомбу, построит невиданные города и корабли, напишет картины, стихи и музыку – неважно – он оттуда. И горе ему, бедному, если не найдет точки приложения своему дарованию. А бывает и горе всем. Нет участи печальнее на свете! Вы уж поверьте.
Мы вышли из кафе и мимо прекрасного гранитного монумента Владимиру Ильичу пошли по бульвару. Борис Николаевич любовался каштанами в цвету. Предлагал анализ листвы на просвет, на отраженный свет, на контражур с золотым небом, цитировал Врубеля о рисунке пространства между листьями, ссылался на импрессионистов, внезапно переходил к нашим, русским и, как следовало ожидать, остановился на, любимых им в ту пору, ?малых голландцах?. Когда он рассказывал об окошке в углу мастерской Вермеера, ставшего историческим в силу мощи таланта художника, мы уже подходили к университету имени Т. Г. Шевченка. Бульвар заполнялся студентами и студентками: праздными, нарядными, задорными, беззаботными, молодыми и красивыми. Уродство тогда еще не входило в моду. Это несколько отвлекло меня (молодость!) и я невольно залюбовался стройными, но статными и обольстительными фигурками киевлянок.
Вот тут оно и случилось. Она шла навстречу одна. Все звуки исчезли, уступив место чеканному ритму ее каблучков. Гордо несла она себя, как каравелла при всех парусах и флагах среди рыбацких парусников. Вермеер бы задохнулся. Гоголь, разве что, смог бы описать ее грудь. Он уже и писал о ней в своей изумительной статье об архитектуре, где белые, сладострастные купола и были ее грудью! Ноги! А лицо, волосы! Боже, дар твой оставил нас, речь пресеклась и соляными столпами я, молодой и ветреный, и Борис Николаевич, седой и мудрый, застыли мы, образуя почетный караул, мимо которого она царственно прошествовала. Уже на подходе она скользнула взглядом по моему лицу, слегка зарделась, взглянула на Бориса Николаевича, улыбнулась как-то виновато и он, так же, улыбнулся ей. Я почти услышал, как она сказала: ?Я узнала тебя, мой рыцарь. Но ты постарел и на излете, а я так молода... Прости меня?. ?Прости и ты меня, моя голубка, но все же, мы встретились!? - был ответ.
Мы долго шли молча. Не было слов. Борис Николаевич кашлянул и попытался что-то сказать, но пришлось прокашляться основательно. Затем, севшим голосом, заговорил:
- Коля, а знаешь, как утешают себя венгры, когда им встречается очень красивая женщина?
- Чем же можно утешиться, Борис Николаевич? – отчаянно вскрикнул я.
- Они говорят себе: ? А кому-то она уже и надоела!?
- Да как такая может надоесть, это невозможно, Борис Николаевич!
- Венгры так говорят, Коля. Они мудрый народ.
Мы шли, я смотрел на розовые плиты под ногами, автоматически отмечал солнечные пятна, зачем-то считал шаги и думал, думал о ней. Мысль о том, что и она может кому-то надоесть, не утешала, но примиряла с жизнью.
Метки: