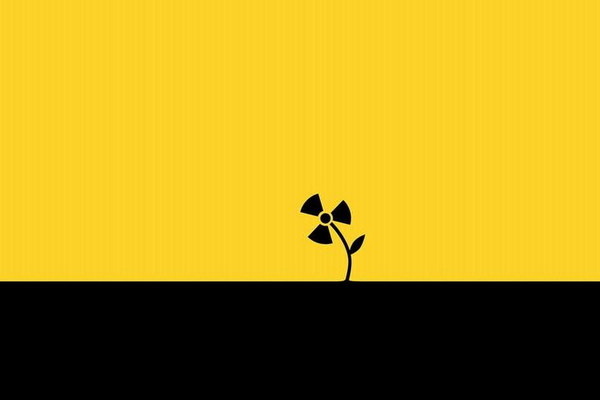Заутрени Луизы Глюк из сборника Дикий Ирис
Заутреня - не обязательно утренняя молитва. Заутреня это и утреннее удивление, размышление, разговор с самим собой, и с тем, кто слушает и слышит: и потому разговор немножко сумбурный, бесформенный - перебираешь, нанизываешь мысли, возникающие одна за другой, одна из другой. Это не мантры, которые созданы отвлечь от прыгающих мыслей, сосредоточиться на одной эмоции, мысли, и через это слиться с ней, углубиться в неё, надеясь с каждым погружением сделать ещё один шаг в глубь уже знакомого колодца, и возможно открыть ещё более глубокую истину. Заутрени Луизы Глюк не мантры, они рождаются в момент их произношения, и не запиши она их, ни мы, ни, скорее всего, она сама никогда бы не вернулись к ним. Но она их записала, как утренний поток мысли. Поток мысли в тот момент, когда критический анализ этих налетающих мыслей ещё не проснулся, когда анализ формы спит глубоким утренним сном, но этот бесформенный поток требует своего литературного воплощения, и автор решается дать ему жизнь и разделить эту жизнь с нами.
И вот в вольной, свободной поэзии возникает ещё одна степень свободы, ещё одно освобождение, освобождение от необходимости привычных ассоциативных связей от строчки к строчке. Внутренний, неоформленный монолог, в котором прыжки от мысли к мысли, связаны со случайно возникшей ассоциацией, ассоциацией персональной, которую не возможно ни предугадать, ни логически оправдать из предыдущих строчек.
Ритм, рифма, даже если у больших поэтов невозможно её предвидеть, создают внутреннее ожидание, и неожиданность рифмы не нарушает это ожидание, но создаёт дополнительное очарование. Текст несёт в себе очарование новой мысли, нового способа её выразить, следование тексту предполагает наличие логических связей от строчки к строчке, и это тоже есть часть естественного ожидания читателя, и когда автор предлагает новый, неожиданный логический прыжок это тоже очаровывает. Но в заутренях разрушена и эта логика ассоциаций, в них ассоциации связанны только с внутренним миром автора. Чтобы преодолеть этот барьер ассоциативных неожиданностей мы должны сделать ещё один шаг. Мы должны слушать автора как мы слушаем любимого. С открытым сердцем и желанием услышать.
И вот вслушиваясь мы постепенно привыкаем к неожиданным ассоциациям, мы видим за ними, как мы видим в любимом человеке ребенка, подростка, обиженного, удивленного. Может ли автор найти лучшего читателя.
Заутреня
Свет солнца. У калитки, на берёзе, с расщепленным стволом,
сложились в сладки листья - плавнички. Под ней
на полых стеблях шарики из пуха, трилистник, малютки орхидеи,
и по земле ковёр из тёмных листьев диких фиалок.
Ной говорит, что депрессивные весну ненавидят,
нет равновесия между мирами внутренним и внешним.
Это не обо мне,
я в депрессии, но ощущаю
огромное желание обнять живое дерево, и моё тело, распластанное
вдоль ствола расщепленной берёзы, почти спокойно, и,
в вечерний дождь, почти готово услышать:
соки, стремятся к почкам; Ной говорит
что это ошибка депрессивных, отождествлять
себя с застывшим деревом,
счастливые сердца - скитаются по саду,
как лист опавший, картина
части, не целого.
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: НОЙ ИМЯ СЫНА ЛУИЗЫ ГЛЮК.
ИЗ СБОРНИКА "ДИКИЙ ИРИС" 1992
Весенний утренний пейзаж, в котором есть надлом - противовес расщепленного ствола берёзы и сложенных в складочки молодых листочков. Эта картина вызывает у автора печальное воспоминание, слова сына, обращённые к ней: - ?Депрессивные ненавидят весну, в ней нет равновесия между их внутренним ощущением и миром?. Весна и депрессия. Эту ассоциацию читатель не может ожидать, она противостоит ассоциациям с весенней природой настолько, что вызывает не очарование неожиданности, но печальное ощущение обманутого ожидания.
Этот диссонанс между весенним ожиданием читателя и раскрывшимся текстом, повторяя описываемый дисбаланс, помогает читателю ощутить состояние человека в депрессии при встрече с весенней природой. Это и было авторской целью. Читатель услышал автора, принимающего весну через свою депрессию, и его переживание передалось читателю, через нежелание принять текст.
В следующих строчках этот диссонанс смягчен. Автор подвержен депрессии, но весенняя природа оставила ему место для слияния с ней. Ему легко ассоциировать себя с неподвижным, расщепленным (раненым) деревом и даже ощутить его весеннее пробуждение, но и это кратковременное чувство весны опять обрывается фразой, сказанной сыном, и снова в диссонанс читательскому ожиданию. Второй раз вызывая у него то депрессивное чувство, которое и пытается передать автор.
Заутреня (вторая.)
Отец невидимый, неслышащий, когда впервые
ты нас из кущ небесных удалил, ты
создал копию с одной в ней скрытой целью,
нести урок: иначе, куда ни глянь,
все та же и только красота. Всё красота,
ей нет альтернативы — Но вот не ясно было нам
в чём был урок. Мы были предоставлены себе, и вскоре
устали и измучили друг друга. Последовали
темные года. Мы, сменяя друг друга,
возделывали сад, и впервый раз
усталые глаза наполнились слёзами, когда
земля покрылась лепестками: одни
там были тёмно-красные, другие
нежнейшего телесного оттенка. И мы ни разу
о тебе не вспоминали, учась
тебя и почитать, и восхвалять.
Теперь мы просто знали: человеку дано любить
не только то, что платит ему в ответ любовью.
Вторая ?Заутреня? тоже полна неожиданностей, но её настроение значительно ближе к ?традиционной? молитве. Эта ?Заутреня? прямое обращение к богу, благодарность, и одновременно желание поделиться с ним своим открытием, открытиями. Главное откровение, то из-за которого эта ?Заутреня? вознесена, оставлено на последнюю строчку, и в этом Луиза Глюк следует своей традиции, своему кредо: ?всё дело в концовке?, что по-русски, наверное, лучше всего было бы выразить идиомой ?конец делу венец?. Эта последняя мысль ?Заутрени? следует и другой особенности поэзии Луизы Глюк - концовка должна нести в себе ?парадокс?, оправдывающий обычную традиционность текста: ей всегда очень не хотелось говорить то, что было уже сказано другими. Ещё одна замечательная особенность этой концовки-парадокса в том, что она может быть откровением и для того, к кому обращена. В последних строчках раскрывается наша глубочайшая сущность, возможно возникшая из нашего опыта не прямого общения с богом после рая (и этому посвящена вся ?Заутреня?), которая, автор имеет право предположить, не знакома даже богу: "Теперь мы просто знали: человеку дано любить не только то, что платит ему в ответ любовью."
В этом тексте есть ещё одно откровение: мы можем, должны видеть себя, и события с нами происходящие, через призму истории, ибо мы просто продолжение её. И, через эту призму, библейская история рая, не завершена, мы здесь её продолжаем: все тот же сад, или копия его, но если раньше мы были в нем детьми, которые всё получали от отца - он был садовник, то теперь мы должны возделывать наш сад (земля есть рай, который нам принадлежит и за который мы в ответе) и растить детей. И это цепочка вечности.
Заутреня (третья) и Заутреня (четвёртая)
Прости меня, что восклицаю - люблю тебя: все сюзерены
всегда обмануты, ведь их бессильные вассалы
всегда гонимы паникой и страхом. Я не могу любить,
что не могу представить, а ты,
ты ничего не дал воображению: похож ли на боярышник -
на дерево, всегда одно, в одном и том же месте;
иль ты как наперстянка - то-там-то-здесь, вот вверх взлетела
розовая стрелка, за маргаритками, на склоне, но
год прошёл, и фиолетовая стрелка в саду меж роз? Ты мог бы знать,
что это нам непонятно. А тут ещё молчание твоё безгласно утверждает -
ты есть всё: и наперстянка, и дерево боярышник, и роза
нежная, и несгибаемая маргаритка. Нам остаётся думать
ты не можешь, скорей всего, вообще существовать: возможно ли чтоб это
и было твоим желанием, чтоб мы так думали, и это причина
молчанья на рассвете: сверчки ещё, надкрылья потирая, не стрекочут, и
не дерутся во дворе коты?
***
Я вижу, что с тобою, как с берёзой,
тебе и слова не скажи
из тех, что наболели. Так многое
произошло меж нами. Или всё это было
всегда односторонним? Ну, да
я виновата, виновата - просила я тебя
быть человеком, но ведь ничуть не больше
просила, чем другие. И всё же, бесчувственность твоя, заботы
отсутствие малейшей обо мне —
уж лучше с березами общаться буду,
как в жизни прошлой, им дам вершить
их наихудший суд: пусть погребут меня
с поэтами-романтиками вместе.
И пусть их листья, как желтый наконечник стрел,
осыпавшись, меня совсем сокроют.
Третья и четвёртая заутрени - заутрени жалобы. Жалобы человека, проснувшегося в раздражении, и наполнившего их этим раздражением и сарказмом. В них прорывается не только обида автора, но и обида народа на столь долгое молчание неба, которое ведёт к сомнениям: чем-дольше молчание тем глубже сомнения, и тем больше сомневающихся.
Третья Заутреня начинается с намёка на просьбу, на попытку ?выяснения? отношений, попытку ?объяснить? причины обид, не пониманий, а заканчивается она грубоватым сарказмом.
Первые строчки, с горькими объяснениями, что в признаниях в ?любви? есть несомненно ложь, ведь сколько можно любить того, кого нельзя коснуться, перерастают в сомнение в возможности каких-либо отношений и завершаются грубоватой метафорой: сравнением молчания, отсутствия ответа, со сверчками, не призывающими партнёрш, и котами, не дерущимися на заднем дворе.
Этот грубоватый сарказм имеет цель, дать читателю, который не ожидает таких запанибратских обращений к небу, почувствовать раздражение пусть направленное на грубоватость текста, но соответствующее раздражению, которое испытывает автор в своей попытке прорваться из современного мира к богу.
В четвёртой ?Заутрене? автор, не дождавшийся ответа, ведёт саркастическую одностороннюю беседу с небесами. Всё ещё пытаясь вызвать их отклик, найти общий язык, он соглашается: ?Ну, да / я виновата, виновата - просила я тебя - / быть человеком, но ведь ничуть не больше / просила, чем другие.? Но совсем разуверившись в их, небес, существовании иронически замечает, что надежнее вверить свою судьбу берёзам. Пусть они не только погребут под своими опадающими осенними листьями, но ещё и запишут в Поэта-Романтика. На что они ещё способны? Но всё же в словах и тоне ?Заутрени?, завершающейся безответным погребением под листьями берёзы, прорываются печаль и ожидание.
Заутрени: Пятая - Седьмая
Первая и вторая заутрени — это разговор с самим собой, попытка понимания себя и нашего места на земле: этом продолжении Сада, в котором мы должны научиться понимать себя и дорасти до общения с Ним. В третьей и четвертой Заутренях прорывается горечь: мы давно возделываем этот Сад и Твоё молчание ставит под сомнение и цель и тябя. В пятой молчание принято - ведь поэт так часто говорит безответно, рассказывает о себе тем, кто может услышать, но редко может ответить. Есть круг близких, соратников-поэтов: но ведь поэт говорит - издаёт книги - не для них, а читатель, как бог, в ответ молчит.
И вот в пятой Заутрене Он принят, признан. Начинается "односторонее" общение: рассказ о себе, и о своем понимании молчания и отсутствия от Него знаков.
Шестая Заутреня это попытка рассказать о том (а понимает лит он?) как трудно быть "избранным" народом ("Что в сердце тебе моем? И почему ты должен/ его крушить за разом раз... ") и завершающаяся если не верой, то предположением возможности веры ("Отец, / ты, отвечающий за одиночество мое, хотя бы чувство/ вины с меня сними, но только если в твои планы/ не входит исцелить меня совсем..."
В седьмой Заутрене поэт впервые обращается к Нему как к любимому другу, с которым можно разделить глубочайшие эмоции, спросить о его эмоциях и, как это часто бывает, не ждать, но догадываться - понимать ответ без слов.
Заутреня (пятая)
Ты хочешь знать как провожу я время?
Хожу вдоль клумб у входа в дом, и притворяюсь,
что делаю прополку. Тебе, ты должен знать, признаюсь
я никогда, став на колени, не тяну
из клумб цветочных клевера пучки: ищу я силу, знак,
что жизнь моя изменится, конца
не видно этому, проверке
не в этом ли пучке укрылся символ-лист,
a вскоре конец теплу, уже и листья
меняют цвет, деревья уставшие, больные, всегда
уходят в осень первыми, и умирая
зелёный превращают в ярко-желтый, пока
немного серых, чёрных птиц
прощаются последней, грустной песней.
Ты хочешь видеть, что в моих ладонях?
Пусты, как были и при ранней ноте.
Но может быть все это знак,
что надо жить не ожидая знаков?
Заутреня (шестая)
Что в сердце тебе моем? И почему ты должен
его крушить за разом раз, как тот садовник,
что новый вид в своём саду выводит? Попробуй
свои силы на другом: как я могу быть частью
колонии, как ты настаиваешь, если
ты изолятор для отчаяния создал, и отделил
меня от членов племени: в саду
не поступают так, не отделяют больную розу: ей дают
общительно размахивать ветвями, больными или нет,
в лицо её соседям,
и крошечная тля перелетает
с куста на куст - всё это подтверждает,
что я последнее из всех творений, важней меня
и маленькая тля, и увядающая от болезни роза. Отец,
ты, отвечающий за одиночество мое, хотя бы чувство
вины с меня сними, но только если в твои планы
не входит исцелить меня совсем, вернув
мне целостность и ощущение здоровья, как в детстве
я была одно и целое, пусть то была ошибка, а если не тогда,
то раньше, под лёгким сердцем матери, и если не тогда
в мечтах далеких, первое творение
живое и не знающее смерти.
Заутреня (седьмая)
Не просто солнце, но сама земля лучится светом,
воздвигли горы белые костры вершин,
и раним утром излучают свет
дороги плоские в долинах и на склонах: что,
это все для нас одних, чтобы вызвать отклик, или
и ты взволнован, беспомощен, в присутствии земли,
и над собой контроль теряешь, — Мне стыдно
за то, кем я тебя считала,
от нас далеким, смотрящим
на нас, как на эксперимент: так горько
чувствовать ты истребим, животное - подопытное,
горько. Мой добрый друг,
взволнованный партнёр, что сильнее
тебя в твоём волнении удивило,
земли сияние или твой собственный восторг?
Я поделюсь, меня всегда приводит в изумление
во мне растущее, как пламя, наслаждение.
ПРИЛОЖЕНИЕ.
MATINS Louisa Gluck from “The Wild Iris”
Matins
The sun shines; by the mailbox, leaves
of the divided birch tree folded, pleated like fins.
Underneath, hollow stems of the white daffodils, Ice Wings, Cantatrice; dark
leaves of the wild violet. Noah says
depressives hate the spring, imbalance
between the inner and the outer world. I make
another case-being depressed, yes, but in a sense passionately
attached to the living tree, my body
actually curled in the split trunk, almost at peace, in the evening rain
almost able to feel
sap frothing and rising: Noah says this is
an error of depressives, identifying
with a tree, whereas the happy heart
wanders the garden like a falling leaf, a figure for
the part, not the whole.
Matins
Unreachable father, when we first
exiled from heaven, you made
a replica, a place in one sense
different from heaven, being
designed to teach a lesson: otherwise
the same - beauty on either side, beauty
without alternative - Except
we didn’t know what was the lesson. Left alone
we exhausted each other. Years
of darkness followed; we took turns
working the garden, the first tears
filling our eyes as earth
misted with petals, some
dark red, some flesh coloured -
We never thought of you
whom we were learning to worship.
We merely knew it wasn’t human nature to love
only what returns love.
Matins
Forgive me if I say I love you: the powerful
are always lied to since the week are always
driven by panic. I cannot love
what I can’t conceive, and you disclose
virtually nothing: are you like the hawthorn tree,
always the same thing in the same place,
or are you more the foxglove, inconsistent, first springing up
a pink spike on the slope behind the daisies,
and the next year purple in the rose garden? You must see
it is useless to us, this silence that promotes belief
you must be all things, the foxglove and the hawthorn tree,
the vulnerable rose and tough daisy - we are left to think
you couldn’t possibly exist. Is this
what you mean us to think, does this explain
the silence of the morning,
the crickets not yet rubbing their wings, the cats
not fighting in the yard?
Matins
I see it is with you as with the birches,
I am not to speak to you
in a personal way. Much
has passed between us. Or
was it always only
on a one side? I am
at fault, at fault, I asked you
— to be human, I am not needier
than other people. But the absence
of the feelings, of the least
concern over me — I must as well go on
addressing the birches
as in my former life, let them
do their worst: let them
burry me with the Romanticist,
their pointed yellow leaves
falling and covering me.
Matins
You want to know how I spend my time?
I walk the front lawn, pretending
to be weeding. You ought to know
I’m never weeding, on my knees, pulling
clumps of clover from the flower beds: in fact
I”m looking for courage, for some evidence
my life will change, though
it takes forever, checking
each clump for the symbolic
leaf, and soon the summer is ending, already
the leaves turning, always the sick trees
going first, the dying turning
brilliant yellow, while a few dark birds perform
their curfew of music. You want to see my hands?
As empty now as at the first note.
Or was the point always
to continue without a sign?
Matins
What is my heart to you
that you must break it over and over
Like a plantsman testing
His new species? Practice
on something else: how can I live
in colonies, as you prefer, if you impose
a quarantine of affliction, dividing me
from healthy members of
my own tribe: you do not do this
in the garden, segregate
the sick rose: you let it wave its sociable
infected leaves in
the faces of the other rose, and tiny aphids
leap from plant to plant, proving yet again
I am the lowest creature, following
the thriving aphid and the trailing rose — Father,
as agent of my solitude, alleviate
at least my guilt; lift
the stigma of isolation, unless
it is your plan to make me
sound forever again, as I was
sound and whole in my mistaken childhood,
or if not then, under the light weight
of my mother’s heart, or if not then,
in dreams, first
being that would never die.
Matins
Not the sun merely but the earth
Itself shines, white fire
leaping from the showy mountains
and the flat road
shimmering in early morning: is this
for us only, to induce
response, or are you
stirred also, helpless
to control yourself
in earth’s presence — I am ashamed
at what I thought you were,
distant from us, regarding us
as an experiment: it is
a bitter thing to be
the disposable animal,
a bitter thing. Dear friend,
dear trembling partner, what
surprise your most in what you feel,
earth’s radiance or your own delight?
For me, always,
the delight is the surprise.
И вот в вольной, свободной поэзии возникает ещё одна степень свободы, ещё одно освобождение, освобождение от необходимости привычных ассоциативных связей от строчки к строчке. Внутренний, неоформленный монолог, в котором прыжки от мысли к мысли, связаны со случайно возникшей ассоциацией, ассоциацией персональной, которую не возможно ни предугадать, ни логически оправдать из предыдущих строчек.
Ритм, рифма, даже если у больших поэтов невозможно её предвидеть, создают внутреннее ожидание, и неожиданность рифмы не нарушает это ожидание, но создаёт дополнительное очарование. Текст несёт в себе очарование новой мысли, нового способа её выразить, следование тексту предполагает наличие логических связей от строчки к строчке, и это тоже есть часть естественного ожидания читателя, и когда автор предлагает новый, неожиданный логический прыжок это тоже очаровывает. Но в заутренях разрушена и эта логика ассоциаций, в них ассоциации связанны только с внутренним миром автора. Чтобы преодолеть этот барьер ассоциативных неожиданностей мы должны сделать ещё один шаг. Мы должны слушать автора как мы слушаем любимого. С открытым сердцем и желанием услышать.
И вот вслушиваясь мы постепенно привыкаем к неожиданным ассоциациям, мы видим за ними, как мы видим в любимом человеке ребенка, подростка, обиженного, удивленного. Может ли автор найти лучшего читателя.
Заутреня
Свет солнца. У калитки, на берёзе, с расщепленным стволом,
сложились в сладки листья - плавнички. Под ней
на полых стеблях шарики из пуха, трилистник, малютки орхидеи,
и по земле ковёр из тёмных листьев диких фиалок.
Ной говорит, что депрессивные весну ненавидят,
нет равновесия между мирами внутренним и внешним.
Это не обо мне,
я в депрессии, но ощущаю
огромное желание обнять живое дерево, и моё тело, распластанное
вдоль ствола расщепленной берёзы, почти спокойно, и,
в вечерний дождь, почти готово услышать:
соки, стремятся к почкам; Ной говорит
что это ошибка депрессивных, отождествлять
себя с застывшим деревом,
счастливые сердца - скитаются по саду,
как лист опавший, картина
части, не целого.
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: НОЙ ИМЯ СЫНА ЛУИЗЫ ГЛЮК.
ИЗ СБОРНИКА "ДИКИЙ ИРИС" 1992
Весенний утренний пейзаж, в котором есть надлом - противовес расщепленного ствола берёзы и сложенных в складочки молодых листочков. Эта картина вызывает у автора печальное воспоминание, слова сына, обращённые к ней: - ?Депрессивные ненавидят весну, в ней нет равновесия между их внутренним ощущением и миром?. Весна и депрессия. Эту ассоциацию читатель не может ожидать, она противостоит ассоциациям с весенней природой настолько, что вызывает не очарование неожиданности, но печальное ощущение обманутого ожидания.
Этот диссонанс между весенним ожиданием читателя и раскрывшимся текстом, повторяя описываемый дисбаланс, помогает читателю ощутить состояние человека в депрессии при встрече с весенней природой. Это и было авторской целью. Читатель услышал автора, принимающего весну через свою депрессию, и его переживание передалось читателю, через нежелание принять текст.
В следующих строчках этот диссонанс смягчен. Автор подвержен депрессии, но весенняя природа оставила ему место для слияния с ней. Ему легко ассоциировать себя с неподвижным, расщепленным (раненым) деревом и даже ощутить его весеннее пробуждение, но и это кратковременное чувство весны опять обрывается фразой, сказанной сыном, и снова в диссонанс читательскому ожиданию. Второй раз вызывая у него то депрессивное чувство, которое и пытается передать автор.
Заутреня (вторая.)
Отец невидимый, неслышащий, когда впервые
ты нас из кущ небесных удалил, ты
создал копию с одной в ней скрытой целью,
нести урок: иначе, куда ни глянь,
все та же и только красота. Всё красота,
ей нет альтернативы — Но вот не ясно было нам
в чём был урок. Мы были предоставлены себе, и вскоре
устали и измучили друг друга. Последовали
темные года. Мы, сменяя друг друга,
возделывали сад, и впервый раз
усталые глаза наполнились слёзами, когда
земля покрылась лепестками: одни
там были тёмно-красные, другие
нежнейшего телесного оттенка. И мы ни разу
о тебе не вспоминали, учась
тебя и почитать, и восхвалять.
Теперь мы просто знали: человеку дано любить
не только то, что платит ему в ответ любовью.
Вторая ?Заутреня? тоже полна неожиданностей, но её настроение значительно ближе к ?традиционной? молитве. Эта ?Заутреня? прямое обращение к богу, благодарность, и одновременно желание поделиться с ним своим открытием, открытиями. Главное откровение, то из-за которого эта ?Заутреня? вознесена, оставлено на последнюю строчку, и в этом Луиза Глюк следует своей традиции, своему кредо: ?всё дело в концовке?, что по-русски, наверное, лучше всего было бы выразить идиомой ?конец делу венец?. Эта последняя мысль ?Заутрени? следует и другой особенности поэзии Луизы Глюк - концовка должна нести в себе ?парадокс?, оправдывающий обычную традиционность текста: ей всегда очень не хотелось говорить то, что было уже сказано другими. Ещё одна замечательная особенность этой концовки-парадокса в том, что она может быть откровением и для того, к кому обращена. В последних строчках раскрывается наша глубочайшая сущность, возможно возникшая из нашего опыта не прямого общения с богом после рая (и этому посвящена вся ?Заутреня?), которая, автор имеет право предположить, не знакома даже богу: "Теперь мы просто знали: человеку дано любить не только то, что платит ему в ответ любовью."
В этом тексте есть ещё одно откровение: мы можем, должны видеть себя, и события с нами происходящие, через призму истории, ибо мы просто продолжение её. И, через эту призму, библейская история рая, не завершена, мы здесь её продолжаем: все тот же сад, или копия его, но если раньше мы были в нем детьми, которые всё получали от отца - он был садовник, то теперь мы должны возделывать наш сад (земля есть рай, который нам принадлежит и за который мы в ответе) и растить детей. И это цепочка вечности.
Заутреня (третья) и Заутреня (четвёртая)
Прости меня, что восклицаю - люблю тебя: все сюзерены
всегда обмануты, ведь их бессильные вассалы
всегда гонимы паникой и страхом. Я не могу любить,
что не могу представить, а ты,
ты ничего не дал воображению: похож ли на боярышник -
на дерево, всегда одно, в одном и том же месте;
иль ты как наперстянка - то-там-то-здесь, вот вверх взлетела
розовая стрелка, за маргаритками, на склоне, но
год прошёл, и фиолетовая стрелка в саду меж роз? Ты мог бы знать,
что это нам непонятно. А тут ещё молчание твоё безгласно утверждает -
ты есть всё: и наперстянка, и дерево боярышник, и роза
нежная, и несгибаемая маргаритка. Нам остаётся думать
ты не можешь, скорей всего, вообще существовать: возможно ли чтоб это
и было твоим желанием, чтоб мы так думали, и это причина
молчанья на рассвете: сверчки ещё, надкрылья потирая, не стрекочут, и
не дерутся во дворе коты?
***
Я вижу, что с тобою, как с берёзой,
тебе и слова не скажи
из тех, что наболели. Так многое
произошло меж нами. Или всё это было
всегда односторонним? Ну, да
я виновата, виновата - просила я тебя
быть человеком, но ведь ничуть не больше
просила, чем другие. И всё же, бесчувственность твоя, заботы
отсутствие малейшей обо мне —
уж лучше с березами общаться буду,
как в жизни прошлой, им дам вершить
их наихудший суд: пусть погребут меня
с поэтами-романтиками вместе.
И пусть их листья, как желтый наконечник стрел,
осыпавшись, меня совсем сокроют.
Третья и четвёртая заутрени - заутрени жалобы. Жалобы человека, проснувшегося в раздражении, и наполнившего их этим раздражением и сарказмом. В них прорывается не только обида автора, но и обида народа на столь долгое молчание неба, которое ведёт к сомнениям: чем-дольше молчание тем глубже сомнения, и тем больше сомневающихся.
Третья Заутреня начинается с намёка на просьбу, на попытку ?выяснения? отношений, попытку ?объяснить? причины обид, не пониманий, а заканчивается она грубоватым сарказмом.
Первые строчки, с горькими объяснениями, что в признаниях в ?любви? есть несомненно ложь, ведь сколько можно любить того, кого нельзя коснуться, перерастают в сомнение в возможности каких-либо отношений и завершаются грубоватой метафорой: сравнением молчания, отсутствия ответа, со сверчками, не призывающими партнёрш, и котами, не дерущимися на заднем дворе.
Этот грубоватый сарказм имеет цель, дать читателю, который не ожидает таких запанибратских обращений к небу, почувствовать раздражение пусть направленное на грубоватость текста, но соответствующее раздражению, которое испытывает автор в своей попытке прорваться из современного мира к богу.
В четвёртой ?Заутрене? автор, не дождавшийся ответа, ведёт саркастическую одностороннюю беседу с небесами. Всё ещё пытаясь вызвать их отклик, найти общий язык, он соглашается: ?Ну, да / я виновата, виновата - просила я тебя - / быть человеком, но ведь ничуть не больше / просила, чем другие.? Но совсем разуверившись в их, небес, существовании иронически замечает, что надежнее вверить свою судьбу берёзам. Пусть они не только погребут под своими опадающими осенними листьями, но ещё и запишут в Поэта-Романтика. На что они ещё способны? Но всё же в словах и тоне ?Заутрени?, завершающейся безответным погребением под листьями берёзы, прорываются печаль и ожидание.
Заутрени: Пятая - Седьмая
Первая и вторая заутрени — это разговор с самим собой, попытка понимания себя и нашего места на земле: этом продолжении Сада, в котором мы должны научиться понимать себя и дорасти до общения с Ним. В третьей и четвертой Заутренях прорывается горечь: мы давно возделываем этот Сад и Твоё молчание ставит под сомнение и цель и тябя. В пятой молчание принято - ведь поэт так часто говорит безответно, рассказывает о себе тем, кто может услышать, но редко может ответить. Есть круг близких, соратников-поэтов: но ведь поэт говорит - издаёт книги - не для них, а читатель, как бог, в ответ молчит.
И вот в пятой Заутрене Он принят, признан. Начинается "односторонее" общение: рассказ о себе, и о своем понимании молчания и отсутствия от Него знаков.
Шестая Заутреня это попытка рассказать о том (а понимает лит он?) как трудно быть "избранным" народом ("Что в сердце тебе моем? И почему ты должен/ его крушить за разом раз... ") и завершающаяся если не верой, то предположением возможности веры ("Отец, / ты, отвечающий за одиночество мое, хотя бы чувство/ вины с меня сними, но только если в твои планы/ не входит исцелить меня совсем..."
В седьмой Заутрене поэт впервые обращается к Нему как к любимому другу, с которым можно разделить глубочайшие эмоции, спросить о его эмоциях и, как это часто бывает, не ждать, но догадываться - понимать ответ без слов.
Заутреня (пятая)
Ты хочешь знать как провожу я время?
Хожу вдоль клумб у входа в дом, и притворяюсь,
что делаю прополку. Тебе, ты должен знать, признаюсь
я никогда, став на колени, не тяну
из клумб цветочных клевера пучки: ищу я силу, знак,
что жизнь моя изменится, конца
не видно этому, проверке
не в этом ли пучке укрылся символ-лист,
a вскоре конец теплу, уже и листья
меняют цвет, деревья уставшие, больные, всегда
уходят в осень первыми, и умирая
зелёный превращают в ярко-желтый, пока
немного серых, чёрных птиц
прощаются последней, грустной песней.
Ты хочешь видеть, что в моих ладонях?
Пусты, как были и при ранней ноте.
Но может быть все это знак,
что надо жить не ожидая знаков?
Заутреня (шестая)
Что в сердце тебе моем? И почему ты должен
его крушить за разом раз, как тот садовник,
что новый вид в своём саду выводит? Попробуй
свои силы на другом: как я могу быть частью
колонии, как ты настаиваешь, если
ты изолятор для отчаяния создал, и отделил
меня от членов племени: в саду
не поступают так, не отделяют больную розу: ей дают
общительно размахивать ветвями, больными или нет,
в лицо её соседям,
и крошечная тля перелетает
с куста на куст - всё это подтверждает,
что я последнее из всех творений, важней меня
и маленькая тля, и увядающая от болезни роза. Отец,
ты, отвечающий за одиночество мое, хотя бы чувство
вины с меня сними, но только если в твои планы
не входит исцелить меня совсем, вернув
мне целостность и ощущение здоровья, как в детстве
я была одно и целое, пусть то была ошибка, а если не тогда,
то раньше, под лёгким сердцем матери, и если не тогда
в мечтах далеких, первое творение
живое и не знающее смерти.
Заутреня (седьмая)
Не просто солнце, но сама земля лучится светом,
воздвигли горы белые костры вершин,
и раним утром излучают свет
дороги плоские в долинах и на склонах: что,
это все для нас одних, чтобы вызвать отклик, или
и ты взволнован, беспомощен, в присутствии земли,
и над собой контроль теряешь, — Мне стыдно
за то, кем я тебя считала,
от нас далеким, смотрящим
на нас, как на эксперимент: так горько
чувствовать ты истребим, животное - подопытное,
горько. Мой добрый друг,
взволнованный партнёр, что сильнее
тебя в твоём волнении удивило,
земли сияние или твой собственный восторг?
Я поделюсь, меня всегда приводит в изумление
во мне растущее, как пламя, наслаждение.
ПРИЛОЖЕНИЕ.
MATINS Louisa Gluck from “The Wild Iris”
Matins
The sun shines; by the mailbox, leaves
of the divided birch tree folded, pleated like fins.
Underneath, hollow stems of the white daffodils, Ice Wings, Cantatrice; dark
leaves of the wild violet. Noah says
depressives hate the spring, imbalance
between the inner and the outer world. I make
another case-being depressed, yes, but in a sense passionately
attached to the living tree, my body
actually curled in the split trunk, almost at peace, in the evening rain
almost able to feel
sap frothing and rising: Noah says this is
an error of depressives, identifying
with a tree, whereas the happy heart
wanders the garden like a falling leaf, a figure for
the part, not the whole.
Matins
Unreachable father, when we first
exiled from heaven, you made
a replica, a place in one sense
different from heaven, being
designed to teach a lesson: otherwise
the same - beauty on either side, beauty
without alternative - Except
we didn’t know what was the lesson. Left alone
we exhausted each other. Years
of darkness followed; we took turns
working the garden, the first tears
filling our eyes as earth
misted with petals, some
dark red, some flesh coloured -
We never thought of you
whom we were learning to worship.
We merely knew it wasn’t human nature to love
only what returns love.
Matins
Forgive me if I say I love you: the powerful
are always lied to since the week are always
driven by panic. I cannot love
what I can’t conceive, and you disclose
virtually nothing: are you like the hawthorn tree,
always the same thing in the same place,
or are you more the foxglove, inconsistent, first springing up
a pink spike on the slope behind the daisies,
and the next year purple in the rose garden? You must see
it is useless to us, this silence that promotes belief
you must be all things, the foxglove and the hawthorn tree,
the vulnerable rose and tough daisy - we are left to think
you couldn’t possibly exist. Is this
what you mean us to think, does this explain
the silence of the morning,
the crickets not yet rubbing their wings, the cats
not fighting in the yard?
Matins
I see it is with you as with the birches,
I am not to speak to you
in a personal way. Much
has passed between us. Or
was it always only
on a one side? I am
at fault, at fault, I asked you
— to be human, I am not needier
than other people. But the absence
of the feelings, of the least
concern over me — I must as well go on
addressing the birches
as in my former life, let them
do their worst: let them
burry me with the Romanticist,
their pointed yellow leaves
falling and covering me.
Matins
You want to know how I spend my time?
I walk the front lawn, pretending
to be weeding. You ought to know
I’m never weeding, on my knees, pulling
clumps of clover from the flower beds: in fact
I”m looking for courage, for some evidence
my life will change, though
it takes forever, checking
each clump for the symbolic
leaf, and soon the summer is ending, already
the leaves turning, always the sick trees
going first, the dying turning
brilliant yellow, while a few dark birds perform
their curfew of music. You want to see my hands?
As empty now as at the first note.
Or was the point always
to continue without a sign?
Matins
What is my heart to you
that you must break it over and over
Like a plantsman testing
His new species? Practice
on something else: how can I live
in colonies, as you prefer, if you impose
a quarantine of affliction, dividing me
from healthy members of
my own tribe: you do not do this
in the garden, segregate
the sick rose: you let it wave its sociable
infected leaves in
the faces of the other rose, and tiny aphids
leap from plant to plant, proving yet again
I am the lowest creature, following
the thriving aphid and the trailing rose — Father,
as agent of my solitude, alleviate
at least my guilt; lift
the stigma of isolation, unless
it is your plan to make me
sound forever again, as I was
sound and whole in my mistaken childhood,
or if not then, under the light weight
of my mother’s heart, or if not then,
in dreams, first
being that would never die.
Matins
Not the sun merely but the earth
Itself shines, white fire
leaping from the showy mountains
and the flat road
shimmering in early morning: is this
for us only, to induce
response, or are you
stirred also, helpless
to control yourself
in earth’s presence — I am ashamed
at what I thought you were,
distant from us, regarding us
as an experiment: it is
a bitter thing to be
the disposable animal,
a bitter thing. Dear friend,
dear trembling partner, what
surprise your most in what you feel,
earth’s radiance or your own delight?
For me, always,
the delight is the surprise.
Метки: