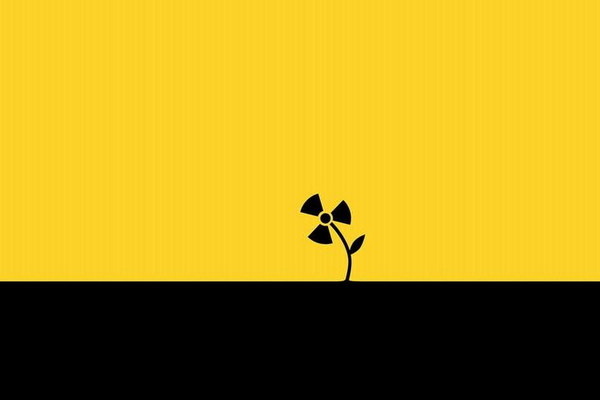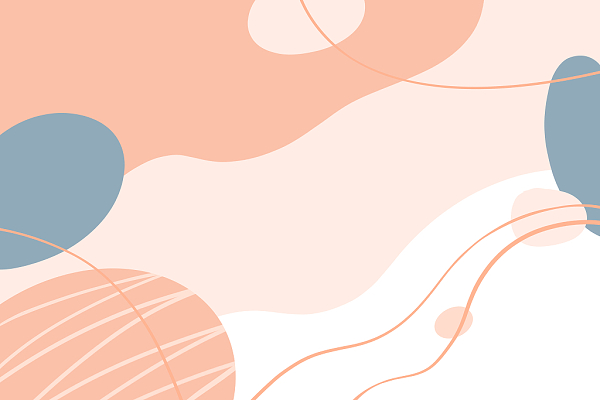Ребёнку на ушко расскажу Ury Zvy Grinberg
Мальчик еврейский, в доме моём, в бедном Сионе.
Сумерки. Вечер. И вот я сижу. А ты
взобрался ко мне на колени.
Милый, тебе расскажу я быль о Машиахе* добром,
и как он сюда не дошёл.
Старшим не стану рассказывать, милый.
Нет у них света такого в глазах, как у тебя.
И они не сумеют так слушать.
Судьба их в Сионе темна и глуха,
И глиняным тусклым лампадам подобны их души.
Не заблестеть в их глазах двум чудесным алмазам,
таким, как в твоих слезах.
И не смогу я их целовать так, как тебя поцелую
В лобик, когда расскажу горькую правду о нашем Машиахе.
Он не пришёл, Машиах...
Над бездной кровавой горным орлом он парил.
День и ночь я слышал его, чуял взмахи орлиных крыл.
А к берегу Яффо пришёл он с сумой на плечах:
Пришёл человеком, нищим из нищих, сыном мечты и меча.
Под солнцем палящим
Я видел его на ниве: он пахарем был.
И был он каменотёсом: гранит Йершалайма дробил.
Был он так близко, здесь... Я слышал биение крови его.
Так бьётся вино, струясь из бутыли в стакан.
И я слышал, как быстрым оленем он мчался в горах:
Скалы вторили бегу его эхом глухим.
Но до храмовой, главной горы, он не дошёл.
На подножие этой горы его не ступила нога.
Лишь до входа дошёл он. Дошёл он до царских ворот.
И они там стояли, торговцы. Стояли там, как всегда.
Вот идёт к ним Машиах в сиянии гневных лучей
А в руке его - огненный ключ от царских ворот.
Обступили его торгаши. Что они говорят?
Слышал я, что они сказали ему:
-Ты ошибся, бродяга... И знаешь, в любом
Поколенье найдётся такой чудак.
-Йершалаим и храм? Ха-ха.
Для того и стоим мы тут, чтобы вас вразумлять.
Иершалаиму нужен богач, а не ты.
И мешки серебра и добра.
Ему нужно построить дома, чтобы жить,
чтобы есть в них и пить.
И ни храм на горе, ни Давидов трон,
И ни щит героизма не надобны тут.
И не нужно ему Бар Георы - беднейшего сына меча,
А нужен телец золотой.
Иершалаиму нужен покой.
Нужно золото и тишина,
И неплохо, что щит англичан на горе городской.
Ничего нет ужасного в том, что арабы стоят наверху,
А евреи - внизу...
- Смекаешь, бродяга?
И опять, как закончили речи свои, рассмеялись: - Ха-ха.
И он содрогнулся, Машиах, как тот, кого пырнули ножом.
И я содрогнулся, как будто меня пырнули ножом.
О, если бы вправду с ножом они шли на него,
если бы в сердце тот нож вонзили ему,
Он бы взмыл, взлетел бы над ними,
и нож помехой ему бы не стал...
Но глумлением жалким своим
пронзили его - торгаши...
И я слышал, как он вопрошал измученным ртом:
- Где они, поколения тех, что ждали меня?
Те, что звали меня из Рима, и от Титовой арки - на царский венец?
И я слышал, как он прошептал под конец:
- Нет со мной поколений тех... О горе мне...
- И горе тебе, о земля, что по двум сторонам Иордана!
И он повернул, Машиах, и в сторону путь свой направил.
А в какую, и сам я, расказчик, тебе не скажу, потому что не знаю...
Может быть, это он завывает шакалом в кедровых садах Ханаана.
А быть может, пошёл он себе, чтоб уйти от людей.
В одинокую крепость, что дальше и тише всех крепостей.
Мецада - та крепость.
Он там без покровов сидит.
Шарав* обжигает его и тело сечёт... он сидит.
Стаи мух облепляют и лижут горючие раны его - он сидит.
И лишь ночь посылает ему аравийский просоленный ветер.
Она шлёт ему ветер от вод солёного мёртвого моря,
чтобы веять на раны его, обдувая сидящего странника...
А быть может, и нет... может быть, он в меня вошёл.
И сидит в моих рёбрах и гневом пылает, и львом разъярённым рычит.
Но я о нём не скажу никому.
Я кормлю его мясом своим, плотью своею живой;
кровью своей пою, и она горячей вина.
В тайной своей глубине я на чело играю ему:
играю мольбу о прощенье, моления праотцев дальних моих.
И месяц встаёт как пророчество, всходит между олив.
А я на органе играю ему из потайной глубины:
О, как он прекрасен, твой вечный Иерусалим;
В Давидовом царстве, под лунным сияньем ночным,
где все поколенья сынов Исраеля в талитах своих
всё ждут избавителя, сверканием вспышек озарены...
И всё содрогается горестной дрожью во мне.
И жарко глазам... это он там рыдает, во тьме.
А может, не так...
Может, он - тот орёл, что над долиной Кедрона кружил.
Всё делал круги над горой - и вдруг зарыдал.
Я видел его парящим, кружащим, - и плач его слышал.
Птица плачет... И я сказал: птица плачет, не это ль
Расставанье с мечтой, круг прощальный: Не это ль конец?
Исраэля спасенье в слезах улетает от Храмовой горькой горы...
Круг последний орёл описал, к морю он полетел.
Он бесшумно летел, и спустился на землю мрак.
Может быть, он к титовой арке вернулся опять.
Вновь невидимый, снова в оковах, на две тысячи лет, с головой под крылом.
В омут крови еврейской опять погружаясь - по долгу мессии...
Вновь две тысячи лет... или нет? Кто знает...
Сумерки. Вечер. И вот я сижу. А ты
взобрался ко мне на колени.
Милый, тебе расскажу я быль о Машиахе* добром,
и как он сюда не дошёл.
Старшим не стану рассказывать, милый.
Нет у них света такого в глазах, как у тебя.
И они не сумеют так слушать.
Судьба их в Сионе темна и глуха,
И глиняным тусклым лампадам подобны их души.
Не заблестеть в их глазах двум чудесным алмазам,
таким, как в твоих слезах.
И не смогу я их целовать так, как тебя поцелую
В лобик, когда расскажу горькую правду о нашем Машиахе.
Он не пришёл, Машиах...
Над бездной кровавой горным орлом он парил.
День и ночь я слышал его, чуял взмахи орлиных крыл.
А к берегу Яффо пришёл он с сумой на плечах:
Пришёл человеком, нищим из нищих, сыном мечты и меча.
Под солнцем палящим
Я видел его на ниве: он пахарем был.
И был он каменотёсом: гранит Йершалайма дробил.
Был он так близко, здесь... Я слышал биение крови его.
Так бьётся вино, струясь из бутыли в стакан.
И я слышал, как быстрым оленем он мчался в горах:
Скалы вторили бегу его эхом глухим.
Но до храмовой, главной горы, он не дошёл.
На подножие этой горы его не ступила нога.
Лишь до входа дошёл он. Дошёл он до царских ворот.
И они там стояли, торговцы. Стояли там, как всегда.
Вот идёт к ним Машиах в сиянии гневных лучей
А в руке его - огненный ключ от царских ворот.
Обступили его торгаши. Что они говорят?
Слышал я, что они сказали ему:
-Ты ошибся, бродяга... И знаешь, в любом
Поколенье найдётся такой чудак.
-Йершалаим и храм? Ха-ха.
Для того и стоим мы тут, чтобы вас вразумлять.
Иершалаиму нужен богач, а не ты.
И мешки серебра и добра.
Ему нужно построить дома, чтобы жить,
чтобы есть в них и пить.
И ни храм на горе, ни Давидов трон,
И ни щит героизма не надобны тут.
И не нужно ему Бар Георы - беднейшего сына меча,
А нужен телец золотой.
Иершалаиму нужен покой.
Нужно золото и тишина,
И неплохо, что щит англичан на горе городской.
Ничего нет ужасного в том, что арабы стоят наверху,
А евреи - внизу...
- Смекаешь, бродяга?
И опять, как закончили речи свои, рассмеялись: - Ха-ха.
И он содрогнулся, Машиах, как тот, кого пырнули ножом.
И я содрогнулся, как будто меня пырнули ножом.
О, если бы вправду с ножом они шли на него,
если бы в сердце тот нож вонзили ему,
Он бы взмыл, взлетел бы над ними,
и нож помехой ему бы не стал...
Но глумлением жалким своим
пронзили его - торгаши...
И я слышал, как он вопрошал измученным ртом:
- Где они, поколения тех, что ждали меня?
Те, что звали меня из Рима, и от Титовой арки - на царский венец?
И я слышал, как он прошептал под конец:
- Нет со мной поколений тех... О горе мне...
- И горе тебе, о земля, что по двум сторонам Иордана!
И он повернул, Машиах, и в сторону путь свой направил.
А в какую, и сам я, расказчик, тебе не скажу, потому что не знаю...
Может быть, это он завывает шакалом в кедровых садах Ханаана.
А быть может, пошёл он себе, чтоб уйти от людей.
В одинокую крепость, что дальше и тише всех крепостей.
Мецада - та крепость.
Он там без покровов сидит.
Шарав* обжигает его и тело сечёт... он сидит.
Стаи мух облепляют и лижут горючие раны его - он сидит.
И лишь ночь посылает ему аравийский просоленный ветер.
Она шлёт ему ветер от вод солёного мёртвого моря,
чтобы веять на раны его, обдувая сидящего странника...
А быть может, и нет... может быть, он в меня вошёл.
И сидит в моих рёбрах и гневом пылает, и львом разъярённым рычит.
Но я о нём не скажу никому.
Я кормлю его мясом своим, плотью своею живой;
кровью своей пою, и она горячей вина.
В тайной своей глубине я на чело играю ему:
играю мольбу о прощенье, моления праотцев дальних моих.
И месяц встаёт как пророчество, всходит между олив.
А я на органе играю ему из потайной глубины:
О, как он прекрасен, твой вечный Иерусалим;
В Давидовом царстве, под лунным сияньем ночным,
где все поколенья сынов Исраеля в талитах своих
всё ждут избавителя, сверканием вспышек озарены...
И всё содрогается горестной дрожью во мне.
И жарко глазам... это он там рыдает, во тьме.
А может, не так...
Может, он - тот орёл, что над долиной Кедрона кружил.
Всё делал круги над горой - и вдруг зарыдал.
Я видел его парящим, кружащим, - и плач его слышал.
Птица плачет... И я сказал: птица плачет, не это ль
Расставанье с мечтой, круг прощальный: Не это ль конец?
Исраэля спасенье в слезах улетает от Храмовой горькой горы...
Круг последний орёл описал, к морю он полетел.
Он бесшумно летел, и спустился на землю мрак.
Может быть, он к титовой арке вернулся опять.
Вновь невидимый, снова в оковах, на две тысячи лет, с головой под крылом.
В омут крови еврейской опять погружаясь - по долгу мессии...
Вновь две тысячи лет... или нет? Кто знает...
Метки: