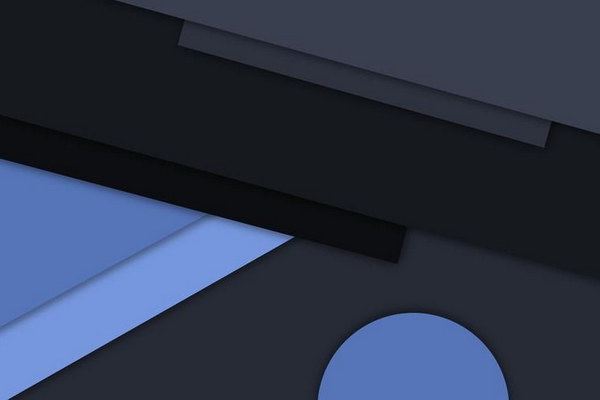Мари Магдален
Мария Магдалина
ЖЕНЩИНА ИЗ СОРОКА
Глаза , которые уже давно смотрели на мир,
Взятые и хранить душу окружающему,
Dread , чтобы посмотреть на себя,
в зеркале , чтобы смотреть на их mirrorings!
Там узреть то , что время сделано, что мысль
изменила их внешний вид и свет.
Я потерял мое лицо через горе и мечту
И не смею его найти, чтобы не поразить
это сам в день, так как я не могу восстановить
мой старый сам , кто в радости без террора
созерцал и знал себе
каждое утро в зеркале!
В долгих поисках любви я , возможно, нашел
дух , после которого жаждала мою страсть.
Но у меня было доверие не дает любовь,
Я дал любовь к сердцу я не доверял.
Одно пришли , что я никогда бы не увидел,
скрытого или дрожь в моих глазах:
Любовь в зеркале , показанном усталым и мягкий,
Безнадежный и мудрый.
Дикие птицы
Дикие птицы среди камышей
Cry, ликовать и расправить крылья.
Из неба они дрейфуют
и оседают на камыш воды.
Но дикие птицы бьют крыльями и крик
пришельцу из неба!
Он чужой, эта дикая птица из неба?
Или же они взывали к нему из - за запоминающимися места
и вспомнили дни ,
проведенные вместе
На северо-земле, или на юго-земле?
Является ли это экстаз обновления,
Или экстаз начала?
Для дикой птицы касается его счета
против мата;
Он чистит ее крыло с его крылом;
Он дрожит от восторга
Для холодного неба голубого,
А прикосновение ее крыла!
Дикие птицы взлетают из язычков воды,
некоторые на юг,
некоторые на севере.
Они gone-
Потерянный в небе!
В какой воде делают эти товарищи из утреннего
ликовать на завтра?
Что дикие птицы будут взывать к ним , как они тонут
Из неизвестного неба?
Чтобы чей крик она будет колчан
через ее полированные крылья завтра,
На северо-земле,
в юго-земле,
далеко?
ЛЕДИ
Она спит под навесом гвоздика шелка,
вышитая с венецианским кружевом,
между бельем , что раздавить в руке
мягкий , как пух.
Проснувшись, она смотрит через окно
занавешено с гвоздиком шелком,
расшит венецианским кружевом,
стены увешаны бархатными
тисненым с Флер - де - Лисом,
и вокруг нее тишина богатства,
где ножные Падения как выдохи
От ковров мха ,
Маленькие часы звон.
Медальоны бесценно , как драгоценные камни
Лягте на банки suspiring , как угли огня.
Служанка готовит ванну,
окрашивая вкусную воду с изысканными эссенциями.
И она подается с кофе
В чашках , как тонкие , как лепестки,
сидя среди подушек , которые дышат
души фрезии!
Все вещи Hers:
Рыбы из всех морей,
фрукты из всех климатов.
Город лежит на ней команду,
и вызываются с помощью кнопок ,
которые прижимаются к ней.
Бесшумно ноги двигаются на многих этажах,
сервировки ее.
Колеса , которые превращаются под тренерами
из хрусталя и черного дерева,
и яхты , мечтающие в странных водах,
и крыла-все ее!
И она свободна:
Ее муж приходит и уходит
из его свиты ниже ее.
Она никогда не увидит его, И
не знает , что его путь, ни его дни.
Но она очень устала
И совсем одна среди своих слуг,
и гостей города , которые приходят и уходят.
Ее губы красны,
ее кожа мягкая и сглаживание
Но страница размывает перед ее глазами.
Ее веки вялы,
и свисать от усталости,
хотя она не будет отдыхать
от долгой погони за любовью!
Ее волосы белого цвета;
Кожа ее безупречных шейных
ребрах в складках ,
как она поворачивает голову идеальной.
И дни рассвета и умирают.
Что день , что зори принесут свою любовь?
И с каждым днем она ждет рассвета
новой жизни, большой любви!
Но каждое утро приносит свою память
за увеличивающиеся года, которые ушли.
И каждый вечер приносит свой страх
Из смерти , которая должна прийти,
пока ее нервы не раскачиваются ,
как волосы женщины в ветровое
Что должно быть сделано?
Кто - то говорит ей , что Бог есть любовь.
И когда страхи приходят
Она говорит себе снова и снова,
?Бог есть любовь! Бог есть любовь!
Все хорошо.?
И она выигрывает немного забыться,
через говоря : ?Бог есть любовь?
от истины в ее сердце , которое кричит:
?Любовь есть жизнь,
любовь есть любовник,
и любовь есть Бог!?
Она является цветком
Какой весны питала,
и летом исчерпали.
Падение под рукой.
Weird зефир размешать ее листья и цветы;
И она говорит себе: ?Это не падать,
Ибо Бог есть любовь!?
Мой бедный цветок!
Пусть эта терапия облегчить вам в сон,
и сворачивание jewelless руки!
Вы начинаете болеть
из неизлечимой болезни в возрасте,
и усталость бесполезной плоти!
Негр WARD
Кроха было Я написал: это было лучше ,
чтобы раздавить эту любовь, чтобы дать вас,
Drink в одном проекте горькой чаши,
и убить эту новую жизнь в моей груди,
дыхание , чем Паркер , казалось, дать
зловещий звук конца был близок.
Я так хочу этот человек Live -
этот негритянский солдат, дорогой.
Кошмарный три утра, все было по- прежнему
Но погремушка Паркера в горле,
Снаружи я услышал Whippoorwill.
Новая луна как индийская лодка
Хунг прямо над затемненной рощей,
где ты и я заложенный нашей любовь,
когда вы были здесь. Такие драгоценные часы,
такие мимолетные моменты были тогда наши ...
Один здесь , в тихой палате,
с Паркер умирает, мне было страшно.
Его дыхание было коротким, его губы посинели.
Я спросил его: ?Есть ли что - то еще,
Паркер, что я могу для вас сделать??
?Пожалуйста , держите меня за руку,? сказал он. Прежде чем
я взял его, он растет холоднокатаную
Смерть, как быстро он идет!
Тогда рядом я , казалось, слышал drums-
Ведь я упала в обморок на его глазах ,
что смотрел с таким широким удивлением ,
как веки развалился они смотрели,
Как будто они увидели , что узреть
бы пораженный его бедную душу , которую Fared
Где не будет. Я слышал барабаны,
горн рядом, лежал так ослабели
Глазами Паркера еще на мой взгляд,
Как и пузырь пылинок , которые порхают и краски
Самих на небо сини.
Денщик по почте тем ,
что письмо к вам, то я лежал
слишком слаб , чтобы написать снова, отрекаться от своих слов ,
что я написал.
Вниз по проходу,
между нашими кроватями со ступенчатым я слышал,
голос: ?Наш заказ здесь, мы покидаем
Через полчаса для Франции.? Я перемешивалась
Как мертвой вещь, может дефицитные зачать
пришли какую трагедию. Нет шансов
Чтобы написать вам или телеграфу.
В двенадцать часов больше, так как в трансе
я смотрел с острова Эллис, где
мои приятели могли беспечально говорить и смеяться.
Через два часа больше мы отплыли во Францию.
Все это было трудно, но все же иметь
знание о вас, вашем отчаянии,
или изменение, или горечи, если вы думали ,
что пришло письмо от меня, совершались
Из сердца , которое не мог кол
своей собственную крови ради вас.
Я вернусь к вам в длину
Если я , но жить и иметь силу.
Как вы полюбите меня с белыми волосами,
и опустошали щеки, глубоко подкладку и бледные?
Все началось той страшной ночью
о смерти Паркера, деформации и испуге,
письмо , казалось , лучше всего отложенная запись
С тех пор до сих пор я был хрупким.
Наш корабль просто пропустил подводную лодку,
а вот трудности, газовую гангрену,
ужасы и смерть раздела
мою жизнь всем. Является ли это доказать ,
для долга, вы, тем не менее кровавые губы,
и упал мою непобедимую любовь
Для страны и для вас через все,
Whatever участь постигнет?
Что такое большое мучение души моей для?
Для чего этой трагедии войны?
За что судьба , которая говорит нам:
Часть руки и быть великодушным?
За то , что суд , который предписывает
Маточный любовь во мне прекратить?
Для разделения, безнадежные миль
земли и воды нам , между?
За то , что дьявол сила , которая улыбается
В неизлечимой боли человека?
Я не потерял веру в Бога.
Жизнь стемнело, я только говорю:
Господи, мои ноги заблудились.
Религия, мудрость не дают
место , чтобы стоять, место , чтобы жить.
Я не потерял веру в любовь,
что - то он должен подняться над
облаками Земли, я все еще могу отдохнуть
Во сне иногда на груди.
Но, о, кажется , иногда игра ,
где боги собирание букет:
Цветок войны, душа моя или ваша
ароматнее выращенный как это претерпевший ....
УИЛЬЯМ Шекспир
Homer пильных народы, армии, multitudes-
Вы видели их в интимные интермедии
души Брута в полночь в палатке
Когда инфекция гноится событие.
Конечно Улисса изменяется корыто моря.
Вы видели эпоху , когда шляпа сдувает.
Орест бежал Фурий, выиграл свой мир
Through Аполлона в старой Греции.
Но кто unbars ловушки мыши вашего мира,
или убивает змей в засаде , где он свернулся?
Ваши Мойры вернуться, и Fortinbras втягивает
бессилие Гамлета и грех Гертруды.
Все океаны в каплях дождя, капли росы
Содержит прекрасные небеса избранных и синие;
Ангелы, мать Calibans, и надежды
имеют свое видение, большое мозаику оттенки
с мыслями князей, поэтов, мизантропы,
раскрывают их минутные цвета ближе рассматривать.
Atomies, личинки насекомых, черви или позолоченные мух,
ничего слишком мал или фола не для ваших глаз.
Вы сделали культуру мечты потеряли или выиграли ,
как Роберт Браунинг, Эмили Дикинсон.
Вы смотрели на небо , когда молния блестело,
потом увидел хлыст фею в крикет кости.
Для богов и людей бактериолога
духовных микробов скрытых , которые могут существовать
в моменты красной радости-спокойный сатирика
миров оставленных для волос женщин,
Короли убиенных, государство рассыпались, герои ложным или справедливыми,
безумие плоти, любовь на фукусе,
А белая горничная вышла замуж за солдата черный.
Incests, прелюбодеяние и тайные грехи,
падение монархов и манекены.
Все люди на последнем гремучее пустой стручок,
все люди уничтожены , как мухи для спорта Бога.
Вся жизнь в бешеном tale- прошлого идиота
Вы были силы , чтобы сказать это и не перепел!
Для вас , что были единства, правила
Плавта, Корнель или греческих школ?
Пламя через трубу будет петь, возможно, когда взорвана
против серебра ремесленника, но тон
миров в пожарище, это будет
священным огнь с распростертыми крылами и свободно, в
котором Афина падает, Сидон стоит,
и где морозильного клоун может согреть руки.
Если бы вы могли опустошить мозг тигра
и телеграфировать его спинной мозг снова
к мозгу Сапфо, то, без сомнения , пожирать
Тигра нервы и сухожилия в час.
Такие мышцы и такие кости не могли выдержать
алчный голод пожара настолько чистого.
А ты, Уилл Шекспир, дух чувствительны,
вы жили за пятьдесят, то есть долго жить
и кормить пламя , как ваша, и пусть пламя
само по себе и круг Римейк на плоти и рамы.
Я говорю с Иисусом, глаз мудрости, слепые ,
чтобы искать поэт, и думать , чтобы найти
стройную трость , которая непоколебимый ветер.
Приходите циклопа счетчика, миллионеры,
юристов и государственных деятелей в делах мира,
и тонкие прочь , как плоть , которая съедает кислоты
Под страстью даже Джона Китса.
Но если вы почувствовали и увидели любовь, агония,
Как Шекспир знал их , вы бы быстро умереть.
Существует никакой трагедии , как дар песни,
он держит вас смертны , но требует вас сильным;
Это дает вам Божии глаза размыты с человеческими слезами,
и коронки тысячи жизней в пятьдесят лет.
Введите бездыханное молчание , где Бог обитает,
Смотри и записывать все небо и все ады!
Для игры
Любовь начала с ними обоими так нежно
Встречей, ни мысль , ни пристально.
Потом ее дыхание применит пожаро-
дыхание дыхания набора горящего желание.
Есть ли нечто в плоти , или это дух
сознавая свою родственную душу , когда рядом с ним?
Горе плоти или душа , которая полностью разбудило
В то время как другие души-глубины лежат unshakened!
Как она могла дать ему все священные blisses,
длинные объятия, в темноте поцелуями,
если она не была его, все остальное забывание,
любовники пошли и выражая сожаление других любит?
Это было как раз то место ее золото leadened-
Плоть там тоже жив, ему все приглушить.
Она могла бы заострять не его игру полностью, все
же его струны сердца трепетали за нее только.
Так эта любовь игра поспешила к занавесу.
Каждый из них говорил свои реплики в акцентах некоторых, В
то время как раз позади крыльев ее поглядывает
утепленных изменой успехи в суфлера.
Есть ли больше , чем мученичество это?
Вы застолбили свою душу , где бездна.
Вы дали все-ой извините бартер
Вы зажег огонь для вас мч.
Вы все еще любите дальше, или обратиться к ненавидя,
Дни уходят, ваше сердце остается в его ожидании,
Где вино? Она дала половину меры своего сердца,
все , что она, для полного сокровища всех ваших душ.
Что половина , чтобы, вы могли бы достичь?
Что сокровище ваше , если вы могли бы получить его?
Никогда еще не должен ты снова одарить его ...
Теперь у вас есть песня , если вы поэт.
Теперь вы когда - либо тупой , если песня опровергла вас,
вы должны быть более тупым , чем все рядом, В
то время как ваша душа потрясена его torrents-
Данте songless в Данте во Флоренции.
Возраст не должен делать сильным, ни глубже обучения.
Печаль становится яснее с различению вашего глаза.
Проходят годы, но о почве растет faster-
Рише для корней вашей катастрофы.
Заканчивается игра-за того, что есть жизнь , но умирает?
Что такое любовь , но огонь вечно плачет?
Что ваша душа , но чистый углерод топлива любви?
Любовь и жизнь делает пепел драгоценности!
ЧИКАГО
Я
На серой бумаге этого тумана и тумана
с пылью для стирания и с дымом
для рисования мелков, будь то угль каракули:
Порода Гоги в царстве Магога,
Небоскребы, шлемы, стоять на стражу На
фоне заслоняя испарения угля и кокс,
поднятые по волшебству из песка и болота.
Это небо линия, Сьерры озера,
Порезы с притупляются зубами,
Which твиста и перерывом,
The невесомых и дрейфующих парами.
И беспокойно под
этим человеком создал горную цепь,
подобно поток реки прерии
Бесконечно днем и ночью, навсегда
Вдоль бульваров пешеходов потока
В случайном порядке , как танцоры к низким припев:
Вечно днем и ночью
Занимаясь в старой приманке от восторга,
и призраки удовольствия или боли.
Их ритмичные ноги звучат как падение дождя,
или в тишине волн, когда рев
продувается ветром от берега.
II
От башни , как горный мысу
Помойка железной дороги лжи , чтобы посмотреть
обрастание мрамор славы города:
А в состоянии похмелья водовода мусора и автомобили ,
где двигатели рвутся и свисток, размазать синий
с грязью , как след слизней.
Это траншея стала, запрещающими
свободный доступ к общему берегу и объятий
в катушке Лазарь оружия Бульварного.
Крупный рогатый скот и свиньи доставлены сюда для убоя
развратить прелесть фронта воды.
Они низко и хрюкать,
Switched назад и вперед в запутанном дворе.
Но с этой башней аметистового вод,
вода из нефрита или сланца,
виден с его назойливыми
Жестами на фоне неба по - прежнему отступления
В Мичигане, тихие лесов и холмы
Beyond кипящей страсти этих улиц,
и все их бесконечных бед ....
III
Но через переключатель двор стоит Институт
охраняемых львов на проспекте,
Колоссальные львы , стоящие за нападение;
Между ноги которого светящимся и решительными
Дети города , проходящим через
К палитрам, компасы, демонический
дух города должен покорить.
Львы в петле и шакалов тоже.
У них нет тренеров бургомистра,
кто использует их для охоты с, но со временем
городом узрит свой план благородного
Достигается за счетом руками , которые рифмуются,
рабочие , которые архитектор и строить,
И из его думало вещество повторно организовать,
пока все его пророчество должно быть выполнено.
Через числа, наука и искусство
Город должен знать изменения,
и выиграть владычество над водой и светом,
освоение циклоп о витрине;
Черти преодолены,
Который черенок убогих пути ночью
бедность и трущоб,
Где породившая мошенница, взломщик и задница.
Эти молодые люди , которые проходят львы должны утолить
жажду и голод города,
и сохранить его от потерь и заработной платы
Из демагога, участковом Монгер.
IV
Это город великих дожей спрятанных
в защищенных офисах и загородных местах.
Крепостные норовят против вещей , запрещенных
К дожам, на грани которого
город в большом не смотрит;
Дожи , которые могли бы достичь , если бы они
в течение месяца красоты города и хорошее.
Тем не менее , этот город через сто лет поднялась
Из прибежищем лисиц, волков и грачей,
и разрывает на куски прямо сейчас прутья тюрьмы
мертвых дней и умирает. Он имеет распространение
для многих Руды своих границ, как развалился
и упавший Hephaestos, и арендуемый
его окрестности растет и неукрепленные
с народами из всех стран.
От Милуоки - авеню людных мельниц
Из Южного Чикаго, от Шеридан Драйва
через лес , где воду улыбку
Чтобы Harlem мили и мили.
Она протягивает свои руки,
мощные и живые
снов коснуться завтра, что он хочет ,
чтобы заря и который должен заря ....
И как огни, мерцающих сквозь смрад
И гнилой туман скотобоен,
Великие души здесь, отдельно и отозваны ,
Companionless, которого тьма не может утолить.
Видя , что они являются куколки , которые должны кормить
После своих собственных мыслей и жизни , чтобы быть,
его полет среди звезд.
Красота здесь, как половина защищённая,
бутоны и ввергнет его мультипликативное семя,
Пока одна массы цвета не удастся
The сланцеватом место этих засушливых часов.
В
Чикаго! этого внутреннего моря
В земле Линкольна, в состоянии
души , которые держали судьбу нации,
город и старый и молодой, я посвящаю
Ваши будущие годы к истине и свободе.
Будьте это рекорд хрупкий и неполного
Из того , кто видел тебя, смешивался с массами
Вдоль эти волшебные горные перевалы
с неспокойно еще с обнадеживающими ногами.
Могли ли они вернуться , чтобы увидеть вас , кто спали
эти пятьдесят лет, заложивших свои первые основы!
И ах! могу мы видим вас , кто сохранил
свои обещания для вас, когда новые поколений
будут ходить этот бульвар сделал ярмарку
в точеном мраморе, глядя на озере
Из четкой воды под голубее воздухом.
Мы, должны спать тогда , ни бодрствовать,
оставившего труд вам и забота
Ask большого исполнения, для себя молитвы!
Брачный пир
Said начальник брачного пира жениха,
откуда эта кровь виноградной лозы?
Мужчины служат в первую лучшем случае , сказал он,
и на последнем, плохое вино.
Говорит начальник брачного пира жениха,
Когда гости выпили досыта
Пьет все , что вино вы служите, также
не знает , хорошее от плохо.
Как вы держали хорошо до сих пор
Когда наши сердца , ни ухода , ни видеть?
Говорит начальник брачный пир жениху,
откуда может быть это хорошее вино?
Говорит начальник брачный пир, это вино
является лучшим из всех на сегодняшний день.
Упомянутый жених, там стоят шесть банок без
И вино наполняет каждую банку.
Говорит начальник брачного пира, нам не хватало
вина для свадебного пира.
Как приходит теперь одна баночка вина
до шести банок увеличивается?
Кто делает нашу чашу к переполнению?
А кто имеет свадебную благословенной?
Упомянутый жених начальника пира, чужой
ли здесь в качестве свадебного гостя.
Упомянутый жених начальника свадебного пира,
Моисей по силе божественного
поражала воду в Мериве из скалы,
но этот человек делает нас вином.
Упомянутый жених начальника свадебного пира,
Елисей степенными божественному
Сделано масло для вдовы , чтобы продать за хлеб,
но этот человек, свадьба вина.
Он изменил использование банок, сказал он,
Из наружу обрядового и знака:
Там , где вода стояла для мытья ног,
для сердца Восхищения есть вино.
Итак ?ТИС он сказал начальник пира,
Кто свадебный пир имеет благословенным?
Упомянутый жених начальника пира, незнакомец
ли веселый свадебный гость.
Он смеется и шутки с гостями свадьбы,
он пьет с счастливой невестой.
Говорит начальник свадебного пира жениху,
Go привести его в мою сторону.
Иисус из Назарета пришел,
и его тело было справедливо и тонким.
Иисус из Назарета пришел,
и его мать пришла с ним.
Иисус из Назарета выступает с танцорами
и его мать от него стоит.
Невеста приседает вниз к Иисусу из Назарета ,
и целует его радужные руки.
Жениха приседает к Иисусу из Назарета
и Иисус благословляет двойка.
Я иду путь, сказал Иисус из Назарета,
тьмы, печали и боли.
После того , как свадебный пир является труд,
страдания, болезни, смерть,
и поэтому я вам вино на свадьбе,
сказал Иисус из Назарета.
Мое сердце с вами, сказал Иисус из Назарета,
Как виноград один с виноградной лозой.
Ваше счастье мое, сказал Иисус из Назарета,
и поэтому я делаю вам вино.
Молодежь и любовь , которую я благословляю, Иисус сказали,
Сонг и чаша , что аплодисменты.
Розовые руки Иисуса из Назарета
мокрые от слез молодой невесты.
Любите друг друга, сказал Иисус из Назарета,
Ere приходит зло лет.
Розовые руки Иисуса из Назарета
мокрые от слез жениха.
Иисус из Назарета идет со своей матерью,
Танцоры снова танцы.
Там женщина , которая делает паузу без слушать,
?Tis Марии Магдалины.
Forth на улице Scribe от свадьбы
идет с саддукей.
Упомянутый Писец, это показывает , как рыхлый парень
может выйти из Галилеи!
A WOMAN OF FORTY
Eyes that have long looked on the world,
Taken and stored the soul of outward things,
Dread to look on themselves,
In the mirror to gaze upon their mirrorings!
There to behold what time has done, what thought
Has changed their look and light.
I have lost my face through sorrow and dreams
And dare not find it, lest it smite
This self to-day, since I may not restore
My old self who in gladness without terror
Beheld and knew myself
Each morning in the mirror!
In the long quest of love I may have found
A spirit after whom my passion lusted.
But I had trust not giving love,
I have given love to hearts I have not trusted.
One thing has come that I would never see,
Hidden or trembling in my eyes:
Love in the mirror shown fatigued and mild,
Hopeless and wise.
WILD BIRDS
The wild birds among the reeds
Cry, exult and stretch their wings.
Out of the sky they drift
And sink to the water's rushes.
But the wild birds beat their wings and cry
To the newcomer out of the sky!
Is he a stranger, this wild bird out of the sky?
Or do they cry to him because of remembered places
And remembered days
Spent together
In the north-land, or the south-land?
Is this the ecstasy of renewal,
Or the ecstasy of beginning?
For the wild bird touches his bill
Against a mate;
He brushes her wing with his wing;
He quivers with delight
For the cool sky of blue,
And the touch of her wing!
The wild birds fly up from the reeds of the water,
Some for the south,
Some for the north.
They are gone—
Lost in the sky!
In what water do these mates of a morning
Exult on the morrow?
What wild birds will cry to them as they sink
Out of an unknown sky?
To whose cry will she quiver
Through her burnished wings to-morrow,
In the north-land,
In the south-land,
Far away?
A LADY
She sleeps beneath a canopy of carnation silk,
Embroidered with Venetian lace,
Between linens that crush in the hand
Soft as down.
Waking, she looks through a window
Curtained with carnation silk,
Embroidered with Venetian lace,
The walls are hung with velvet
Embossed with a fleur de lis,
And around her is the silence of richness,
Where foot-falls are like exhalations
From carpets of moss.
Little clocks tinkle.
Medallions priceless as jewels
Lie by jars suspiring like coals of fire.
And a maid prepares the bath,
Tincturing delicious water with exquisite essences.
And she is served with coffee
In cups as thin as petals,
Sitting amid pillows that breathe
The souls of freesia!
All things are hers:
Fishes from all seas,
Fruits from all climes.
The city lies at her command,
And is summoned by buttons
Which are pressed for her.
Noiselessly feet move on many floors,
Serving her.
Wheels that turn under coaches
Of crystal and ebony,
And yachts dreaming in strange waters,
And wings—all are hers!
And she is free:
Her husband comes and goes
From his suite below hers.
She never sees him,
Nor knows his ways, nor his days.
But she is very weary
And all alone amid her servants,
And guests that come and go.
Her lips are red,
Her skin is soft and smooth—
But the page blurs before her eyes.
Her eyelids are languid,
And droop from weariness,
Though she will not rest
From the long pursuit of love!
Her hair is white;
The skin of her faultless neck
Edges in creases
As she turns her perfect head.
And the days dawn and die.
What day that dawns will bring her love?
And day by day she waits for the dawn
Of a new life, a great love!
But every morning brings its remembrance
Of the increasing years that are gone.
And every evening brings its fear
Of death which must come,
Until her nerves are shaken
Like a woman's hair in the wind—
What must be done?
Some one tells her that God is love.
And when the fears come
She says to self over and over,
"God is love! God is love!
All is well."
And she wins a little oblivion,
Through saying "God is love,"
From the truth in her heart which cries:
"Love is life,
Love is a lover,
And love is God!"
She is a flower
Which the spring has nourished,
And the summer exhausted.
Fall is at hand.
Weird zephyrs stir her leaves and blossoms;
And she says to herself, "It is not fall,
For God is love!"
My poor flower!
May this therapy ease you into sleep,
And the folding of jewelless hands!
You are beginning to be sick
Of the incurable disease of age,
And the weariness of futile flesh!
THE NEGRO WARD
Scarce had I written: it were best
To crush this love, to give you up,
Drink at one draught the bitter cup,
And kill this new life in my breast,
Than Parker's breathing seemed to give
Ominous sound the end was near.
I did so want this man to live—
This negro soldier, dear.
'Twas three in the morning, all was still
But Parker's rattle in the throat,
Outside I heard the whippoorwill.
The new moon like an Indian boat
Hung just above the darkened grove,
Where you and I had pledged our love,
When you were here. Such precious hours,
Such fleeting moments then were ours ...
Alone here in the silent ward,
With Parker dying, I was scared.
His breath came short, his lips were blue.
I asked him: "Is there something more,
Parker, that I can do for you?"
"Please hold my hand," he said. Before
I took it, it was growing cold—
Death, how quick it comes!
Then next I seemed to hear the drums—
For I had fainted for his eyes
That stared with such a wide surprise,
As the lids fell apart they stared,
As if they saw what to behold
Had startled his poor soul which fared
Where it would not. I heard the drums,
The bugle next, lay there so faint
With Parker's eyes still in my view,
Like bubble motes which flit and paint
Themselves upon the heaven's blue.
An orderly had mailed meanwhile
That letter, to you, there I lay
Too weak to write again, unsay
What I had written.
Down the aisle,
Between our beds a step I heard,
A voice: "Our order's here, we leave
In half an hour for France." I stirred
Like a dead thing, could scarce conceive
What tragedy was come. No chance
To write you or to telegraph.
In twelve hours more, as in a trance
I looked from Ellis Island, where
My chums could gayly talk and laugh.
In two hours more we sailed for France.
All this was hard, but still to bear
The knowledge of you, your despair,
Or change, or bitterness, if you thought
That letter came from me, was wrought
Out of a heart that could not stake
Its own blood for your sake.
I will come back to you at length
If I but live and have the strength.
How will you like me with hair white,
And wasted cheeks, deep lined and pale?
It all began that dreadful night
Of Parker's death, the strain and fright,
The letter it seemed best to write—
From then to now I have been frail.
Our ship just missed a submarine,
And here the hardships, gas-gangrene,
The horrors and the deaths have stripped
My life of everything. Is it to prove
For duty, you, though bloody-lipped,
And fallen my unconquerable love
For country and for you through all,
Whatever fate befall?
What is my soul's great anguish for?
For what this tragedy of war?
For what the fate that says to us:
Part hands and be magnanimous?
For what the judgment which decrees
The mother love in me to cease?
For separation, hopeless miles
Of land and water us between?
For what the devil force that smiles
At man's immedicable pain?
I have not lost my faith in God.
Life has grown dark, I only say:
Dear God, my feet have lost the way.
Religion, wisdom do not give
A place to stand, a space to live.
I have not lost my faith in love,
That somehow it must rise above
The clouds of earth, I still can rest
In dreams sometimes upon your breast.
But, oh, it seems sometimes a play
Where gods are picking a bouquet:
The blossom of war, my soul or yours
More fragrant grown as it endures....
WILLIAM SHAKSPEARE
Homer saw nations, armies, multitudes—
You saw them in the intimate interludes
Of Brutus' soul at midnight in a tent
When the infection festers the event.
Ulysses' course is changed by the sea's trough.
You saw an epoch when a hat blows off.
Orestes fled the Furies, won his peace
Through Apollo in old Greece.
But who unbars the mouse traps of your world,
Or kills the ambushed serpent where it's curled?
Your Fates return, and Fortinbras draws in
On Hamlet's impotence and Gertrude's sin.
All oceans in a raindrop, drops of dew
Containing perfect heavens starred and blue;
Angels who mother Calibans, and hopes
Are of your vision—great mosaics hued
With thoughts of princes, poets, misanthropes,
Reveal their minute colors closer viewed.
Atomies, maggots, worms or gilded flies,
Nothing too small or foul is for your eyes.
You made a culture of dreams lost or won
Like Robert Browning, Emily Dickinson.
You looked in heaven when the lightning shone,
Then saw a fairy's whip of cricket bone.
For gods and men bacteriologist
Of spiritual microbes hidden which subsist
In moments of red joy—calm satirist
Of worlds forsaken for a woman's hair,
Kings slain, states crumbled, heroes false or fair,
The madness of the flesh, love on the wrack,
A white maid married to a soldier black.
Incests, adulteries and secret sins,
The fall of monarchs and of manikins.
All men at last a rattling empty pod,
All men destroyed like flies for sport of God.
All Life at last an idiot's furious tale—
You had the strength to say this and not quail!
For you what were the unities, the rules
Of Plautus, Corneille or the Grecian schools?
Flame through a pipe will sing, perhaps, when blown
Against the craftsman's silver, but the tone
Of worlds in conflagration, that's to be
The sacred fire with wings outspread and free,
Wherein an Athens falls, a Sidon stands,
And where a freezing clown may warm his hands.
If you could empty out a tiger's brain
And wire up its spinal cord again
To Sappho's brain, it would no doubt devour
The tiger's nerves and sinews in an hour.
Such muscles and such bones could not endure
The avid hunger of a fire so pure.
And you, Will Shakspeare, spirit sensitive,
You lived past fifty, that is long to live
And feed a flame like yours, and let the flame
Remake itself and lap at flesh and frame.
I say with Jesus, wisdom's eyes are blind
To seek a poet out and think to find
A slender reed that's shaken by the wind.
Come cyclops of the counter, millionaires,
Lawyers and statesmen in the world's affairs,
And thin away like flesh which acid eats
Under the passion even of John Keats.
But if you felt and saw love, agony,
As Shakspeare knew them you would quickly die.
There is no tragedy like the gift of song,
It keeps you mortal but demands you strong;
It gives you God's eyes blurred with human tears,
And crowns a thousand lives in fifty years.
Enter the breathless silence where God dwells,
See and record all heavens and all hells!
FOR A PLAY
Love began with both of them so gently
Meeting, neither thought nor looked intently.
Afterward her breath invoked the fire—
Breath to breath set burning their desire.
Is there aught in flesh or is it spirit
Conscious of its kindred soul when near it?
Woe to flesh or soul that's wholly wakened
While the other's soul-depths lie unshakened!
How could she give him all sacred blisses,
Long embraces, in the darkness kisses,
If she was not his, all else forgetting,
Lovers gone and other loves' regretting?
That was just the place her gold was leadened—
Flesh there too alive, to him all deadened.
She could harp not to his playing wholly,
Yet his heart strings trembled for her solely.
So this love play hastened to the curtain.
Each one spoke his lines in accents certain,
While at times behind the wings her glances
Warmed the prompter's treasonous advances.
Is there greater martyrdom than this is?
You have staked your soul where the abyss is.
You have given all—oh sorry barter
You have lit the fire for you the martyr.
You will still love on, or turn to hating,
Days depart, your heart stays in its waiting,
Where's the blame? She gave her heart's half measure,
All she had, for all your soul's full treasure.
What's the half to keep, could you achieve it?
What your treasure if you could retrieve it?
Never more shall you again bestow it ...
Now you have a song if you're a poet.
Now you're ever dumb if song's denied you,
You shall be more dumb than all beside you,
While your soul is shaken by its torrents—
Dante songless in a Dante Florence.
Age shall not make strong, nor deeper learning.
Grief grows clearer with your eye's discerning.
Pass the years, but oh the soil grows faster—
Richer for the roots of your disaster.
Ends the play—for what is life but dying?
What is love but fire forever crying?
What your soul but love's pure carbon fuel?
Love and life make ashes of the jewel!
CHICAGO
I
On the gray paper of this mist and fog
With dust for the erasure and with smoke
For drawing crayons, be this charcoal scrawl:
The breed of Gog in the kingdom of Magog,
Skyscrapers, helmeted, stand sentinel
Amid the obscuring fumes of coal and coke,
Raised by enchantment out of the sand and bog.
This sky-line, the Sierras of the lake,
Cuts with dulled teeth,
Which twist and break,
The imponderable and drifting steam.
And restlessly beneath
This man-created mountain chain,
Like the flow of a prairie river
Endlessly by day and night, forever
Along the boulevards pedestrians stream
In a shuffle like dancers to a low refrain:
Forever by day and night
Pursuing as of old the lure of delight,
And the ghosts of pleasure or pain.
Their rhythmic feet sound like the falling of rain,
Or the hush of the waves, when the roar
Is blown by a wind off shore.
II
From a tower like a mountain promontory
The cesspool of a railroad lies to view
Fouling the marble of the city's glory:
A crapulous sluice of garbage and of cars
Where engines rush and whistle, smudge the blue
With filth like the trail of slugs.
It is a trench of steel which bars
Free access to the common shore, and hugs
In a coil of lazar arms the boulevard.
Cattle and hogs delivered here for slaughter
Corrupt the loveliness of the water front.
They low and grunt,
Switched back and forth within the tangled yard.
But from this tower the amethystine water,
The water of jade or slate,
Is visible with its importunate
Gestures against the sky to still retreats
In Michigan, of quiet woods and hills
Beyond the simmering passion of these streets,
And all their endless ills....
III
But over the switch yard stands the Institute
Guarded by lions on the avenue,
Colossal lions standing for attack;
Between whose feet luminous and resolute
Children of the city passing through
To palettes, compasses, the demoniac
Spirit of the city shall subdue.
Lions are in the loop and jackals too.
They have no trainers but the alderman,
Who uses them to hunt with, but in time
The city shall behold its nobler plan
Achieved by hands that rhyme,
Workers who architect and build,
And out of thought its substance re-arrange,
Till all its prophecies shall be fulfilled.
Through numbers, science and art
The city shall know change,
And win dominion over water and light,
The cyclop's mastery of the mart;
The devils overcome,
Which stalk the squalid ways by night
Of poverty and the slum,
Where the crook is spawned, the burglar and the bum.
These youths who pass the lions shall assuage
The city's thirst and hunger,
And save it from the wastage and the wage
Of the demagogue, the precinct monger.
IV
This is the city of great doges hidden
In guarded offices and country places.
The city strives against the things forbidden
By the doges, on whose faces
The city at large never looks;
Doges who could accomplish if they would
In a month the city's beauty and good.
Yet this city in a hundred years has risen
Out of a haunt of foxes, wolves and rooks,
And breaks asunder now the bars of the prison
Of dead days and dying. It has spread
For many a rood its boundaries, like the sprawled
And fallen Hephaestos, and has tenanted
Its neighborhoods increasing and unwalled
With peoples from all lands.
From Milwaukee Avenue to the populous mills
Of South Chicago, from the Sheridan Drive
Through forests where the water smiles
To Harlem for miles and miles.
It reaches out its hands,
Powerful and alive
With dreams to touch tomorrow, which it wills
To dawn and which shall dawn....
And like lights that twinkle through the stench
And putrid mist of abattoirs,
Great souls are here, separate and withdrawn,
Companionless, whom darkness cannot quench.
Seeing they are the chrysalis which must feed
Upon its own thoughts and the life to be,
Its flight among the stars.
Beauty is here, like half protected flowers,
Blooms and will cast its multiplying seed,
Until one mass of color shall succeed
The shaley places of these arid hours.
V
Chicago! by this inland sea
In the land of Lincoln, in the state
Of souls who held the nation's fate,
City both old and young, I consecrate
Your future years to truth and liberty.
Be this the record frail and incomplete
Of one who saw you, mingled with the masses
Along these magical mountain passes
With restless yet with hopeful feet.
Could they return to see you who have slept
These fifty years, who laid your first foundations!
And oh! could we behold you who have kept
Their promises for you, when new generations
Shall walk this boulevard made fair
In chiseled marble, looking at the lake
Of clearer water under a bluer air.
We who shall sleep then nor awake,
Have left the labor to you and the care
Ask great fulfillment, for ourselves a prayer!
THE WEDDING FEAST
Said the chief of the marriage feast to the groom,
Whence is this blood of the vine?
Men serve at first the best, he said,
And at the last, poor wine.
Said the chief of the marriage feast to the groom,
When the guests have drunk their fill
They drink whatever wine you serve,
Nor know the good from the ill.
How have you kept the good till now
When our hearts nor care nor see?
Said the chief of the marriage feast to the groom,
Whence may this good wine be?
Said the chief of the marriage feast, this wine
Is the best of all by far.
Said the groom, there stand six jars without
And the wine fills up each jar.
Said the chief of the marriage feast, we lacked
Wine for the wedding feast.
How comes it now one jar of wine
To six jars is increased?
Who makes our cup to overflow?
And who has the wedding blest?
Said the groom to the chief of the feast, a stranger
Is here as a wedding guest.
Said the groom to the chief of the wedding feast,
Moses by power divine
Smote water at Meribah from the rock,
But this man makes us wine.
Said the groom to the chief of the wedding feast,
Elisha by power divine
Made oil for the widow to sell for bread,
But this man, wedding wine.
He changed the use of the jars, he said,
From an outward rite and sign:
Where water stood for the washing of feet,
For heart's delight there's wine.
So then 'tis he, said the chief of the feast,
Who the wedding feast has blest?
Said the groom to the chief of the feast, the stranger
Is the merriest wedding guest.
He laughs and jests with the wedding guests,
He drinks with the happy bride.
Said the chief of the wedding feast to the groom,
Go bring him to my side.
Jesus of Nazareth came up,
And his body was fair and slim.
Jesus of Nazareth came up,
And his mother came with him.
Jesus of Nazareth stands with the dancers
And his mother by him stands.
The bride kneels down to Jesus of Nazareth
And kisses his rosy hands.
The bridegroom kneels to Jesus of Nazareth
And Jesus blesses the twain.
I go a way, said Jesus of Nazareth,
Of darkness, sorrow and pain.
After the wedding feast is labor,
Suffering, sickness, death,
And so I make you wine for the wedding,
Said Jesus of Nazareth.
My heart is with you, said Jesus of Nazareth,
As the grape is one with the vine.
Your bliss is mine, said Jesus of Nazareth,
And so I make you wine.
Youth and love I bless, said Jesus,
Song and the cup that cheers.
The rosy hands of Jesus of Nazareth
Are wet with the young bride's tears.
Love one another, said Jesus of Nazareth,
Ere cometh the evil of years.
The rosy hands of Jesus of Nazareth
Are wet with the bridegroom's tears.
Jesus of Nazareth goes with his mother,
The dancers are dancing again.
There's a woman who pauses without to listen,
'Tis Mary Magdalen.
Forth to the street a Scribe from the wedding
Goes with a Sadducee.
Said the Scribe, this shows how loose a fellow
Can come out of Galilee!
ЖЕНЩИНА ИЗ СОРОКА
Глаза , которые уже давно смотрели на мир,
Взятые и хранить душу окружающему,
Dread , чтобы посмотреть на себя,
в зеркале , чтобы смотреть на их mirrorings!
Там узреть то , что время сделано, что мысль
изменила их внешний вид и свет.
Я потерял мое лицо через горе и мечту
И не смею его найти, чтобы не поразить
это сам в день, так как я не могу восстановить
мой старый сам , кто в радости без террора
созерцал и знал себе
каждое утро в зеркале!
В долгих поисках любви я , возможно, нашел
дух , после которого жаждала мою страсть.
Но у меня было доверие не дает любовь,
Я дал любовь к сердцу я не доверял.
Одно пришли , что я никогда бы не увидел,
скрытого или дрожь в моих глазах:
Любовь в зеркале , показанном усталым и мягкий,
Безнадежный и мудрый.
Дикие птицы
Дикие птицы среди камышей
Cry, ликовать и расправить крылья.
Из неба они дрейфуют
и оседают на камыш воды.
Но дикие птицы бьют крыльями и крик
пришельцу из неба!
Он чужой, эта дикая птица из неба?
Или же они взывали к нему из - за запоминающимися места
и вспомнили дни ,
проведенные вместе
На северо-земле, или на юго-земле?
Является ли это экстаз обновления,
Или экстаз начала?
Для дикой птицы касается его счета
против мата;
Он чистит ее крыло с его крылом;
Он дрожит от восторга
Для холодного неба голубого,
А прикосновение ее крыла!
Дикие птицы взлетают из язычков воды,
некоторые на юг,
некоторые на севере.
Они gone-
Потерянный в небе!
В какой воде делают эти товарищи из утреннего
ликовать на завтра?
Что дикие птицы будут взывать к ним , как они тонут
Из неизвестного неба?
Чтобы чей крик она будет колчан
через ее полированные крылья завтра,
На северо-земле,
в юго-земле,
далеко?
ЛЕДИ
Она спит под навесом гвоздика шелка,
вышитая с венецианским кружевом,
между бельем , что раздавить в руке
мягкий , как пух.
Проснувшись, она смотрит через окно
занавешено с гвоздиком шелком,
расшит венецианским кружевом,
стены увешаны бархатными
тисненым с Флер - де - Лисом,
и вокруг нее тишина богатства,
где ножные Падения как выдохи
От ковров мха ,
Маленькие часы звон.
Медальоны бесценно , как драгоценные камни
Лягте на банки suspiring , как угли огня.
Служанка готовит ванну,
окрашивая вкусную воду с изысканными эссенциями.
И она подается с кофе
В чашках , как тонкие , как лепестки,
сидя среди подушек , которые дышат
души фрезии!
Все вещи Hers:
Рыбы из всех морей,
фрукты из всех климатов.
Город лежит на ней команду,
и вызываются с помощью кнопок ,
которые прижимаются к ней.
Бесшумно ноги двигаются на многих этажах,
сервировки ее.
Колеса , которые превращаются под тренерами
из хрусталя и черного дерева,
и яхты , мечтающие в странных водах,
и крыла-все ее!
И она свободна:
Ее муж приходит и уходит
из его свиты ниже ее.
Она никогда не увидит его, И
не знает , что его путь, ни его дни.
Но она очень устала
И совсем одна среди своих слуг,
и гостей города , которые приходят и уходят.
Ее губы красны,
ее кожа мягкая и сглаживание
Но страница размывает перед ее глазами.
Ее веки вялы,
и свисать от усталости,
хотя она не будет отдыхать
от долгой погони за любовью!
Ее волосы белого цвета;
Кожа ее безупречных шейных
ребрах в складках ,
как она поворачивает голову идеальной.
И дни рассвета и умирают.
Что день , что зори принесут свою любовь?
И с каждым днем она ждет рассвета
новой жизни, большой любви!
Но каждое утро приносит свою память
за увеличивающиеся года, которые ушли.
И каждый вечер приносит свой страх
Из смерти , которая должна прийти,
пока ее нервы не раскачиваются ,
как волосы женщины в ветровое
Что должно быть сделано?
Кто - то говорит ей , что Бог есть любовь.
И когда страхи приходят
Она говорит себе снова и снова,
?Бог есть любовь! Бог есть любовь!
Все хорошо.?
И она выигрывает немного забыться,
через говоря : ?Бог есть любовь?
от истины в ее сердце , которое кричит:
?Любовь есть жизнь,
любовь есть любовник,
и любовь есть Бог!?
Она является цветком
Какой весны питала,
и летом исчерпали.
Падение под рукой.
Weird зефир размешать ее листья и цветы;
И она говорит себе: ?Это не падать,
Ибо Бог есть любовь!?
Мой бедный цветок!
Пусть эта терапия облегчить вам в сон,
и сворачивание jewelless руки!
Вы начинаете болеть
из неизлечимой болезни в возрасте,
и усталость бесполезной плоти!
Негр WARD
Кроха было Я написал: это было лучше ,
чтобы раздавить эту любовь, чтобы дать вас,
Drink в одном проекте горькой чаши,
и убить эту новую жизнь в моей груди,
дыхание , чем Паркер , казалось, дать
зловещий звук конца был близок.
Я так хочу этот человек Live -
этот негритянский солдат, дорогой.
Кошмарный три утра, все было по- прежнему
Но погремушка Паркера в горле,
Снаружи я услышал Whippoorwill.
Новая луна как индийская лодка
Хунг прямо над затемненной рощей,
где ты и я заложенный нашей любовь,
когда вы были здесь. Такие драгоценные часы,
такие мимолетные моменты были тогда наши ...
Один здесь , в тихой палате,
с Паркер умирает, мне было страшно.
Его дыхание было коротким, его губы посинели.
Я спросил его: ?Есть ли что - то еще,
Паркер, что я могу для вас сделать??
?Пожалуйста , держите меня за руку,? сказал он. Прежде чем
я взял его, он растет холоднокатаную
Смерть, как быстро он идет!
Тогда рядом я , казалось, слышал drums-
Ведь я упала в обморок на его глазах ,
что смотрел с таким широким удивлением ,
как веки развалился они смотрели,
Как будто они увидели , что узреть
бы пораженный его бедную душу , которую Fared
Где не будет. Я слышал барабаны,
горн рядом, лежал так ослабели
Глазами Паркера еще на мой взгляд,
Как и пузырь пылинок , которые порхают и краски
Самих на небо сини.
Денщик по почте тем ,
что письмо к вам, то я лежал
слишком слаб , чтобы написать снова, отрекаться от своих слов ,
что я написал.
Вниз по проходу,
между нашими кроватями со ступенчатым я слышал,
голос: ?Наш заказ здесь, мы покидаем
Через полчаса для Франции.? Я перемешивалась
Как мертвой вещь, может дефицитные зачать
пришли какую трагедию. Нет шансов
Чтобы написать вам или телеграфу.
В двенадцать часов больше, так как в трансе
я смотрел с острова Эллис, где
мои приятели могли беспечально говорить и смеяться.
Через два часа больше мы отплыли во Францию.
Все это было трудно, но все же иметь
знание о вас, вашем отчаянии,
или изменение, или горечи, если вы думали ,
что пришло письмо от меня, совершались
Из сердца , которое не мог кол
своей собственную крови ради вас.
Я вернусь к вам в длину
Если я , но жить и иметь силу.
Как вы полюбите меня с белыми волосами,
и опустошали щеки, глубоко подкладку и бледные?
Все началось той страшной ночью
о смерти Паркера, деформации и испуге,
письмо , казалось , лучше всего отложенная запись
С тех пор до сих пор я был хрупким.
Наш корабль просто пропустил подводную лодку,
а вот трудности, газовую гангрену,
ужасы и смерть раздела
мою жизнь всем. Является ли это доказать ,
для долга, вы, тем не менее кровавые губы,
и упал мою непобедимую любовь
Для страны и для вас через все,
Whatever участь постигнет?
Что такое большое мучение души моей для?
Для чего этой трагедии войны?
За что судьба , которая говорит нам:
Часть руки и быть великодушным?
За то , что суд , который предписывает
Маточный любовь во мне прекратить?
Для разделения, безнадежные миль
земли и воды нам , между?
За то , что дьявол сила , которая улыбается
В неизлечимой боли человека?
Я не потерял веру в Бога.
Жизнь стемнело, я только говорю:
Господи, мои ноги заблудились.
Религия, мудрость не дают
место , чтобы стоять, место , чтобы жить.
Я не потерял веру в любовь,
что - то он должен подняться над
облаками Земли, я все еще могу отдохнуть
Во сне иногда на груди.
Но, о, кажется , иногда игра ,
где боги собирание букет:
Цветок войны, душа моя или ваша
ароматнее выращенный как это претерпевший ....
УИЛЬЯМ Шекспир
Homer пильных народы, армии, multitudes-
Вы видели их в интимные интермедии
души Брута в полночь в палатке
Когда инфекция гноится событие.
Конечно Улисса изменяется корыто моря.
Вы видели эпоху , когда шляпа сдувает.
Орест бежал Фурий, выиграл свой мир
Through Аполлона в старой Греции.
Но кто unbars ловушки мыши вашего мира,
или убивает змей в засаде , где он свернулся?
Ваши Мойры вернуться, и Fortinbras втягивает
бессилие Гамлета и грех Гертруды.
Все океаны в каплях дождя, капли росы
Содержит прекрасные небеса избранных и синие;
Ангелы, мать Calibans, и надежды
имеют свое видение, большое мозаику оттенки
с мыслями князей, поэтов, мизантропы,
раскрывают их минутные цвета ближе рассматривать.
Atomies, личинки насекомых, черви или позолоченные мух,
ничего слишком мал или фола не для ваших глаз.
Вы сделали культуру мечты потеряли или выиграли ,
как Роберт Браунинг, Эмили Дикинсон.
Вы смотрели на небо , когда молния блестело,
потом увидел хлыст фею в крикет кости.
Для богов и людей бактериолога
духовных микробов скрытых , которые могут существовать
в моменты красной радости-спокойный сатирика
миров оставленных для волос женщин,
Короли убиенных, государство рассыпались, герои ложным или справедливыми,
безумие плоти, любовь на фукусе,
А белая горничная вышла замуж за солдата черный.
Incests, прелюбодеяние и тайные грехи,
падение монархов и манекены.
Все люди на последнем гремучее пустой стручок,
все люди уничтожены , как мухи для спорта Бога.
Вся жизнь в бешеном tale- прошлого идиота
Вы были силы , чтобы сказать это и не перепел!
Для вас , что были единства, правила
Плавта, Корнель или греческих школ?
Пламя через трубу будет петь, возможно, когда взорвана
против серебра ремесленника, но тон
миров в пожарище, это будет
священным огнь с распростертыми крылами и свободно, в
котором Афина падает, Сидон стоит,
и где морозильного клоун может согреть руки.
Если бы вы могли опустошить мозг тигра
и телеграфировать его спинной мозг снова
к мозгу Сапфо, то, без сомнения , пожирать
Тигра нервы и сухожилия в час.
Такие мышцы и такие кости не могли выдержать
алчный голод пожара настолько чистого.
А ты, Уилл Шекспир, дух чувствительны,
вы жили за пятьдесят, то есть долго жить
и кормить пламя , как ваша, и пусть пламя
само по себе и круг Римейк на плоти и рамы.
Я говорю с Иисусом, глаз мудрости, слепые ,
чтобы искать поэт, и думать , чтобы найти
стройную трость , которая непоколебимый ветер.
Приходите циклопа счетчика, миллионеры,
юристов и государственных деятелей в делах мира,
и тонкие прочь , как плоть , которая съедает кислоты
Под страстью даже Джона Китса.
Но если вы почувствовали и увидели любовь, агония,
Как Шекспир знал их , вы бы быстро умереть.
Существует никакой трагедии , как дар песни,
он держит вас смертны , но требует вас сильным;
Это дает вам Божии глаза размыты с человеческими слезами,
и коронки тысячи жизней в пятьдесят лет.
Введите бездыханное молчание , где Бог обитает,
Смотри и записывать все небо и все ады!
Для игры
Любовь начала с ними обоими так нежно
Встречей, ни мысль , ни пристально.
Потом ее дыхание применит пожаро-
дыхание дыхания набора горящего желание.
Есть ли нечто в плоти , или это дух
сознавая свою родственную душу , когда рядом с ним?
Горе плоти или душа , которая полностью разбудило
В то время как другие души-глубины лежат unshakened!
Как она могла дать ему все священные blisses,
длинные объятия, в темноте поцелуями,
если она не была его, все остальное забывание,
любовники пошли и выражая сожаление других любит?
Это было как раз то место ее золото leadened-
Плоть там тоже жив, ему все приглушить.
Она могла бы заострять не его игру полностью, все
же его струны сердца трепетали за нее только.
Так эта любовь игра поспешила к занавесу.
Каждый из них говорил свои реплики в акцентах некоторых, В
то время как раз позади крыльев ее поглядывает
утепленных изменой успехи в суфлера.
Есть ли больше , чем мученичество это?
Вы застолбили свою душу , где бездна.
Вы дали все-ой извините бартер
Вы зажег огонь для вас мч.
Вы все еще любите дальше, или обратиться к ненавидя,
Дни уходят, ваше сердце остается в его ожидании,
Где вино? Она дала половину меры своего сердца,
все , что она, для полного сокровища всех ваших душ.
Что половина , чтобы, вы могли бы достичь?
Что сокровище ваше , если вы могли бы получить его?
Никогда еще не должен ты снова одарить его ...
Теперь у вас есть песня , если вы поэт.
Теперь вы когда - либо тупой , если песня опровергла вас,
вы должны быть более тупым , чем все рядом, В
то время как ваша душа потрясена его torrents-
Данте songless в Данте во Флоренции.
Возраст не должен делать сильным, ни глубже обучения.
Печаль становится яснее с различению вашего глаза.
Проходят годы, но о почве растет faster-
Рише для корней вашей катастрофы.
Заканчивается игра-за того, что есть жизнь , но умирает?
Что такое любовь , но огонь вечно плачет?
Что ваша душа , но чистый углерод топлива любви?
Любовь и жизнь делает пепел драгоценности!
ЧИКАГО
Я
На серой бумаге этого тумана и тумана
с пылью для стирания и с дымом
для рисования мелков, будь то угль каракули:
Порода Гоги в царстве Магога,
Небоскребы, шлемы, стоять на стражу На
фоне заслоняя испарения угля и кокс,
поднятые по волшебству из песка и болота.
Это небо линия, Сьерры озера,
Порезы с притупляются зубами,
Which твиста и перерывом,
The невесомых и дрейфующих парами.
И беспокойно под
этим человеком создал горную цепь,
подобно поток реки прерии
Бесконечно днем и ночью, навсегда
Вдоль бульваров пешеходов потока
В случайном порядке , как танцоры к низким припев:
Вечно днем и ночью
Занимаясь в старой приманке от восторга,
и призраки удовольствия или боли.
Их ритмичные ноги звучат как падение дождя,
или в тишине волн, когда рев
продувается ветром от берега.
II
От башни , как горный мысу
Помойка железной дороги лжи , чтобы посмотреть
обрастание мрамор славы города:
А в состоянии похмелья водовода мусора и автомобили ,
где двигатели рвутся и свисток, размазать синий
с грязью , как след слизней.
Это траншея стала, запрещающими
свободный доступ к общему берегу и объятий
в катушке Лазарь оружия Бульварного.
Крупный рогатый скот и свиньи доставлены сюда для убоя
развратить прелесть фронта воды.
Они низко и хрюкать,
Switched назад и вперед в запутанном дворе.
Но с этой башней аметистового вод,
вода из нефрита или сланца,
виден с его назойливыми
Жестами на фоне неба по - прежнему отступления
В Мичигане, тихие лесов и холмы
Beyond кипящей страсти этих улиц,
и все их бесконечных бед ....
III
Но через переключатель двор стоит Институт
охраняемых львов на проспекте,
Колоссальные львы , стоящие за нападение;
Между ноги которого светящимся и решительными
Дети города , проходящим через
К палитрам, компасы, демонический
дух города должен покорить.
Львы в петле и шакалов тоже.
У них нет тренеров бургомистра,
кто использует их для охоты с, но со временем
городом узрит свой план благородного
Достигается за счетом руками , которые рифмуются,
рабочие , которые архитектор и строить,
И из его думало вещество повторно организовать,
пока все его пророчество должно быть выполнено.
Через числа, наука и искусство
Город должен знать изменения,
и выиграть владычество над водой и светом,
освоение циклоп о витрине;
Черти преодолены,
Который черенок убогих пути ночью
бедность и трущоб,
Где породившая мошенница, взломщик и задница.
Эти молодые люди , которые проходят львы должны утолить
жажду и голод города,
и сохранить его от потерь и заработной платы
Из демагога, участковом Монгер.
IV
Это город великих дожей спрятанных
в защищенных офисах и загородных местах.
Крепостные норовят против вещей , запрещенных
К дожам, на грани которого
город в большом не смотрит;
Дожи , которые могли бы достичь , если бы они
в течение месяца красоты города и хорошее.
Тем не менее , этот город через сто лет поднялась
Из прибежищем лисиц, волков и грачей,
и разрывает на куски прямо сейчас прутья тюрьмы
мертвых дней и умирает. Он имеет распространение
для многих Руды своих границ, как развалился
и упавший Hephaestos, и арендуемый
его окрестности растет и неукрепленные
с народами из всех стран.
От Милуоки - авеню людных мельниц
Из Южного Чикаго, от Шеридан Драйва
через лес , где воду улыбку
Чтобы Harlem мили и мили.
Она протягивает свои руки,
мощные и живые
снов коснуться завтра, что он хочет ,
чтобы заря и который должен заря ....
И как огни, мерцающих сквозь смрад
И гнилой туман скотобоен,
Великие души здесь, отдельно и отозваны ,
Companionless, которого тьма не может утолить.
Видя , что они являются куколки , которые должны кормить
После своих собственных мыслей и жизни , чтобы быть,
его полет среди звезд.
Красота здесь, как половина защищённая,
бутоны и ввергнет его мультипликативное семя,
Пока одна массы цвета не удастся
The сланцеватом место этих засушливых часов.
В
Чикаго! этого внутреннего моря
В земле Линкольна, в состоянии
души , которые держали судьбу нации,
город и старый и молодой, я посвящаю
Ваши будущие годы к истине и свободе.
Будьте это рекорд хрупкий и неполного
Из того , кто видел тебя, смешивался с массами
Вдоль эти волшебные горные перевалы
с неспокойно еще с обнадеживающими ногами.
Могли ли они вернуться , чтобы увидеть вас , кто спали
эти пятьдесят лет, заложивших свои первые основы!
И ах! могу мы видим вас , кто сохранил
свои обещания для вас, когда новые поколений
будут ходить этот бульвар сделал ярмарку
в точеном мраморе, глядя на озере
Из четкой воды под голубее воздухом.
Мы, должны спать тогда , ни бодрствовать,
оставившего труд вам и забота
Ask большого исполнения, для себя молитвы!
Брачный пир
Said начальник брачного пира жениха,
откуда эта кровь виноградной лозы?
Мужчины служат в первую лучшем случае , сказал он,
и на последнем, плохое вино.
Говорит начальник брачного пира жениха,
Когда гости выпили досыта
Пьет все , что вино вы служите, также
не знает , хорошее от плохо.
Как вы держали хорошо до сих пор
Когда наши сердца , ни ухода , ни видеть?
Говорит начальник брачный пир жениху,
откуда может быть это хорошее вино?
Говорит начальник брачный пир, это вино
является лучшим из всех на сегодняшний день.
Упомянутый жених, там стоят шесть банок без
И вино наполняет каждую банку.
Говорит начальник брачного пира, нам не хватало
вина для свадебного пира.
Как приходит теперь одна баночка вина
до шести банок увеличивается?
Кто делает нашу чашу к переполнению?
А кто имеет свадебную благословенной?
Упомянутый жених начальника пира, чужой
ли здесь в качестве свадебного гостя.
Упомянутый жених начальника свадебного пира,
Моисей по силе божественного
поражала воду в Мериве из скалы,
но этот человек делает нас вином.
Упомянутый жених начальника свадебного пира,
Елисей степенными божественному
Сделано масло для вдовы , чтобы продать за хлеб,
но этот человек, свадьба вина.
Он изменил использование банок, сказал он,
Из наружу обрядового и знака:
Там , где вода стояла для мытья ног,
для сердца Восхищения есть вино.
Итак ?ТИС он сказал начальник пира,
Кто свадебный пир имеет благословенным?
Упомянутый жених начальника пира, незнакомец
ли веселый свадебный гость.
Он смеется и шутки с гостями свадьбы,
он пьет с счастливой невестой.
Говорит начальник свадебного пира жениху,
Go привести его в мою сторону.
Иисус из Назарета пришел,
и его тело было справедливо и тонким.
Иисус из Назарета пришел,
и его мать пришла с ним.
Иисус из Назарета выступает с танцорами
и его мать от него стоит.
Невеста приседает вниз к Иисусу из Назарета ,
и целует его радужные руки.
Жениха приседает к Иисусу из Назарета
и Иисус благословляет двойка.
Я иду путь, сказал Иисус из Назарета,
тьмы, печали и боли.
После того , как свадебный пир является труд,
страдания, болезни, смерть,
и поэтому я вам вино на свадьбе,
сказал Иисус из Назарета.
Мое сердце с вами, сказал Иисус из Назарета,
Как виноград один с виноградной лозой.
Ваше счастье мое, сказал Иисус из Назарета,
и поэтому я делаю вам вино.
Молодежь и любовь , которую я благословляю, Иисус сказали,
Сонг и чаша , что аплодисменты.
Розовые руки Иисуса из Назарета
мокрые от слез молодой невесты.
Любите друг друга, сказал Иисус из Назарета,
Ere приходит зло лет.
Розовые руки Иисуса из Назарета
мокрые от слез жениха.
Иисус из Назарета идет со своей матерью,
Танцоры снова танцы.
Там женщина , которая делает паузу без слушать,
?Tis Марии Магдалины.
Forth на улице Scribe от свадьбы
идет с саддукей.
Упомянутый Писец, это показывает , как рыхлый парень
может выйти из Галилеи!
A WOMAN OF FORTY
Eyes that have long looked on the world,
Taken and stored the soul of outward things,
Dread to look on themselves,
In the mirror to gaze upon their mirrorings!
There to behold what time has done, what thought
Has changed their look and light.
I have lost my face through sorrow and dreams
And dare not find it, lest it smite
This self to-day, since I may not restore
My old self who in gladness without terror
Beheld and knew myself
Each morning in the mirror!
In the long quest of love I may have found
A spirit after whom my passion lusted.
But I had trust not giving love,
I have given love to hearts I have not trusted.
One thing has come that I would never see,
Hidden or trembling in my eyes:
Love in the mirror shown fatigued and mild,
Hopeless and wise.
WILD BIRDS
The wild birds among the reeds
Cry, exult and stretch their wings.
Out of the sky they drift
And sink to the water's rushes.
But the wild birds beat their wings and cry
To the newcomer out of the sky!
Is he a stranger, this wild bird out of the sky?
Or do they cry to him because of remembered places
And remembered days
Spent together
In the north-land, or the south-land?
Is this the ecstasy of renewal,
Or the ecstasy of beginning?
For the wild bird touches his bill
Against a mate;
He brushes her wing with his wing;
He quivers with delight
For the cool sky of blue,
And the touch of her wing!
The wild birds fly up from the reeds of the water,
Some for the south,
Some for the north.
They are gone—
Lost in the sky!
In what water do these mates of a morning
Exult on the morrow?
What wild birds will cry to them as they sink
Out of an unknown sky?
To whose cry will she quiver
Through her burnished wings to-morrow,
In the north-land,
In the south-land,
Far away?
A LADY
She sleeps beneath a canopy of carnation silk,
Embroidered with Venetian lace,
Between linens that crush in the hand
Soft as down.
Waking, she looks through a window
Curtained with carnation silk,
Embroidered with Venetian lace,
The walls are hung with velvet
Embossed with a fleur de lis,
And around her is the silence of richness,
Where foot-falls are like exhalations
From carpets of moss.
Little clocks tinkle.
Medallions priceless as jewels
Lie by jars suspiring like coals of fire.
And a maid prepares the bath,
Tincturing delicious water with exquisite essences.
And she is served with coffee
In cups as thin as petals,
Sitting amid pillows that breathe
The souls of freesia!
All things are hers:
Fishes from all seas,
Fruits from all climes.
The city lies at her command,
And is summoned by buttons
Which are pressed for her.
Noiselessly feet move on many floors,
Serving her.
Wheels that turn under coaches
Of crystal and ebony,
And yachts dreaming in strange waters,
And wings—all are hers!
And she is free:
Her husband comes and goes
From his suite below hers.
She never sees him,
Nor knows his ways, nor his days.
But she is very weary
And all alone amid her servants,
And guests that come and go.
Her lips are red,
Her skin is soft and smooth—
But the page blurs before her eyes.
Her eyelids are languid,
And droop from weariness,
Though she will not rest
From the long pursuit of love!
Her hair is white;
The skin of her faultless neck
Edges in creases
As she turns her perfect head.
And the days dawn and die.
What day that dawns will bring her love?
And day by day she waits for the dawn
Of a new life, a great love!
But every morning brings its remembrance
Of the increasing years that are gone.
And every evening brings its fear
Of death which must come,
Until her nerves are shaken
Like a woman's hair in the wind—
What must be done?
Some one tells her that God is love.
And when the fears come
She says to self over and over,
"God is love! God is love!
All is well."
And she wins a little oblivion,
Through saying "God is love,"
From the truth in her heart which cries:
"Love is life,
Love is a lover,
And love is God!"
She is a flower
Which the spring has nourished,
And the summer exhausted.
Fall is at hand.
Weird zephyrs stir her leaves and blossoms;
And she says to herself, "It is not fall,
For God is love!"
My poor flower!
May this therapy ease you into sleep,
And the folding of jewelless hands!
You are beginning to be sick
Of the incurable disease of age,
And the weariness of futile flesh!
THE NEGRO WARD
Scarce had I written: it were best
To crush this love, to give you up,
Drink at one draught the bitter cup,
And kill this new life in my breast,
Than Parker's breathing seemed to give
Ominous sound the end was near.
I did so want this man to live—
This negro soldier, dear.
'Twas three in the morning, all was still
But Parker's rattle in the throat,
Outside I heard the whippoorwill.
The new moon like an Indian boat
Hung just above the darkened grove,
Where you and I had pledged our love,
When you were here. Such precious hours,
Such fleeting moments then were ours ...
Alone here in the silent ward,
With Parker dying, I was scared.
His breath came short, his lips were blue.
I asked him: "Is there something more,
Parker, that I can do for you?"
"Please hold my hand," he said. Before
I took it, it was growing cold—
Death, how quick it comes!
Then next I seemed to hear the drums—
For I had fainted for his eyes
That stared with such a wide surprise,
As the lids fell apart they stared,
As if they saw what to behold
Had startled his poor soul which fared
Where it would not. I heard the drums,
The bugle next, lay there so faint
With Parker's eyes still in my view,
Like bubble motes which flit and paint
Themselves upon the heaven's blue.
An orderly had mailed meanwhile
That letter, to you, there I lay
Too weak to write again, unsay
What I had written.
Down the aisle,
Between our beds a step I heard,
A voice: "Our order's here, we leave
In half an hour for France." I stirred
Like a dead thing, could scarce conceive
What tragedy was come. No chance
To write you or to telegraph.
In twelve hours more, as in a trance
I looked from Ellis Island, where
My chums could gayly talk and laugh.
In two hours more we sailed for France.
All this was hard, but still to bear
The knowledge of you, your despair,
Or change, or bitterness, if you thought
That letter came from me, was wrought
Out of a heart that could not stake
Its own blood for your sake.
I will come back to you at length
If I but live and have the strength.
How will you like me with hair white,
And wasted cheeks, deep lined and pale?
It all began that dreadful night
Of Parker's death, the strain and fright,
The letter it seemed best to write—
From then to now I have been frail.
Our ship just missed a submarine,
And here the hardships, gas-gangrene,
The horrors and the deaths have stripped
My life of everything. Is it to prove
For duty, you, though bloody-lipped,
And fallen my unconquerable love
For country and for you through all,
Whatever fate befall?
What is my soul's great anguish for?
For what this tragedy of war?
For what the fate that says to us:
Part hands and be magnanimous?
For what the judgment which decrees
The mother love in me to cease?
For separation, hopeless miles
Of land and water us between?
For what the devil force that smiles
At man's immedicable pain?
I have not lost my faith in God.
Life has grown dark, I only say:
Dear God, my feet have lost the way.
Religion, wisdom do not give
A place to stand, a space to live.
I have not lost my faith in love,
That somehow it must rise above
The clouds of earth, I still can rest
In dreams sometimes upon your breast.
But, oh, it seems sometimes a play
Where gods are picking a bouquet:
The blossom of war, my soul or yours
More fragrant grown as it endures....
WILLIAM SHAKSPEARE
Homer saw nations, armies, multitudes—
You saw them in the intimate interludes
Of Brutus' soul at midnight in a tent
When the infection festers the event.
Ulysses' course is changed by the sea's trough.
You saw an epoch when a hat blows off.
Orestes fled the Furies, won his peace
Through Apollo in old Greece.
But who unbars the mouse traps of your world,
Or kills the ambushed serpent where it's curled?
Your Fates return, and Fortinbras draws in
On Hamlet's impotence and Gertrude's sin.
All oceans in a raindrop, drops of dew
Containing perfect heavens starred and blue;
Angels who mother Calibans, and hopes
Are of your vision—great mosaics hued
With thoughts of princes, poets, misanthropes,
Reveal their minute colors closer viewed.
Atomies, maggots, worms or gilded flies,
Nothing too small or foul is for your eyes.
You made a culture of dreams lost or won
Like Robert Browning, Emily Dickinson.
You looked in heaven when the lightning shone,
Then saw a fairy's whip of cricket bone.
For gods and men bacteriologist
Of spiritual microbes hidden which subsist
In moments of red joy—calm satirist
Of worlds forsaken for a woman's hair,
Kings slain, states crumbled, heroes false or fair,
The madness of the flesh, love on the wrack,
A white maid married to a soldier black.
Incests, adulteries and secret sins,
The fall of monarchs and of manikins.
All men at last a rattling empty pod,
All men destroyed like flies for sport of God.
All Life at last an idiot's furious tale—
You had the strength to say this and not quail!
For you what were the unities, the rules
Of Plautus, Corneille or the Grecian schools?
Flame through a pipe will sing, perhaps, when blown
Against the craftsman's silver, but the tone
Of worlds in conflagration, that's to be
The sacred fire with wings outspread and free,
Wherein an Athens falls, a Sidon stands,
And where a freezing clown may warm his hands.
If you could empty out a tiger's brain
And wire up its spinal cord again
To Sappho's brain, it would no doubt devour
The tiger's nerves and sinews in an hour.
Such muscles and such bones could not endure
The avid hunger of a fire so pure.
And you, Will Shakspeare, spirit sensitive,
You lived past fifty, that is long to live
And feed a flame like yours, and let the flame
Remake itself and lap at flesh and frame.
I say with Jesus, wisdom's eyes are blind
To seek a poet out and think to find
A slender reed that's shaken by the wind.
Come cyclops of the counter, millionaires,
Lawyers and statesmen in the world's affairs,
And thin away like flesh which acid eats
Under the passion even of John Keats.
But if you felt and saw love, agony,
As Shakspeare knew them you would quickly die.
There is no tragedy like the gift of song,
It keeps you mortal but demands you strong;
It gives you God's eyes blurred with human tears,
And crowns a thousand lives in fifty years.
Enter the breathless silence where God dwells,
See and record all heavens and all hells!
FOR A PLAY
Love began with both of them so gently
Meeting, neither thought nor looked intently.
Afterward her breath invoked the fire—
Breath to breath set burning their desire.
Is there aught in flesh or is it spirit
Conscious of its kindred soul when near it?
Woe to flesh or soul that's wholly wakened
While the other's soul-depths lie unshakened!
How could she give him all sacred blisses,
Long embraces, in the darkness kisses,
If she was not his, all else forgetting,
Lovers gone and other loves' regretting?
That was just the place her gold was leadened—
Flesh there too alive, to him all deadened.
She could harp not to his playing wholly,
Yet his heart strings trembled for her solely.
So this love play hastened to the curtain.
Each one spoke his lines in accents certain,
While at times behind the wings her glances
Warmed the prompter's treasonous advances.
Is there greater martyrdom than this is?
You have staked your soul where the abyss is.
You have given all—oh sorry barter
You have lit the fire for you the martyr.
You will still love on, or turn to hating,
Days depart, your heart stays in its waiting,
Where's the blame? She gave her heart's half measure,
All she had, for all your soul's full treasure.
What's the half to keep, could you achieve it?
What your treasure if you could retrieve it?
Never more shall you again bestow it ...
Now you have a song if you're a poet.
Now you're ever dumb if song's denied you,
You shall be more dumb than all beside you,
While your soul is shaken by its torrents—
Dante songless in a Dante Florence.
Age shall not make strong, nor deeper learning.
Grief grows clearer with your eye's discerning.
Pass the years, but oh the soil grows faster—
Richer for the roots of your disaster.
Ends the play—for what is life but dying?
What is love but fire forever crying?
What your soul but love's pure carbon fuel?
Love and life make ashes of the jewel!
CHICAGO
I
On the gray paper of this mist and fog
With dust for the erasure and with smoke
For drawing crayons, be this charcoal scrawl:
The breed of Gog in the kingdom of Magog,
Skyscrapers, helmeted, stand sentinel
Amid the obscuring fumes of coal and coke,
Raised by enchantment out of the sand and bog.
This sky-line, the Sierras of the lake,
Cuts with dulled teeth,
Which twist and break,
The imponderable and drifting steam.
And restlessly beneath
This man-created mountain chain,
Like the flow of a prairie river
Endlessly by day and night, forever
Along the boulevards pedestrians stream
In a shuffle like dancers to a low refrain:
Forever by day and night
Pursuing as of old the lure of delight,
And the ghosts of pleasure or pain.
Their rhythmic feet sound like the falling of rain,
Or the hush of the waves, when the roar
Is blown by a wind off shore.
II
From a tower like a mountain promontory
The cesspool of a railroad lies to view
Fouling the marble of the city's glory:
A crapulous sluice of garbage and of cars
Where engines rush and whistle, smudge the blue
With filth like the trail of slugs.
It is a trench of steel which bars
Free access to the common shore, and hugs
In a coil of lazar arms the boulevard.
Cattle and hogs delivered here for slaughter
Corrupt the loveliness of the water front.
They low and grunt,
Switched back and forth within the tangled yard.
But from this tower the amethystine water,
The water of jade or slate,
Is visible with its importunate
Gestures against the sky to still retreats
In Michigan, of quiet woods and hills
Beyond the simmering passion of these streets,
And all their endless ills....
III
But over the switch yard stands the Institute
Guarded by lions on the avenue,
Colossal lions standing for attack;
Between whose feet luminous and resolute
Children of the city passing through
To palettes, compasses, the demoniac
Spirit of the city shall subdue.
Lions are in the loop and jackals too.
They have no trainers but the alderman,
Who uses them to hunt with, but in time
The city shall behold its nobler plan
Achieved by hands that rhyme,
Workers who architect and build,
And out of thought its substance re-arrange,
Till all its prophecies shall be fulfilled.
Through numbers, science and art
The city shall know change,
And win dominion over water and light,
The cyclop's mastery of the mart;
The devils overcome,
Which stalk the squalid ways by night
Of poverty and the slum,
Where the crook is spawned, the burglar and the bum.
These youths who pass the lions shall assuage
The city's thirst and hunger,
And save it from the wastage and the wage
Of the demagogue, the precinct monger.
IV
This is the city of great doges hidden
In guarded offices and country places.
The city strives against the things forbidden
By the doges, on whose faces
The city at large never looks;
Doges who could accomplish if they would
In a month the city's beauty and good.
Yet this city in a hundred years has risen
Out of a haunt of foxes, wolves and rooks,
And breaks asunder now the bars of the prison
Of dead days and dying. It has spread
For many a rood its boundaries, like the sprawled
And fallen Hephaestos, and has tenanted
Its neighborhoods increasing and unwalled
With peoples from all lands.
From Milwaukee Avenue to the populous mills
Of South Chicago, from the Sheridan Drive
Through forests where the water smiles
To Harlem for miles and miles.
It reaches out its hands,
Powerful and alive
With dreams to touch tomorrow, which it wills
To dawn and which shall dawn....
And like lights that twinkle through the stench
And putrid mist of abattoirs,
Great souls are here, separate and withdrawn,
Companionless, whom darkness cannot quench.
Seeing they are the chrysalis which must feed
Upon its own thoughts and the life to be,
Its flight among the stars.
Beauty is here, like half protected flowers,
Blooms and will cast its multiplying seed,
Until one mass of color shall succeed
The shaley places of these arid hours.
V
Chicago! by this inland sea
In the land of Lincoln, in the state
Of souls who held the nation's fate,
City both old and young, I consecrate
Your future years to truth and liberty.
Be this the record frail and incomplete
Of one who saw you, mingled with the masses
Along these magical mountain passes
With restless yet with hopeful feet.
Could they return to see you who have slept
These fifty years, who laid your first foundations!
And oh! could we behold you who have kept
Their promises for you, when new generations
Shall walk this boulevard made fair
In chiseled marble, looking at the lake
Of clearer water under a bluer air.
We who shall sleep then nor awake,
Have left the labor to you and the care
Ask great fulfillment, for ourselves a prayer!
THE WEDDING FEAST
Said the chief of the marriage feast to the groom,
Whence is this blood of the vine?
Men serve at first the best, he said,
And at the last, poor wine.
Said the chief of the marriage feast to the groom,
When the guests have drunk their fill
They drink whatever wine you serve,
Nor know the good from the ill.
How have you kept the good till now
When our hearts nor care nor see?
Said the chief of the marriage feast to the groom,
Whence may this good wine be?
Said the chief of the marriage feast, this wine
Is the best of all by far.
Said the groom, there stand six jars without
And the wine fills up each jar.
Said the chief of the marriage feast, we lacked
Wine for the wedding feast.
How comes it now one jar of wine
To six jars is increased?
Who makes our cup to overflow?
And who has the wedding blest?
Said the groom to the chief of the feast, a stranger
Is here as a wedding guest.
Said the groom to the chief of the wedding feast,
Moses by power divine
Smote water at Meribah from the rock,
But this man makes us wine.
Said the groom to the chief of the wedding feast,
Elisha by power divine
Made oil for the widow to sell for bread,
But this man, wedding wine.
He changed the use of the jars, he said,
From an outward rite and sign:
Where water stood for the washing of feet,
For heart's delight there's wine.
So then 'tis he, said the chief of the feast,
Who the wedding feast has blest?
Said the groom to the chief of the feast, the stranger
Is the merriest wedding guest.
He laughs and jests with the wedding guests,
He drinks with the happy bride.
Said the chief of the wedding feast to the groom,
Go bring him to my side.
Jesus of Nazareth came up,
And his body was fair and slim.
Jesus of Nazareth came up,
And his mother came with him.
Jesus of Nazareth stands with the dancers
And his mother by him stands.
The bride kneels down to Jesus of Nazareth
And kisses his rosy hands.
The bridegroom kneels to Jesus of Nazareth
And Jesus blesses the twain.
I go a way, said Jesus of Nazareth,
Of darkness, sorrow and pain.
After the wedding feast is labor,
Suffering, sickness, death,
And so I make you wine for the wedding,
Said Jesus of Nazareth.
My heart is with you, said Jesus of Nazareth,
As the grape is one with the vine.
Your bliss is mine, said Jesus of Nazareth,
And so I make you wine.
Youth and love I bless, said Jesus,
Song and the cup that cheers.
The rosy hands of Jesus of Nazareth
Are wet with the young bride's tears.
Love one another, said Jesus of Nazareth,
Ere cometh the evil of years.
The rosy hands of Jesus of Nazareth
Are wet with the bridegroom's tears.
Jesus of Nazareth goes with his mother,
The dancers are dancing again.
There's a woman who pauses without to listen,
'Tis Mary Magdalen.
Forth to the street a Scribe from the wedding
Goes with a Sadducee.
Said the Scribe, this shows how loose a fellow
Can come out of Galilee!
Метки: