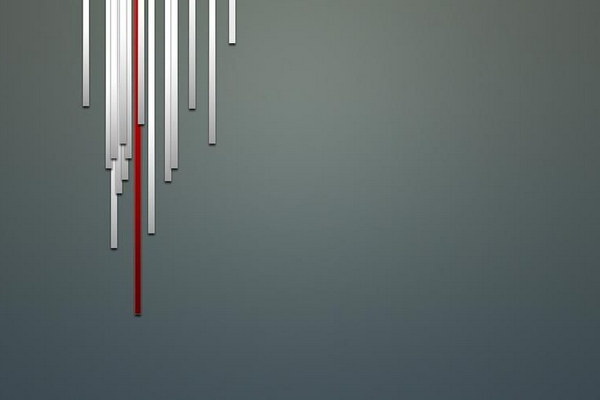Robert Service. Ностальгирующий
РОБЕРТ СЕРВИС
(1874 – 1958)
NOSTOMANIAC
НОСТАЛЬГИРУЮЩИЙ
Уйду на край света — осталось недолго,
И домом моим станет логово волка,
И кучка костей мой путь увенчает
На снежных просторах... Кто знает, кто знает!
Весь вечер, предавшись мечтаньям, сижу я в своём кабинете.
Вокруг меня книжные полки, мой Киплинг раскрыт предо мной.
Но я не настроен на чтенье, за час я забыл всё на свете.
Мой мозг, как и плоть, изнывают, и стиснуто сердце тоской.
Уставший от гложущей скуки и мало чего понимая,
Я думал, что путь мой закончен и только покой впереди,
Но всё-таки тяга сильнее и голос сурового края!
И к Северу я припадаю, как дитя к материнской груди.
В моём кабинете спокойно, лишь ветер в окошко скребётся.
Здесь тихо, тепло и комфортно, и лыбится Юг во весь рот.
О чём человек лишь мечтает, за что он страдает и бьётся...
Мои фотографии, книги, пластинки — последний оплот.
Я думал, рассказ мой закончен, я думал, покой обеспечен.
Я клялся своей сединою, в глазах нет былого огня.
Но что происходит со мною? Как встарь, в этот сумрачный вечер
Из мрака я явственно слышу, как Арктика кличет меня.
И, с бурной рекою сражаясь, как птица, в своей берестянке
Лечу я, веслом управляя, где дьявол проделал маршрут,
Под грохот стремнин и порогов!.. И я в мягком кресле-качалке
Всем телом своим напрягаюсь, — о, это ли не абсурд?
И вот в этой пене и брызгах, несусь я к обветренным скалам
В воздушной серебряной дымке, где камни на каждом валу
Шипят точно злобные твари. — О, это для избранных слалом,
Где жизнь в каждом вёсельном взмахе... Вот он мой ?Ким? на полу...
О, я трепещу, и я вижу мой лагерь ночной у зарубка!
Костёр ярко-красный пылает, мой невод заброшен в поток.
Кругом тишина, запах хвои; ?подружка? со мной моя трубка.
И тело уставшее млеет, и спится без задних мне ног!
И мясо на завтрак в прожилках! И чайник уже закипает,
И тут же печется лепешка... О, радостный миг, что нет слов!
Еще не был волк столь голодным, желудок к спине прилипает...
Но слышится голос кухарки, мол, ужин еще не готов.
А нужен ли мне этот ужин? Могу ли я есть без тревоги?
Могу ли я спать, так как раньше?.. Я жизнь эту видел в гробу!
Так дайте мне в путь Неизвестность, Бесплодную Землю под ноги,
И Путь Млечный вместо навеса, — величье, простор и борьбу.
Чтоб я сражался и канул в озере чистом Медвежьем,
В Царстве Пустого Желудка, в дюнах, где догрибов дом.
Вот где реальные вещи... В кресле моём безмятежном
Снова стремлюсь я на Север!.. А ?ужин с прислугой? — потом!
Так ли я стар? — Интересно, смогу ли еще раз пройти я
По тем каменистым просторам, омытых закатным вином?
Где пики пронзают аврору, где рек неподвластных стихия,
Где сосен несметные орды и сотни озер с окоём?
И разве по мне не скучают те долы, равнины и пики,
Что шепчут друг другу: ?Как долго он не был у нас, черт возьми...
Куда подевался любимый? Увидит ли он наши блики,
Над тундрой звездой воссияя, как только здесь ляжет костьми??
Да, я отправлюсь на Север, всё той же медвежьей тропою,
Где море заковано льдами, где пики стоят в пелене.
Я — стар? Ну и что! Кто посмеет сегодня сравниться со мною?
Я путь этот вновь одолею. О, эта дорога по мне!
Я снова отправлюсь на Север, бессильный, хромой и ослепший.
Съем суп с эскимосами-хаски и лося с индейцами кри,
А после скажу йеллоунайфам, с гордостью, заматеревший,
Что снова вернулся на Север, при свете бескрайней зари.
Так дайте весло мне и лямку, так дайте ружьё с патронташем,
Так дайте муку вместе с солью, и чай и, конечно, табак,
Отправьте к Полярному Кругу, под солнцем, какого нет краше,
Чтоб был, как дикарь, я свободным. — Оттуда ногой ни на шаг.
Я знаю, что путь мой проходит, где озеро плещет Медвежье.
Ведет он в бесплодные земли, туда, за Гудзонов залив.
Меня, может, смерть ожидает — на том на крутом побережье...
Чу! Слышу зовёт меня Север! Я должен идти на призыв...
Идти в Глухомань, что ждет меня долго,
Где лось с овцебыком и логово волка.
Идти там, где снег свои тайны скрывает,
Навстречу судьбе... Кто знает, кто знает!
--
?Ким? — роман Редьярда Киплинга.
Догрибы, кри, йеллоунайфы — индейские народы в Канаде.
--
The Nostomaniac
On the ragged edge of the world I’ll roam,
And the home of the wolf shall be my home,
And a bunch of bones on the boundless snows
The end of my trail . . . who knows, who knows!
I’m dreaming to-night in the fire-glow, alone in my study tower,
My books battalioned around me, my Kipling flat on my knee;
But I’m not in the mood for reading, I haven’t moved for an hour;
Body and brain I’m weary, weary the heart of me;
Weary of crushing a longing it’s little I understand,
For I thought that my trail was ended, I thought I had earned my rest;
But oh, it’s stronger than life is, the call of the hearthless land!
And I turn to the North in my trouble, as a child to the mother-breast.
Here in my den it’s quiet; the sea-wind taps on the pane;
There’s comfort and ease and plenty, the smile of the South is sweet.
All that a man might long for, fight for and seek in vain,
Pictures and books and music, pleasure my last retreat.
Peace! I thought I had gained it, I swore that my tale was told;
By my hair that is grey I swore it, by my eyes that are slow to see;
Yet what does it all avail me? to-night, to-night as of old,
Out of the dark I hear it—the Northland calling to me.
And I’m daring a rampageous river that runs the devil knows where;
My hand is athrill on the paddle, the birch-bark bounds like a bird.
Hark to the rumble of rapids! Here in my morris chair
Eager and tense I’m straining—isn’t it most absurd?
Now in the churn and the lather, foam that hisses and stings,
Leap I, keyed for the struggle, fury and fume and roar;
Rocks are spitting like hell-cats—Oh, it’s a sport for kings,
Life on a twist of the paddle . . . there’s my “Kim” on the floor.
How I thrill and I vision! Then my camp of a night;
Red and gold of the fire-glow, net afloat in the stream;
Scent of the pines and silence, little “pal” pipe alight,
Body a-purr with pleasure, sleep untroubled of dream:
Banquet of paystreak bacon! moment of joy divine,
When the bannock is hot and gluey, and the teapot’s nearing the boil!
Never was wolf so hungry, stomach cleaving to spine. . . .
Ha! there’s my servant calling, says that dinner will spoil.
What do I want with dinner? Can I eat any more?
Can I sleep as I used to? . . . Oh, I abhor this life!
Give me the Great Uncertain, the Barren Land for a floor,
The Milky Way for a roof-beam, splendour and space and strife:
Something to fight and die for—the limpid Lake of the Bear,
The Empire of Empty Bellies, the dunes where the Dogribs dwell;
Big things, real things, live things . . . here on my morris chair
How I ache for the Northland! “Dinner and servants”—Hell!!
Am I too old, I wonder? Can I take one trip more?
Go to the granite-ribbed valleys, flooded with sunset wine,
Peaks that pierce the aurora, rivers I must explore,
Lakes of a thousand islands, millioning hordes of the Pine?
Do they not miss me, I wonder, valley and peak and plain?
Whispering each to the other: “Many a moon has passed . . .
Where has he gone, our lover? Will he come back again?
Star with his fires our tundra, leave us his bones at last?”
Yes, I’ll go back to the Northland, back to the way of the bear,
Back to the muskeg and mountain, back to the ice-leaguered sea.
Old am I! what does it matter? Nothing I would not dare;
Give me a trail to conquer—Oh, it is “meat” to me!
I will go back to the Northland, feeble and blind and lame;
Sup with the sunny-eyed Husky, eat moose-nose with the Cree;
Play with the Yellow-knife bastards, boasting my blood and my name:
I will go back to the Northland, for the Northland is calling to me.
Then give to me paddle and whiplash, and give to me tumpline and gun;
Give to me salt and tobacco, flour and a gunny of tea;
Take me up over the Circle, under the flamboyant sun;
Turn me foot-loose like a savage—that is the finish of me.
I know the trail I am seeking, it’s up by the Lake of the Bear;
It’s down by the Arctic Barrens, it’s over to Hudson’s Bay;
Maybe I’ll get there,—maybe: death is set by a hair. . . .
Hark! it’s the Northland calling! now must I go away. . . .
Go to the Wild that waits for me;
Go where the moose and the musk-ox be;
Go to the wolf and the secret snows;
Go to my fate . . . who knows, who knows!
(1874 – 1958)
NOSTOMANIAC
НОСТАЛЬГИРУЮЩИЙ
Уйду на край света — осталось недолго,
И домом моим станет логово волка,
И кучка костей мой путь увенчает
На снежных просторах... Кто знает, кто знает!
Весь вечер, предавшись мечтаньям, сижу я в своём кабинете.
Вокруг меня книжные полки, мой Киплинг раскрыт предо мной.
Но я не настроен на чтенье, за час я забыл всё на свете.
Мой мозг, как и плоть, изнывают, и стиснуто сердце тоской.
Уставший от гложущей скуки и мало чего понимая,
Я думал, что путь мой закончен и только покой впереди,
Но всё-таки тяга сильнее и голос сурового края!
И к Северу я припадаю, как дитя к материнской груди.
В моём кабинете спокойно, лишь ветер в окошко скребётся.
Здесь тихо, тепло и комфортно, и лыбится Юг во весь рот.
О чём человек лишь мечтает, за что он страдает и бьётся...
Мои фотографии, книги, пластинки — последний оплот.
Я думал, рассказ мой закончен, я думал, покой обеспечен.
Я клялся своей сединою, в глазах нет былого огня.
Но что происходит со мною? Как встарь, в этот сумрачный вечер
Из мрака я явственно слышу, как Арктика кличет меня.
И, с бурной рекою сражаясь, как птица, в своей берестянке
Лечу я, веслом управляя, где дьявол проделал маршрут,
Под грохот стремнин и порогов!.. И я в мягком кресле-качалке
Всем телом своим напрягаюсь, — о, это ли не абсурд?
И вот в этой пене и брызгах, несусь я к обветренным скалам
В воздушной серебряной дымке, где камни на каждом валу
Шипят точно злобные твари. — О, это для избранных слалом,
Где жизнь в каждом вёсельном взмахе... Вот он мой ?Ким? на полу...
О, я трепещу, и я вижу мой лагерь ночной у зарубка!
Костёр ярко-красный пылает, мой невод заброшен в поток.
Кругом тишина, запах хвои; ?подружка? со мной моя трубка.
И тело уставшее млеет, и спится без задних мне ног!
И мясо на завтрак в прожилках! И чайник уже закипает,
И тут же печется лепешка... О, радостный миг, что нет слов!
Еще не был волк столь голодным, желудок к спине прилипает...
Но слышится голос кухарки, мол, ужин еще не готов.
А нужен ли мне этот ужин? Могу ли я есть без тревоги?
Могу ли я спать, так как раньше?.. Я жизнь эту видел в гробу!
Так дайте мне в путь Неизвестность, Бесплодную Землю под ноги,
И Путь Млечный вместо навеса, — величье, простор и борьбу.
Чтоб я сражался и канул в озере чистом Медвежьем,
В Царстве Пустого Желудка, в дюнах, где догрибов дом.
Вот где реальные вещи... В кресле моём безмятежном
Снова стремлюсь я на Север!.. А ?ужин с прислугой? — потом!
Так ли я стар? — Интересно, смогу ли еще раз пройти я
По тем каменистым просторам, омытых закатным вином?
Где пики пронзают аврору, где рек неподвластных стихия,
Где сосен несметные орды и сотни озер с окоём?
И разве по мне не скучают те долы, равнины и пики,
Что шепчут друг другу: ?Как долго он не был у нас, черт возьми...
Куда подевался любимый? Увидит ли он наши блики,
Над тундрой звездой воссияя, как только здесь ляжет костьми??
Да, я отправлюсь на Север, всё той же медвежьей тропою,
Где море заковано льдами, где пики стоят в пелене.
Я — стар? Ну и что! Кто посмеет сегодня сравниться со мною?
Я путь этот вновь одолею. О, эта дорога по мне!
Я снова отправлюсь на Север, бессильный, хромой и ослепший.
Съем суп с эскимосами-хаски и лося с индейцами кри,
А после скажу йеллоунайфам, с гордостью, заматеревший,
Что снова вернулся на Север, при свете бескрайней зари.
Так дайте весло мне и лямку, так дайте ружьё с патронташем,
Так дайте муку вместе с солью, и чай и, конечно, табак,
Отправьте к Полярному Кругу, под солнцем, какого нет краше,
Чтоб был, как дикарь, я свободным. — Оттуда ногой ни на шаг.
Я знаю, что путь мой проходит, где озеро плещет Медвежье.
Ведет он в бесплодные земли, туда, за Гудзонов залив.
Меня, может, смерть ожидает — на том на крутом побережье...
Чу! Слышу зовёт меня Север! Я должен идти на призыв...
Идти в Глухомань, что ждет меня долго,
Где лось с овцебыком и логово волка.
Идти там, где снег свои тайны скрывает,
Навстречу судьбе... Кто знает, кто знает!
--
?Ким? — роман Редьярда Киплинга.
Догрибы, кри, йеллоунайфы — индейские народы в Канаде.
--
The Nostomaniac
On the ragged edge of the world I’ll roam,
And the home of the wolf shall be my home,
And a bunch of bones on the boundless snows
The end of my trail . . . who knows, who knows!
I’m dreaming to-night in the fire-glow, alone in my study tower,
My books battalioned around me, my Kipling flat on my knee;
But I’m not in the mood for reading, I haven’t moved for an hour;
Body and brain I’m weary, weary the heart of me;
Weary of crushing a longing it’s little I understand,
For I thought that my trail was ended, I thought I had earned my rest;
But oh, it’s stronger than life is, the call of the hearthless land!
And I turn to the North in my trouble, as a child to the mother-breast.
Here in my den it’s quiet; the sea-wind taps on the pane;
There’s comfort and ease and plenty, the smile of the South is sweet.
All that a man might long for, fight for and seek in vain,
Pictures and books and music, pleasure my last retreat.
Peace! I thought I had gained it, I swore that my tale was told;
By my hair that is grey I swore it, by my eyes that are slow to see;
Yet what does it all avail me? to-night, to-night as of old,
Out of the dark I hear it—the Northland calling to me.
And I’m daring a rampageous river that runs the devil knows where;
My hand is athrill on the paddle, the birch-bark bounds like a bird.
Hark to the rumble of rapids! Here in my morris chair
Eager and tense I’m straining—isn’t it most absurd?
Now in the churn and the lather, foam that hisses and stings,
Leap I, keyed for the struggle, fury and fume and roar;
Rocks are spitting like hell-cats—Oh, it’s a sport for kings,
Life on a twist of the paddle . . . there’s my “Kim” on the floor.
How I thrill and I vision! Then my camp of a night;
Red and gold of the fire-glow, net afloat in the stream;
Scent of the pines and silence, little “pal” pipe alight,
Body a-purr with pleasure, sleep untroubled of dream:
Banquet of paystreak bacon! moment of joy divine,
When the bannock is hot and gluey, and the teapot’s nearing the boil!
Never was wolf so hungry, stomach cleaving to spine. . . .
Ha! there’s my servant calling, says that dinner will spoil.
What do I want with dinner? Can I eat any more?
Can I sleep as I used to? . . . Oh, I abhor this life!
Give me the Great Uncertain, the Barren Land for a floor,
The Milky Way for a roof-beam, splendour and space and strife:
Something to fight and die for—the limpid Lake of the Bear,
The Empire of Empty Bellies, the dunes where the Dogribs dwell;
Big things, real things, live things . . . here on my morris chair
How I ache for the Northland! “Dinner and servants”—Hell!!
Am I too old, I wonder? Can I take one trip more?
Go to the granite-ribbed valleys, flooded with sunset wine,
Peaks that pierce the aurora, rivers I must explore,
Lakes of a thousand islands, millioning hordes of the Pine?
Do they not miss me, I wonder, valley and peak and plain?
Whispering each to the other: “Many a moon has passed . . .
Where has he gone, our lover? Will he come back again?
Star with his fires our tundra, leave us his bones at last?”
Yes, I’ll go back to the Northland, back to the way of the bear,
Back to the muskeg and mountain, back to the ice-leaguered sea.
Old am I! what does it matter? Nothing I would not dare;
Give me a trail to conquer—Oh, it is “meat” to me!
I will go back to the Northland, feeble and blind and lame;
Sup with the sunny-eyed Husky, eat moose-nose with the Cree;
Play with the Yellow-knife bastards, boasting my blood and my name:
I will go back to the Northland, for the Northland is calling to me.
Then give to me paddle and whiplash, and give to me tumpline and gun;
Give to me salt and tobacco, flour and a gunny of tea;
Take me up over the Circle, under the flamboyant sun;
Turn me foot-loose like a savage—that is the finish of me.
I know the trail I am seeking, it’s up by the Lake of the Bear;
It’s down by the Arctic Barrens, it’s over to Hudson’s Bay;
Maybe I’ll get there,—maybe: death is set by a hair. . . .
Hark! it’s the Northland calling! now must I go away. . . .
Go to the Wild that waits for me;
Go where the moose and the musk-ox be;
Go to the wolf and the secret snows;
Go to my fate . . . who knows, who knows!
Метки: