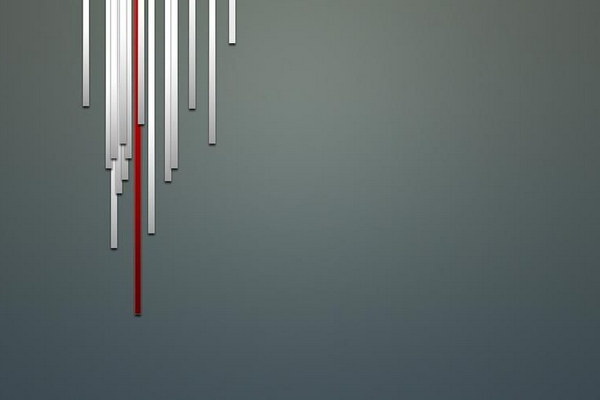Леконт де Лиль. Сунасепа
I.
C улыбкою скользит по небу дева утра [2] --
Распущена коса, возок из перламутра,
И все быстрей ее стремительный полет
Сквозь жемчуг облаков в наплывах позолот
Над сонною горой, омытой синевою,
И над лощиной, где под пальмовой листвою,
Из выстуженных гнезд взирая на восход,
Ей стайка алых птиц приветствие поет.
Всё в утренних лучах сверкает и смеется:
И долы, и холмы, и реки, и болотца;
Ущелье, где в ночи тигриный виден взор,
И лотос голубой на хрустале озер.
И на ветру тугой бамбук роняет звоны,
И шепотом глухим наполнен мох зеленый;
Жужжа, летит пчела; над дебрями лесов
Звучит могучий хор неясных голосов;
Аскеты-мудрецы, забыв о созерцаньи
И пробудясь от грез о судьбах мирозданья,
В лазури слыша тот божественный напев,
С циновок травяных встают, помолодев.
И катится заря, как волны океана,
И омывает мир потоками шафрана,
Как зелень свежих нив белят собой стада,
И человек встает для буднего труда,
Зане заря несет с утра в его жилище
Летучий рой часов, рачение о пище;
Покоя не сулит нам утренний багрец
На серебре небес; лишь праведный мудрец,
Не ждущий ничего, свободный от докуки,
К сиянию зари вздымает вольно руки.
Ему неведом страх и незнакома дрожь;
Он слышит вечный смех, он видит майи ложь
И знает: этот мир -- предметы, формы, лица --
От завязи времен ей в долгих грезах мнится.
II.
Там, где инжир цветет вокруг резных перил,
Ричика, мудрый жрец, молитву завершил.
Одернув рукава, материею белой
Он чресла повязал и опускает тело
На перекрестье ног; глаза полузакрыв,
Предался думам он, недвижен, молчалив.
Жена к нему спешит, неся в широкой чаше
И финик, и банан, и рис, и простоквашу;
Потом идет сама поесть особняком.
Три юноши пришли, чтоб сесть со стариком,
Все трое сыновей. Садится старший справа,
И слева младший сел. А третий, худощавый,
Постится между них, в мечтаниях, один --
Он статен и красив, но нелюбимый сын.
Браслеты на руках; и кудри смоляные
Струятся по спине могучей и по вые;
Но омрачила грусть высокое чело,
И мутною тоской глаза заволокло.
Он обращает взор, задумавшись глубоко,
Туда, где льет заря сияние с востока,
И на лесистый холм, где радостный сандал
От разноцветья птиц на солнце заблистал;
Где пылкая душа струит любови пламя,
Посланье деве шлет с газельими глазами;
Но долгий день пройдет и канет, словно дым,
И вновь не суждено друг друга видеть им.
Безмолвно он сидит с понурой головою,
А на ветру инжир шумит густой листвою,
И слышно, как вдали кайманы на реке
Ликующе шипят в прибрежном тростнике.
III.
Неспешно над землей в мерцающей лазури,
Как глыба хрусталя, встает лучистый Сурья;
Он красит облака, огромен и румян,
И зыблется в огне воздушный океан.
Стихает всякий шум; роняет крылья птица,
Шептавшийся бамбук умолк, не шевелится;
Разнеженный цветок закрыл, и вял и квел,
Свой венчик золотой от суетливых пчел;
И небо, и земля, сиянием одеты,
Безмолвны пред лицом пылающего света.
Но вот издалека, вдоль заспанной реки,
Как будто белый вихрь, несутся седоки;
Под грохот колесниц с огромными серпами
Взлетает в небо пыль, как боевое знамя,
И тяжко по земле ступает слон-гигант,
А на его спине, под сводами гирлянд,
Под пологом зонта, спасающим от зноя,
Стоит великий царь, и каменье цветное
На лбу его горит; подобно Индре, он
Взирает с высоты, лучами освещен.
И вот застыл кортеж, доставив господина
Туда, где дом стоит почтенного брамина.
"Ричика, -- говорит, сойдя с помоста, тот. --
Быстротекущих дней постигнувший полет,
Услышь мою печаль, о, праведный и мудрый --
Богами оскорблен я, словно подлый шудра:
Людскую жертву им почтительно послал,
Уже брамин святой хотел подать сигнал,
Но, жертву развязав, они обряд прервали,
Даянья не приняв. Я обошел в печали
Равнины, города и горные хребты,
Рожденного ища под знаком чистоты,
Чья кровь мила богам, дабы, ее приемля,
В злопамятстве они не погубили землю;
Не то на месте нив окажется стерня,
И сгинет род людской от божьего огня,
Когда владыка вод [3] и засухой, и жаждой
Накажет этот мир, где изнеможет каждый.
Но тщетно царство я прошел из края в край.
Ричика, я прошу -- мне первенца отдай,
И я тебе взамен не пожалею злата,
Сто тысяч дам коров в награду и уплату."
Тут говорит брамин: "Нет, никакой ценой
Не может быть, о царь, откуплен старший мой.
Как загнанная лань трепещет перед бездной,
И корчится в огне пожара лист древесный,
Так этот мир дрожит пред мудрым, что постиг
Изнанку бытия и вечности язык!
О раджа, потому мой первенец важнее
Всех прочих, что живут, крепчая и тучнея,
Но их бессмыслен век и участь их скудна."
И вслед за мудрецом промолвила жена:
"Я именем зари, сияющей богини,
Клянусь вам, что души не чаю в младшем сыне."
Тут Сунасепа встал: "Мне время умирать,
Отцу не дорог я, меня не любит мать.
Пусть буду я к столбу браминами прикован,
Но, раджа, я прошу, дабы мне был дарован
Последний в жизни день. И буду я готов,
Лишь Сурья в путь пошлет небесных жеребцов."
"Пусть будет так", -- сказал владыка, и кимвалы
Звенят, и колесниц несется звук удалый;
И ржание, и крик летят со всех сторон,
И только пыль столбом процессии вдогон;
Все далее она спешит, и постепенно
От глаз укрыл царя изгиб реки священной.
А юноша смотрел на мать и на отца,
И был спокоен взор безусого юнца:
"Прощай же, мой отец! Подобно листьям клена,
Что падают с ветвей и устилают склоны
Под летнею грозой, до стужи и зимы,
До срока я уйду в поля теней и тьмы.
Прощай навеки, мать! И вы, прощайте, браты,
Пусть будут ваши дни удачею богаты,
О Индра, их своей защитой удостой!"
Ричика же сказал: "Все только сон пустой."
IV.
Был зелен этот холм с кустами бальзамина,
И аромат цветов несла ему долина,
И вяхири к нему слетались поутру,
Чтоб в пальмовых ветвях пережидать жару,
А пальмы в вышине качались над кустами
И угашали зной дрожащими листами.
Там Сунасепа лег на свежую траву,
Взирая на закат сквозь ветви и листву,
И скорбно, на краю безвременной могилы,
Он молодость свою оплакивал и силу.
Оплакивал он вас, шуршащие леса,
Долину, где поют в тумане голоса,
Оплакивал волну реки игристо-пенной,
Куда не раз нырял он в радости блаженной,
Вершины дальних гор и злачные поля,
Где кружит ветерок, посевы шевеля,
И звезды, что плывут в сиреневом просторе
По грозным бурунам сияющего моря!
Но в день последний свой оплакивал тебя
Он более всего, терзаясь и скорбя,
О Санта! слез твоих божественные струи,
Что нежно осушал он лаской поцелуя;
Он плакал о тебе, о неге чистых уст,
Без коих целый мир бессмысленен и пуст!
Он страстно звал тебя расколотой душою,
И ты пришла на зов знакомою межою,
И взгляд из-под ресниц был счастьем осиян,
И гибок, как тростник, был твой девичий стан,
И облик твой струил поток тепла и света;
Ты обняла его -- и звякнули браслеты.
Звучал твой голосок, как сладостный напев,
Как трели птиц с утра под кронами дерев,
Как легкий шум ручья, скользящего по лугу,
Журчанием своим приветствуя округу:
"Любимый мой, я здесь! Бежала, как могла!
Расстались мы вчера, но словно без числа
Промчалось долгих дней с последнего свиданья!
Как только вечер скрыл дневные очертанья
И первая зажглась над крышами звезда,
Покинув отчий дом, помчалась я сюда!
Летела серной я среди лесных прогалин --
Но отчего твой взор так скорбен и печален?
Ты плачешь? Почему? Ужель моя вина
В том, что глава твоя понуро склонена?
Ах, вспомни же, что я люблю тебя сильнее,
Чем мать и чем отца!" И, страстью пламенея,
Она к его устам стремит уста свои.
"Любимый, от меня печали не таи!
Поведай, отчего не рад ты нашей встрече!", --
Твердит она, рукой обняв его за плечи,
Пытаясь взор поймать. А он, угрюм и нем,
Закрыл глаза рукой дрожащей. Но затем
Он глухо произнес: "Мне жить осталось мене,
Чем эту ночь и день. Едва сгустятся тени,
Привязан буду я надежно у столба,
И примет Индра кровь покорного раба,
Будь царствие его вовек благословенно!
Велением отца я отдан был в обмену
На тысячи коров браминскому ножу;
Отсрочки попросил -- и слово я сдержу.
Любимая моя! Ты мне сестры милее,
Стройна ты и нежна, как росная лилея;
И лучезарен взор под чернотой волос,
И звук речей меня пьянит, сладкоголос,
Сильнее, чем богов лобзания апсары!
Поговори со мной! Пусть солнечного жара
Коснется поцелуй прелестных губ, чей мед
Душистый аромат вокруг струит и льет!
Прижми свои уста к моим, цветок асоки,
Прижми в последний раз! И мой удел жестокий
Нас разлучит навек! Любимая, приди
Поплакать на моей истерзанной груди!"
Как падает газель и катится по склонам,
Сраженная стрелой, стеная смертным стоном,
Так дева в тот же миг на лоно влажных трав
Упала, не дыша, сознанье потеряв;
И помутился взор очей, глядящих слепо,
И в ужасе ее целует Сунасепа:
"О Санта, отчего ты холодна, как лед?"
И бережно ее он на руки берет,
В объятиях своих лаская и лелея,
Лобзает чистый лоб, изгиб точеной шеи,
И горько вопиет он, скорби не тая:
"О нет, не уходи, любимая моя!"
В ответ на этот крик глаза ее открылись,
И токи горьких слез оттуда заструились:
"Любовь моя, бежим! Спасемся! Мир велик --
Ручей укажет нам, где прячется родник,
И в тишине лесной нам сыщется прохлада,
И терн укроет нас от вражеского взгляда.
Давай же поспешим, на землю пала тьма,
Мне ведома тропа, ведущая с холма
К отрогам ближних гор, петлистая, крутая,
Там джунгли до небес, там тигров бродят стаи,
Но самый лютый тигр нисколько не страшней
Злокозненных людей с сердцами из камней!"
И Сунасепа, сев в задумчивости рядом,
На милую свою смотрел влюбленным взглядом.
Во всех чертах ее сияла красота:
Черна как ночь коса, коралловы уста;
Как лотос на ветру, ее сплетались руки,
И в них вселяло дрожь предчувствие разлуки.
"Пусть боги подтвердят, как я в тебя влюблен!
Но что же скажет царь, когда узнает он?
Что дерзостный брамин коров похитил стадо
И что трусливый лжец -- его родное чадо?
Нет! Лучше умереть! Я радже слово дал,
Что я подставлю грудь под жреческий кинжал,
И завтра должно мне прийти к нему для казни!
Не плачь, дитя, не плачь! Не думай о соблазне
Побега от судьбы! Бессмертных не гневи,
Последние часы мы посвятим любви!
Цветок весны моей, когда глаза закрою,
Струи свой аромат над бренною землею!"
"Ты хочешь умереть! Так пусть же острие,
Что сердце поразит, вонзится и в мое!
Тебе я вслед уйду. Зачем, скажи, отныне
Рассветы мне встречать средь горестной пустыни?
Ты зрением мне был и был ты слухом мне,
Тобой внимала я певуньям в вышине,
Тобой впивала я дождей весенних струи,
Тобою, кем дышу; тобою, кем живу я."
И в плаче утонул остаток горьких слов.
Тогда из-под небес, из царствия орлов,
Предстал их взорам гриф [4], гигантский и могучий,
Над лесом покружив, спустился черной тучей.
Обозревали мир зрачки огромных глаз,
Пылая как огонь, желтея как топаз,
А перья на спине звенели и стучали,
Как ратные мечи из смертоносной стали.
На дерево воссел он, мощен и тяжел,
К влюбленным наклонясь, такую речь повел:
"Пусть, дети, вас мое не устрашит обличье:
Усталого бойца скрывает тело птичье,
Я вольных грифов царь с прадедовских времен,
И немощен, и стар, хотя не умудрен.
Я Сите послужил защитой и охраной,
Когда была она похищена Раваной;
С ракшасом наглым я в смертельный бой вступил,
Тот испытал напор моих железных крыл
И бронзовых когтей. Но с высоты зенита
Он наземь сбил меня и прочь умчался с Ситой.
Беседу вашу я услышал и сейчас
Совет вам дать хочу -- мне, право, жалко вас:
Лишь алая заря свою настроит цитру,
Ступайте в лес искать аскета Вишвамитру,
Он подвигом своим могуществен, как бог --
Моли его, юнец, чтоб он тебе помог."
И, пальму оттолкнув обеими ногами,
Он крыльями взмахнул, исчез за облаками.
V.
Вот в вышине небес божественная тьма --
На платье письмена, из молний бахрома --
Ускорила полет в пареньи легкокрылом;
Она дала кнута эбеновым кобылам,
Направила их путь в свой сказочный альков --
На шее звезд фестон и шаль из облаков --
Потом сошла в моря, что ведомы лишь дэвам;
И ясный горний свет возник над дольним чревом,
Лимонно-золотист и серебристо-бел,
И в пламени его мир Сурью вновь узрел!
А в сумрачном лесу, где рать дерев теснится,
Где брызжет меж корней журчащая криница;
Где средь глухих чащоб и вековечной мглы
Лиана, как змея, опутала стволы
Сплетением узлов, развесив над кустами
Канаты из ветвей с пурпурными цветами;
Где не сыскать тропы, где мох густой лохмат,
Где ящерки в траве несметные кишат,
Увядший топчут лист, резвы и пестроспинны;
И где, не чуя ног, вдруг прянет из ложбины
Пугливая газель сквозь цепкие кусты;
Где леопарда глаз блестит из темноты;
Там, озирая лес в надежде и печали,
Две пары юных глаз отшельника искали.
Когда же наконец достиг расцвета день,
В прогалине, куда не попадает тень,
Давно искомый лик явился им обоим:
Они нашли его, терзаемого зноем.
В его пустых глазах, что не знавали сна,
Горел неясный свет; недвижная спина
Была опалена; его худые руки
Свисали по бокам, как мертвые гадюки;
На сваях тощих ног он, не согнув колен,
Как статуя стоял, и вниз текла с рамен
Волос его волна -- ужасные тенета
Для грязи, и листвы, и птичьего помета.
И в черноте его нечесаных волос
Нахлебников живых немало собралось,
И тысячами там кишели паразиты,
Что пили кровь его, упитанны и сыты.
И ногти он вонзал в иссохшуюся плоть,
Желая навсегда в себе преобороть
Химеры чувств земных, навязанные телом,
Как древняя скала, сухим и очерствелым.
И Санта замерла, от страха задрожав,
Но юноша, явив свой мужественный нрав,
Почтительно сказал: "Не в добрый час, о муни, [5]
Явился я к тебе: наутро канут втуне
И счастье, и любовь, и жизнь моя -- как дым;
Затравленный олень, судьбою я гоним.
Единым словом ты накликать можешь бурю
Или прогнать грозу, гремящую в лазури;
Ты можешь одолеть неумолимый рок,
От жертвы отвести безжалостный клинок;
Ты праведен -- в тебе довольно благодати,
Чтоб волею своей уменьшить груз проклятий.
Приди ж на помощь мне. Коль правду молвил гриф,
Ты осчастливишь нас, от мук освободив."
Ни слова не сказал аскет ему на это.
И юноша вскричал, не получив ответа:
"Ужели не дождусь я помощи, отец?"
И произнес тогда, нахмурившись, мудрец:
"Здесь бесполезен гнев и радость бесполезна,
Лишь темный мир вокруг, страстей напрасных бездна.
Возрадуйся же, сын! Дано в расцвете лет
Тебе врата отверзть, скрывающие свет;
Ты, жертвой освящен, узришь первоначало.
Как много смертных тел влечет подобьем шквала
В свои буруны жизнь; кружит водоворот,
И поглощенный им навек на дно идет.
Так будь же духом тверд, не соблазняясь майей;
Увидишь: от тебя умчатся легкой стаей
Неистовство, любовь, желания и страх --
Всё канет, словно пар, всё обратится в прах;
Сей иллюзорный мир, где ты страстями мучим,
Обрушится у ног твоих песком сыпучим."
"Отнюдь не о себе, мудрец, веду я речь --
Готов у алтаря на смерть себя обречь,
Как бронза буду тверд, как каменная глыба,
И жалобы моей услышать не смогли бы
Стоящие вокруг. Но, отче, я любим!
Взгляни на сей цветок, что нежен и раним,
Изящен и красив, и полон аромата!
Он мне дарует всё, чем жизнь моя богата!
Пойми: лишь я умру, любимая умрет!"
И отвечал аскет: "Кипенье бурных вод,
Что хлещет ураган из лютости звериной,
И лотосы озер, забрызганные тиной,
И рощи на холмах, что избивает град,
И вышина небес, где молнии рычат,
Неистовством своим уступят только людям.
Мы корчимся в грязи. Когда ж себя разбудим,
Найдем, что сон смешон. Молись или зови,
Но мир небытия не ведает любви!"
"Ты несомненно прав, -- ответил Сунасепа, --
О помощи просить напрасно и нелепо;
Игрушкою страстей мне сгинуть суждено,
И прошлых жизней груз влечет меня на дно.
Но именем богов прошу и заклинаю:
Взгляни, сколь велика краса ее земная;
Утешь ее, мудрец, и слезы осуши --
Тебя благодаря, почию я в тиши."
Вскричала Санта: "Нет! Его лицо святое,
Улыбку затаив, сияет добротою,
И на челе его сочувствия печать!
Он мужество твое желает испытать!
О муни, посмотри -- я встала на колени!
Ах, дэвы слышат звук рыданий и молений,
И ты не будешь глух!" Бестрепетно мудрец
Стоял, внимая ей, и молвил наконец:
"Так в юности моей я слушал щебет птичий
В долине, что была полна счастливых кличей,
И шепотом лесов мой наполнялся слух.
Выходит, сотню лет несет строптивый дух,
Аскезе вопреки, ярмо воспоминаний --
И запахи росы, и в чаще крик фазаний?
И в этом естестве жизнь задрожала вновь,
В глубинах жил сухих воспламеняя кровь!
Но, майя, ты уже потешилась! Я тоже
Когда-то был живым. Но мне довольно дрожи!
Ты, девушка, чей лик затмит собой апсар,
И ты, брамина сын, -- наказ примите в дар,
Потом ступайте прочь, не докучая боле.
Когда ты у столба окажешься в неволе
Надежных лычных пут, и жрец достанет нож,
Священный Индры гимн семь раз произнесешь.
И грянет страшный гром, и в эту же минуту
Накренится алтарь и разорвутся путы;
И разбежится люд в предчувствии конца,
И дэвов напоят из жилы жеребца.
Прощай! Ты будешь жить, коль предпочел страданье,
Мне -- каплей в океан -- пора назад, в молчанье."
VI.
Из злата царский трон, и в золоте шатер,
Поставленный над ним. И лапы распростер
На стяге желтый лев, что смотрит непреклонно.
Серебряные там вздымаются колонны,
На коих водружен сиятельный престол;
Жемчужины струят лучистый ореол;
Пурпурным полотном покрытые ступени
Указывают путь в уют шатровой тени;
И кшатриев отряд, суров, вооружен,
Все подступы закрыв, оберегает трон.
Кубический алтарь воздвигнут перед троном
Из пребольших камней, как велено каноном,
И белоснежный бык изображен над ним
О четырех рогах. [6] И голосом глухим
Благочестивых мантр читает заклинанья
Медлительный брамин, готовящий закланье;
Согбенные жрецы промолвят в этот миг
Сто яджур наизусть и сто священных риг. [7]
Повсюду виден люд, стремящийся к святыне,
И топот тысяч ног несется по долине.
Вот, с кожею как мел, воинственный народ,
Чей дом на берегу, близ океанских вод,
А следом племена из чернокожей расы,
Живущие в лесах и чьи вожди -- ракшасы;
И множество иных со всех сторон спешат,
Все рвутся созерцать торжественный обряд,
И улетает ввысь, в пространство голубое,
Разноязыкий гул, плывущий над толпою.
И в воздухе звучат, плывут со всех сторон
Танбуров голоса, тарелок медных звон,
И шарканье шагов клубы вздымает пыли,
Но час настал -- и все дыханье затаили.
Вознес мольбу брамин, поднявшись в полный рост,
И жертва не спеша ступает на помост;
Как будто не страшась ужасного удела,
С повязкою на лбу, подходит отрок смело;
Вот он у алтаря неколебимо встал,
И поднимает жрец убийственный кинжал --
Губительная сталь сияет и сверкает;
Он Индре гимн святой семижды выкликает,
И молния с небес в алтарный камень бьет,
И отступает жрец, и пятится народ;
И каплями металл течет с кинжальной стали,
И камень раскален, и наземь путы спали.
Свободен! Он бежит сквозь потрясенный люд,
И пламенный поток лучи на землю льют.
Но вот исчез беглец. Небесное светило,
Спокойно воссияв, грозу угомонило.
Тут белого коня подводят под уздцы,
Его сбивают с ног умелые жрецы;
Конь падает и ржет; кровь брызжет на каменья,
И принимает бог такое приношенье.
VII.
О ты, что светишь нам, затерянным в ночи,
О счастье! Краток срок, пока твои лучи
Нас радуют во тьме -- и свет уносит майя,
Создавшая тебя, надежду отнимая;
И никакой мольбой, и плачем никаким
Мы радости былой уже не возвратим!
Был звонкий воздух свеж, душист и ароматен;
Колибри изумруд, как россыпь ярких пятен,
Сверкал и тут и там; лазурный попугай
Сопровождал полет пунцовокрылых стай;
И ткачики неслись проворною стрелою
Над золотым кустом, над спелой мушмулою;
И, вторя трелям птиц, огромные кусты
Шептались не спеша, тенисты и густы;
И пчел сплоченный рой спешил к цветам за медом,
Покинувши дупло; под синим небосводом,
Среди высоких трав, среди лесных дерев
Торжественно звучал ликующий напев.
Любимую свою в густыне курослепа
В объятиях сжимал, пылая, Сунасепа;
Он сладость уст впивал и чувствовал -- его
Наполнило мечты святое волшебство!
И Санта горячо к груди его припала!
И бурной страсти их ничто не помешало;
Где жизни равен день, безвластны времена --
Там царствует любовь и правит тишина.
[1] Источником для этой поэмы послужила 61-я глава "Рамаяны". См., например: Рамаяна / Пер. с санскрита В. Потаповой; Вступ. статья П. Гринцера; Коммент. Б. Захарьина; Пояснит. текст Б. Захарьина, В. Потаповой. -- М.: Худож. лит., 1986.
[2] Дева утра -- богиня Ушас, беспредельная заря, несущая каждое утро свет и жизнь, любимая Ашвинами и Солнцем, но исчезающая, как только оно пытается обнять ее своими золотыми лучами.
[3] Индра -- царь богов ведического пантеона, громовержец и владыка атмосферы.
[4] Джатаю -- полубог в образе грифа, племянник Гаруды, история которого описана в "Рамаяне" (иногда в эпосе его называют "царем грифов"). Он попытался освободить Ситу из плена Раваны, когда тот ее похитил и нес на Ланку. Джатаю яростно сражался с Раваной, но потерпел поражение и был смертельно ранен.
[5] Муни (санскр. святой мудрец) -- постоянное обращение к Вишвамитре в "Рамаяне"; определение, которое часто применяется к создателям сутр. Это слово несет коннотацию "тот, чье каждое слово веско и глубоко".
[6] Четырехрогий бык (гаур) -- олицетворение Индры.
[7] Яджуры -- жертвенные молитвы и формулы в стихах и прозе; риги -- хвалебные стихи и гимны, обращенные к богам.
C улыбкою скользит по небу дева утра [2] --
Распущена коса, возок из перламутра,
И все быстрей ее стремительный полет
Сквозь жемчуг облаков в наплывах позолот
Над сонною горой, омытой синевою,
И над лощиной, где под пальмовой листвою,
Из выстуженных гнезд взирая на восход,
Ей стайка алых птиц приветствие поет.
Всё в утренних лучах сверкает и смеется:
И долы, и холмы, и реки, и болотца;
Ущелье, где в ночи тигриный виден взор,
И лотос голубой на хрустале озер.
И на ветру тугой бамбук роняет звоны,
И шепотом глухим наполнен мох зеленый;
Жужжа, летит пчела; над дебрями лесов
Звучит могучий хор неясных голосов;
Аскеты-мудрецы, забыв о созерцаньи
И пробудясь от грез о судьбах мирозданья,
В лазури слыша тот божественный напев,
С циновок травяных встают, помолодев.
И катится заря, как волны океана,
И омывает мир потоками шафрана,
Как зелень свежих нив белят собой стада,
И человек встает для буднего труда,
Зане заря несет с утра в его жилище
Летучий рой часов, рачение о пище;
Покоя не сулит нам утренний багрец
На серебре небес; лишь праведный мудрец,
Не ждущий ничего, свободный от докуки,
К сиянию зари вздымает вольно руки.
Ему неведом страх и незнакома дрожь;
Он слышит вечный смех, он видит майи ложь
И знает: этот мир -- предметы, формы, лица --
От завязи времен ей в долгих грезах мнится.
II.
Там, где инжир цветет вокруг резных перил,
Ричика, мудрый жрец, молитву завершил.
Одернув рукава, материею белой
Он чресла повязал и опускает тело
На перекрестье ног; глаза полузакрыв,
Предался думам он, недвижен, молчалив.
Жена к нему спешит, неся в широкой чаше
И финик, и банан, и рис, и простоквашу;
Потом идет сама поесть особняком.
Три юноши пришли, чтоб сесть со стариком,
Все трое сыновей. Садится старший справа,
И слева младший сел. А третий, худощавый,
Постится между них, в мечтаниях, один --
Он статен и красив, но нелюбимый сын.
Браслеты на руках; и кудри смоляные
Струятся по спине могучей и по вые;
Но омрачила грусть высокое чело,
И мутною тоской глаза заволокло.
Он обращает взор, задумавшись глубоко,
Туда, где льет заря сияние с востока,
И на лесистый холм, где радостный сандал
От разноцветья птиц на солнце заблистал;
Где пылкая душа струит любови пламя,
Посланье деве шлет с газельими глазами;
Но долгий день пройдет и канет, словно дым,
И вновь не суждено друг друга видеть им.
Безмолвно он сидит с понурой головою,
А на ветру инжир шумит густой листвою,
И слышно, как вдали кайманы на реке
Ликующе шипят в прибрежном тростнике.
III.
Неспешно над землей в мерцающей лазури,
Как глыба хрусталя, встает лучистый Сурья;
Он красит облака, огромен и румян,
И зыблется в огне воздушный океан.
Стихает всякий шум; роняет крылья птица,
Шептавшийся бамбук умолк, не шевелится;
Разнеженный цветок закрыл, и вял и квел,
Свой венчик золотой от суетливых пчел;
И небо, и земля, сиянием одеты,
Безмолвны пред лицом пылающего света.
Но вот издалека, вдоль заспанной реки,
Как будто белый вихрь, несутся седоки;
Под грохот колесниц с огромными серпами
Взлетает в небо пыль, как боевое знамя,
И тяжко по земле ступает слон-гигант,
А на его спине, под сводами гирлянд,
Под пологом зонта, спасающим от зноя,
Стоит великий царь, и каменье цветное
На лбу его горит; подобно Индре, он
Взирает с высоты, лучами освещен.
И вот застыл кортеж, доставив господина
Туда, где дом стоит почтенного брамина.
"Ричика, -- говорит, сойдя с помоста, тот. --
Быстротекущих дней постигнувший полет,
Услышь мою печаль, о, праведный и мудрый --
Богами оскорблен я, словно подлый шудра:
Людскую жертву им почтительно послал,
Уже брамин святой хотел подать сигнал,
Но, жертву развязав, они обряд прервали,
Даянья не приняв. Я обошел в печали
Равнины, города и горные хребты,
Рожденного ища под знаком чистоты,
Чья кровь мила богам, дабы, ее приемля,
В злопамятстве они не погубили землю;
Не то на месте нив окажется стерня,
И сгинет род людской от божьего огня,
Когда владыка вод [3] и засухой, и жаждой
Накажет этот мир, где изнеможет каждый.
Но тщетно царство я прошел из края в край.
Ричика, я прошу -- мне первенца отдай,
И я тебе взамен не пожалею злата,
Сто тысяч дам коров в награду и уплату."
Тут говорит брамин: "Нет, никакой ценой
Не может быть, о царь, откуплен старший мой.
Как загнанная лань трепещет перед бездной,
И корчится в огне пожара лист древесный,
Так этот мир дрожит пред мудрым, что постиг
Изнанку бытия и вечности язык!
О раджа, потому мой первенец важнее
Всех прочих, что живут, крепчая и тучнея,
Но их бессмыслен век и участь их скудна."
И вслед за мудрецом промолвила жена:
"Я именем зари, сияющей богини,
Клянусь вам, что души не чаю в младшем сыне."
Тут Сунасепа встал: "Мне время умирать,
Отцу не дорог я, меня не любит мать.
Пусть буду я к столбу браминами прикован,
Но, раджа, я прошу, дабы мне был дарован
Последний в жизни день. И буду я готов,
Лишь Сурья в путь пошлет небесных жеребцов."
"Пусть будет так", -- сказал владыка, и кимвалы
Звенят, и колесниц несется звук удалый;
И ржание, и крик летят со всех сторон,
И только пыль столбом процессии вдогон;
Все далее она спешит, и постепенно
От глаз укрыл царя изгиб реки священной.
А юноша смотрел на мать и на отца,
И был спокоен взор безусого юнца:
"Прощай же, мой отец! Подобно листьям клена,
Что падают с ветвей и устилают склоны
Под летнею грозой, до стужи и зимы,
До срока я уйду в поля теней и тьмы.
Прощай навеки, мать! И вы, прощайте, браты,
Пусть будут ваши дни удачею богаты,
О Индра, их своей защитой удостой!"
Ричика же сказал: "Все только сон пустой."
IV.
Был зелен этот холм с кустами бальзамина,
И аромат цветов несла ему долина,
И вяхири к нему слетались поутру,
Чтоб в пальмовых ветвях пережидать жару,
А пальмы в вышине качались над кустами
И угашали зной дрожащими листами.
Там Сунасепа лег на свежую траву,
Взирая на закат сквозь ветви и листву,
И скорбно, на краю безвременной могилы,
Он молодость свою оплакивал и силу.
Оплакивал он вас, шуршащие леса,
Долину, где поют в тумане голоса,
Оплакивал волну реки игристо-пенной,
Куда не раз нырял он в радости блаженной,
Вершины дальних гор и злачные поля,
Где кружит ветерок, посевы шевеля,
И звезды, что плывут в сиреневом просторе
По грозным бурунам сияющего моря!
Но в день последний свой оплакивал тебя
Он более всего, терзаясь и скорбя,
О Санта! слез твоих божественные струи,
Что нежно осушал он лаской поцелуя;
Он плакал о тебе, о неге чистых уст,
Без коих целый мир бессмысленен и пуст!
Он страстно звал тебя расколотой душою,
И ты пришла на зов знакомою межою,
И взгляд из-под ресниц был счастьем осиян,
И гибок, как тростник, был твой девичий стан,
И облик твой струил поток тепла и света;
Ты обняла его -- и звякнули браслеты.
Звучал твой голосок, как сладостный напев,
Как трели птиц с утра под кронами дерев,
Как легкий шум ручья, скользящего по лугу,
Журчанием своим приветствуя округу:
"Любимый мой, я здесь! Бежала, как могла!
Расстались мы вчера, но словно без числа
Промчалось долгих дней с последнего свиданья!
Как только вечер скрыл дневные очертанья
И первая зажглась над крышами звезда,
Покинув отчий дом, помчалась я сюда!
Летела серной я среди лесных прогалин --
Но отчего твой взор так скорбен и печален?
Ты плачешь? Почему? Ужель моя вина
В том, что глава твоя понуро склонена?
Ах, вспомни же, что я люблю тебя сильнее,
Чем мать и чем отца!" И, страстью пламенея,
Она к его устам стремит уста свои.
"Любимый, от меня печали не таи!
Поведай, отчего не рад ты нашей встрече!", --
Твердит она, рукой обняв его за плечи,
Пытаясь взор поймать. А он, угрюм и нем,
Закрыл глаза рукой дрожащей. Но затем
Он глухо произнес: "Мне жить осталось мене,
Чем эту ночь и день. Едва сгустятся тени,
Привязан буду я надежно у столба,
И примет Индра кровь покорного раба,
Будь царствие его вовек благословенно!
Велением отца я отдан был в обмену
На тысячи коров браминскому ножу;
Отсрочки попросил -- и слово я сдержу.
Любимая моя! Ты мне сестры милее,
Стройна ты и нежна, как росная лилея;
И лучезарен взор под чернотой волос,
И звук речей меня пьянит, сладкоголос,
Сильнее, чем богов лобзания апсары!
Поговори со мной! Пусть солнечного жара
Коснется поцелуй прелестных губ, чей мед
Душистый аромат вокруг струит и льет!
Прижми свои уста к моим, цветок асоки,
Прижми в последний раз! И мой удел жестокий
Нас разлучит навек! Любимая, приди
Поплакать на моей истерзанной груди!"
Как падает газель и катится по склонам,
Сраженная стрелой, стеная смертным стоном,
Так дева в тот же миг на лоно влажных трав
Упала, не дыша, сознанье потеряв;
И помутился взор очей, глядящих слепо,
И в ужасе ее целует Сунасепа:
"О Санта, отчего ты холодна, как лед?"
И бережно ее он на руки берет,
В объятиях своих лаская и лелея,
Лобзает чистый лоб, изгиб точеной шеи,
И горько вопиет он, скорби не тая:
"О нет, не уходи, любимая моя!"
В ответ на этот крик глаза ее открылись,
И токи горьких слез оттуда заструились:
"Любовь моя, бежим! Спасемся! Мир велик --
Ручей укажет нам, где прячется родник,
И в тишине лесной нам сыщется прохлада,
И терн укроет нас от вражеского взгляда.
Давай же поспешим, на землю пала тьма,
Мне ведома тропа, ведущая с холма
К отрогам ближних гор, петлистая, крутая,
Там джунгли до небес, там тигров бродят стаи,
Но самый лютый тигр нисколько не страшней
Злокозненных людей с сердцами из камней!"
И Сунасепа, сев в задумчивости рядом,
На милую свою смотрел влюбленным взглядом.
Во всех чертах ее сияла красота:
Черна как ночь коса, коралловы уста;
Как лотос на ветру, ее сплетались руки,
И в них вселяло дрожь предчувствие разлуки.
"Пусть боги подтвердят, как я в тебя влюблен!
Но что же скажет царь, когда узнает он?
Что дерзостный брамин коров похитил стадо
И что трусливый лжец -- его родное чадо?
Нет! Лучше умереть! Я радже слово дал,
Что я подставлю грудь под жреческий кинжал,
И завтра должно мне прийти к нему для казни!
Не плачь, дитя, не плачь! Не думай о соблазне
Побега от судьбы! Бессмертных не гневи,
Последние часы мы посвятим любви!
Цветок весны моей, когда глаза закрою,
Струи свой аромат над бренною землею!"
"Ты хочешь умереть! Так пусть же острие,
Что сердце поразит, вонзится и в мое!
Тебе я вслед уйду. Зачем, скажи, отныне
Рассветы мне встречать средь горестной пустыни?
Ты зрением мне был и был ты слухом мне,
Тобой внимала я певуньям в вышине,
Тобой впивала я дождей весенних струи,
Тобою, кем дышу; тобою, кем живу я."
И в плаче утонул остаток горьких слов.
Тогда из-под небес, из царствия орлов,
Предстал их взорам гриф [4], гигантский и могучий,
Над лесом покружив, спустился черной тучей.
Обозревали мир зрачки огромных глаз,
Пылая как огонь, желтея как топаз,
А перья на спине звенели и стучали,
Как ратные мечи из смертоносной стали.
На дерево воссел он, мощен и тяжел,
К влюбленным наклонясь, такую речь повел:
"Пусть, дети, вас мое не устрашит обличье:
Усталого бойца скрывает тело птичье,
Я вольных грифов царь с прадедовских времен,
И немощен, и стар, хотя не умудрен.
Я Сите послужил защитой и охраной,
Когда была она похищена Раваной;
С ракшасом наглым я в смертельный бой вступил,
Тот испытал напор моих железных крыл
И бронзовых когтей. Но с высоты зенита
Он наземь сбил меня и прочь умчался с Ситой.
Беседу вашу я услышал и сейчас
Совет вам дать хочу -- мне, право, жалко вас:
Лишь алая заря свою настроит цитру,
Ступайте в лес искать аскета Вишвамитру,
Он подвигом своим могуществен, как бог --
Моли его, юнец, чтоб он тебе помог."
И, пальму оттолкнув обеими ногами,
Он крыльями взмахнул, исчез за облаками.
V.
Вот в вышине небес божественная тьма --
На платье письмена, из молний бахрома --
Ускорила полет в пареньи легкокрылом;
Она дала кнута эбеновым кобылам,
Направила их путь в свой сказочный альков --
На шее звезд фестон и шаль из облаков --
Потом сошла в моря, что ведомы лишь дэвам;
И ясный горний свет возник над дольним чревом,
Лимонно-золотист и серебристо-бел,
И в пламени его мир Сурью вновь узрел!
А в сумрачном лесу, где рать дерев теснится,
Где брызжет меж корней журчащая криница;
Где средь глухих чащоб и вековечной мглы
Лиана, как змея, опутала стволы
Сплетением узлов, развесив над кустами
Канаты из ветвей с пурпурными цветами;
Где не сыскать тропы, где мох густой лохмат,
Где ящерки в траве несметные кишат,
Увядший топчут лист, резвы и пестроспинны;
И где, не чуя ног, вдруг прянет из ложбины
Пугливая газель сквозь цепкие кусты;
Где леопарда глаз блестит из темноты;
Там, озирая лес в надежде и печали,
Две пары юных глаз отшельника искали.
Когда же наконец достиг расцвета день,
В прогалине, куда не попадает тень,
Давно искомый лик явился им обоим:
Они нашли его, терзаемого зноем.
В его пустых глазах, что не знавали сна,
Горел неясный свет; недвижная спина
Была опалена; его худые руки
Свисали по бокам, как мертвые гадюки;
На сваях тощих ног он, не согнув колен,
Как статуя стоял, и вниз текла с рамен
Волос его волна -- ужасные тенета
Для грязи, и листвы, и птичьего помета.
И в черноте его нечесаных волос
Нахлебников живых немало собралось,
И тысячами там кишели паразиты,
Что пили кровь его, упитанны и сыты.
И ногти он вонзал в иссохшуюся плоть,
Желая навсегда в себе преобороть
Химеры чувств земных, навязанные телом,
Как древняя скала, сухим и очерствелым.
И Санта замерла, от страха задрожав,
Но юноша, явив свой мужественный нрав,
Почтительно сказал: "Не в добрый час, о муни, [5]
Явился я к тебе: наутро канут втуне
И счастье, и любовь, и жизнь моя -- как дым;
Затравленный олень, судьбою я гоним.
Единым словом ты накликать можешь бурю
Или прогнать грозу, гремящую в лазури;
Ты можешь одолеть неумолимый рок,
От жертвы отвести безжалостный клинок;
Ты праведен -- в тебе довольно благодати,
Чтоб волею своей уменьшить груз проклятий.
Приди ж на помощь мне. Коль правду молвил гриф,
Ты осчастливишь нас, от мук освободив."
Ни слова не сказал аскет ему на это.
И юноша вскричал, не получив ответа:
"Ужели не дождусь я помощи, отец?"
И произнес тогда, нахмурившись, мудрец:
"Здесь бесполезен гнев и радость бесполезна,
Лишь темный мир вокруг, страстей напрасных бездна.
Возрадуйся же, сын! Дано в расцвете лет
Тебе врата отверзть, скрывающие свет;
Ты, жертвой освящен, узришь первоначало.
Как много смертных тел влечет подобьем шквала
В свои буруны жизнь; кружит водоворот,
И поглощенный им навек на дно идет.
Так будь же духом тверд, не соблазняясь майей;
Увидишь: от тебя умчатся легкой стаей
Неистовство, любовь, желания и страх --
Всё канет, словно пар, всё обратится в прах;
Сей иллюзорный мир, где ты страстями мучим,
Обрушится у ног твоих песком сыпучим."
"Отнюдь не о себе, мудрец, веду я речь --
Готов у алтаря на смерть себя обречь,
Как бронза буду тверд, как каменная глыба,
И жалобы моей услышать не смогли бы
Стоящие вокруг. Но, отче, я любим!
Взгляни на сей цветок, что нежен и раним,
Изящен и красив, и полон аромата!
Он мне дарует всё, чем жизнь моя богата!
Пойми: лишь я умру, любимая умрет!"
И отвечал аскет: "Кипенье бурных вод,
Что хлещет ураган из лютости звериной,
И лотосы озер, забрызганные тиной,
И рощи на холмах, что избивает град,
И вышина небес, где молнии рычат,
Неистовством своим уступят только людям.
Мы корчимся в грязи. Когда ж себя разбудим,
Найдем, что сон смешон. Молись или зови,
Но мир небытия не ведает любви!"
"Ты несомненно прав, -- ответил Сунасепа, --
О помощи просить напрасно и нелепо;
Игрушкою страстей мне сгинуть суждено,
И прошлых жизней груз влечет меня на дно.
Но именем богов прошу и заклинаю:
Взгляни, сколь велика краса ее земная;
Утешь ее, мудрец, и слезы осуши --
Тебя благодаря, почию я в тиши."
Вскричала Санта: "Нет! Его лицо святое,
Улыбку затаив, сияет добротою,
И на челе его сочувствия печать!
Он мужество твое желает испытать!
О муни, посмотри -- я встала на колени!
Ах, дэвы слышат звук рыданий и молений,
И ты не будешь глух!" Бестрепетно мудрец
Стоял, внимая ей, и молвил наконец:
"Так в юности моей я слушал щебет птичий
В долине, что была полна счастливых кличей,
И шепотом лесов мой наполнялся слух.
Выходит, сотню лет несет строптивый дух,
Аскезе вопреки, ярмо воспоминаний --
И запахи росы, и в чаще крик фазаний?
И в этом естестве жизнь задрожала вновь,
В глубинах жил сухих воспламеняя кровь!
Но, майя, ты уже потешилась! Я тоже
Когда-то был живым. Но мне довольно дрожи!
Ты, девушка, чей лик затмит собой апсар,
И ты, брамина сын, -- наказ примите в дар,
Потом ступайте прочь, не докучая боле.
Когда ты у столба окажешься в неволе
Надежных лычных пут, и жрец достанет нож,
Священный Индры гимн семь раз произнесешь.
И грянет страшный гром, и в эту же минуту
Накренится алтарь и разорвутся путы;
И разбежится люд в предчувствии конца,
И дэвов напоят из жилы жеребца.
Прощай! Ты будешь жить, коль предпочел страданье,
Мне -- каплей в океан -- пора назад, в молчанье."
VI.
Из злата царский трон, и в золоте шатер,
Поставленный над ним. И лапы распростер
На стяге желтый лев, что смотрит непреклонно.
Серебряные там вздымаются колонны,
На коих водружен сиятельный престол;
Жемчужины струят лучистый ореол;
Пурпурным полотном покрытые ступени
Указывают путь в уют шатровой тени;
И кшатриев отряд, суров, вооружен,
Все подступы закрыв, оберегает трон.
Кубический алтарь воздвигнут перед троном
Из пребольших камней, как велено каноном,
И белоснежный бык изображен над ним
О четырех рогах. [6] И голосом глухим
Благочестивых мантр читает заклинанья
Медлительный брамин, готовящий закланье;
Согбенные жрецы промолвят в этот миг
Сто яджур наизусть и сто священных риг. [7]
Повсюду виден люд, стремящийся к святыне,
И топот тысяч ног несется по долине.
Вот, с кожею как мел, воинственный народ,
Чей дом на берегу, близ океанских вод,
А следом племена из чернокожей расы,
Живущие в лесах и чьи вожди -- ракшасы;
И множество иных со всех сторон спешат,
Все рвутся созерцать торжественный обряд,
И улетает ввысь, в пространство голубое,
Разноязыкий гул, плывущий над толпою.
И в воздухе звучат, плывут со всех сторон
Танбуров голоса, тарелок медных звон,
И шарканье шагов клубы вздымает пыли,
Но час настал -- и все дыханье затаили.
Вознес мольбу брамин, поднявшись в полный рост,
И жертва не спеша ступает на помост;
Как будто не страшась ужасного удела,
С повязкою на лбу, подходит отрок смело;
Вот он у алтаря неколебимо встал,
И поднимает жрец убийственный кинжал --
Губительная сталь сияет и сверкает;
Он Индре гимн святой семижды выкликает,
И молния с небес в алтарный камень бьет,
И отступает жрец, и пятится народ;
И каплями металл течет с кинжальной стали,
И камень раскален, и наземь путы спали.
Свободен! Он бежит сквозь потрясенный люд,
И пламенный поток лучи на землю льют.
Но вот исчез беглец. Небесное светило,
Спокойно воссияв, грозу угомонило.
Тут белого коня подводят под уздцы,
Его сбивают с ног умелые жрецы;
Конь падает и ржет; кровь брызжет на каменья,
И принимает бог такое приношенье.
VII.
О ты, что светишь нам, затерянным в ночи,
О счастье! Краток срок, пока твои лучи
Нас радуют во тьме -- и свет уносит майя,
Создавшая тебя, надежду отнимая;
И никакой мольбой, и плачем никаким
Мы радости былой уже не возвратим!
Был звонкий воздух свеж, душист и ароматен;
Колибри изумруд, как россыпь ярких пятен,
Сверкал и тут и там; лазурный попугай
Сопровождал полет пунцовокрылых стай;
И ткачики неслись проворною стрелою
Над золотым кустом, над спелой мушмулою;
И, вторя трелям птиц, огромные кусты
Шептались не спеша, тенисты и густы;
И пчел сплоченный рой спешил к цветам за медом,
Покинувши дупло; под синим небосводом,
Среди высоких трав, среди лесных дерев
Торжественно звучал ликующий напев.
Любимую свою в густыне курослепа
В объятиях сжимал, пылая, Сунасепа;
Он сладость уст впивал и чувствовал -- его
Наполнило мечты святое волшебство!
И Санта горячо к груди его припала!
И бурной страсти их ничто не помешало;
Где жизни равен день, безвластны времена --
Там царствует любовь и правит тишина.
[1] Источником для этой поэмы послужила 61-я глава "Рамаяны". См., например: Рамаяна / Пер. с санскрита В. Потаповой; Вступ. статья П. Гринцера; Коммент. Б. Захарьина; Пояснит. текст Б. Захарьина, В. Потаповой. -- М.: Худож. лит., 1986.
[2] Дева утра -- богиня Ушас, беспредельная заря, несущая каждое утро свет и жизнь, любимая Ашвинами и Солнцем, но исчезающая, как только оно пытается обнять ее своими золотыми лучами.
[3] Индра -- царь богов ведического пантеона, громовержец и владыка атмосферы.
[4] Джатаю -- полубог в образе грифа, племянник Гаруды, история которого описана в "Рамаяне" (иногда в эпосе его называют "царем грифов"). Он попытался освободить Ситу из плена Раваны, когда тот ее похитил и нес на Ланку. Джатаю яростно сражался с Раваной, но потерпел поражение и был смертельно ранен.
[5] Муни (санскр. святой мудрец) -- постоянное обращение к Вишвамитре в "Рамаяне"; определение, которое часто применяется к создателям сутр. Это слово несет коннотацию "тот, чье каждое слово веско и глубоко".
[6] Четырехрогий бык (гаур) -- олицетворение Индры.
[7] Яджуры -- жертвенные молитвы и формулы в стихах и прозе; риги -- хвалебные стихи и гимны, обращенные к богам.
Метки: