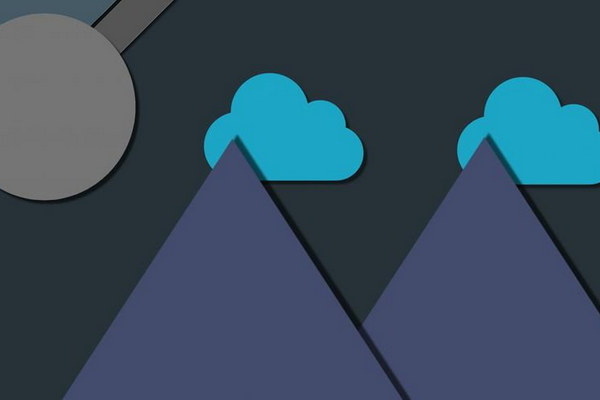Чего мы ищем в поэтическом переводе?
Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай Бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости!
А. Пушкин. ?Евгений Онегин?
Стихи как люди. Как не всё в человеке сразу выходит на поверхность, так и в стихотворении. Чем богаче стихотворение, тем глубже в нем не видимое снаружи. В конечном счете, это глубинное и есть личность, богатство личности. Через любовь богатство раскрывается, и проникновению вглубь часто не бывает конца. Есть стихи, которые мы проносим через жизнь, постигая их все полнее и полнее. И, как всякая любовь, этот процесс требует участия двоих. Стихотворение отдает себя нам, но и мы отдаем себя любимому стихотворению. Каждый, для кого стихи не случайность в жизни, поймет, о чем я говорю.
И вот перед Вами стихотворение, написанное на другом языке. Великое стихотворение, возникшее в иной, не привычной с детства, языковой стихии. Стихотворение, захватившее, опьянившее Вас, вызвавшее восторг. Вы чувствуете, что это стихотворение необходимо Вам на родном, русском, языке, но его нет по-русски. Да, какие-то переводы как будто… Но это всё не то, не так, оно должно, обязано появиться на свет как Ваше дитя, Вы должны родить его сами, любовь требует. То, что родится, Вы можете потом смиренно назвать переводом.
Собственно, так должен рождаться поэтический перевод. Но так бывает не часто. Возникла профессия: поэт-переводчик. Выдаются заказы, составляются планы, издаются собрания сочинений великих мировых поэтов. Это та самая ?литературная жизнь?, которая составляет необходимое и громадное приложение к высокой литературе. Как и в любом роде литературы, удачи довольно редки и все же случаются.
В цехе, понятное дело, выработались свои представления и предпочтения. Основными задачами переводческого труда считаются правильная передача содержания и сохранение формы (размера и рифм) оригинала. Порой что-то говорится о духе, но это ведь субстанция неформализуемая и разговоры по большей части остаются разговорами. Под содержанием обычно понимается внешнее, фабульное, содержание, которое в настоящем стихотворении редко бывает первостепенно. А что касается формы, то различие языков делает задачу часто практически неисполнимой. Общеизвестны долгота и краткость гласных, определяющие ритм античной поэзии, но отсутствующие у нас в языке. Многие знают, как неохотно соглашается русский слух на имитации французской или польской силлабики. Каждый переводчик с английского понимает, как невозможно удержать содержание составленной краткими словами английской строки в русской строчке той же длины. Уж помолчим о поэзии восточной.
Всё это обходится некоторыми устоявшимися условными договоренностями да и в самом деле второстепенно. А требовать каждый раз чуда от профессионала было бы и жестоко, и бесполезно. Хотя и стоило бы вспомнить мудрые слова лучшего профессионала в истории русского стихотворного перевода Самуила Яковлевича Маршака: ?Перевод стихов — высокое и трудное искусство. Я выдвинул бы два — на вид парадоксальных, но по существу верных положения: Первое. Перевод стихов невозможен. Второе. Каждый раз это исключение?. Ах, как охаивают старика Маршака! Ах, как он упростил сонеты Шекспира! Верно, упростил. Но почитайте собственные переводы хающих. То-то!
И без чуда от перевода может быть польза. Римские копии греческих статуй V века тоже полезны, раз мы утратили оригиналы: вот так была выставлена вперед правая нога, вот так слегка повернута голова. Остальное попробуем дофантазировать: есть обломки фризов Парфенона, аттические надгробия в немногих музеях, есть настоящие, изувеченные временем, коры Эрехтейона в музее Акрополя. Мы можем, глядя на мертвые копии и сопоставляя их с подлинными обломками, представить, какими эти статуи были. По крайней мере, попытаться представить.
Давайте пока отвлечемся от эмоций и не побоимся задать простой и главный вопрос: что мы ценим в поэтическом переводе, когда признаём его удавшимся, то есть нужным, а то и любимым? Тут возможны разные ответы. Профессионал (я имею в виду, конечно, здесь заурядного профессионала, не мастера высокого уровня) скорей всего назовет главным достоинством перевода точность. И это понятно: любое ремесло нуждается в легко проверяемом критерии качества продукции.
Правда, в результате поэзия из оценок и требований вовсе выпадает и как-то походя заменяется требованием квалификации, профессионализма, которое сводится всё к тому же – передаче содержания и особенностей формы. Очень уважают такого рода ценители рифмы, желательно точные, даже если переводимый автор весьма свободен в своих отношениях с этой дамой. Что рифма лишь один из бесчисленного множества приемов звуковой выразительности, понимают не все. Что при этом порой получаются лишь по внешности стихи, ?профессионала? не смущает. Дотошная внимательность к сохранению деталей подлинника в такой ситуации – это как будто к статуе, не очень похожей на человеческую фигуру и имеющей весьма отдаленное сходство с моделью, начинают тщательно прилеплять родинки в точно тех же местах, где они у модели имеются. Ту же стратегию порой пытаются проводить и в отношении рифмы. Конечно, было бы странно оставлять нерифмованные строчки, скажем, в сонете. Но возьмем, к примеру, Эмили Дикинсон: она использовала рифму свободно, по вдохновению. Рифма то появляется, то исчезает, между этими предельными случаями множество переходов. Естественно такое же отношение к рифме и у переводящего. А ревнители требуют, чтобы рифма была точно в тех же местах, что и в оригинале.
Стилистика стихоподобных ?поэтических переводов? - тема отдельного анализа. Как-нибудь поделюсь своими наблюдениями. Обычно перевод по этим особенностям легко узнается. Конечно, можно весь анализ заменить грубоватым высказыванием Ахматовой: ?Воняет переводом?. Отсутствие этого специфического запаха – огромная редкость, которая, слава Богу, все же встречается. Такая же, собственно, редкость, как поэзия.
А что же думают непрофессионалы? Оставим в стороне поэта, который перевод создал. Просто читатели, которым в жизни нужны стихи. Естественно, их интересует прежде всего русское стихотворение (?перевод?). Они хотят ощутить в нем то, для чего нужна поэзия, кто ощущал – знает. Конечно, хочется через эти ощущения прикоснуться к иной культуре, иной поэтике, таинственному великому имени. Переводчик не должен обмануть и этих ожиданий. Но если состоявшееся стихотворение родилось так, как я об этом говорил вначале, то он их и не обманет. Любовное восхищение подлинником предопределяет бережность и к сути, и к деталям, и к особенностям формы. Конечно, всегда остается неустранимый зазор между оригиналом и переводом. Он может быть шире или уже, это от многого зависит. Настоящий поэтический перевод, оставаясь полноценным русским стихотворением, всегда в той или иной степени несет на себе отблеск оригинала, без которого просто не мог бы возникнуть. Как несут отблеск Шекспира лучшие из маршаковских переводов его сонетов.
Получается, что профессионал и читатель (настоящий читатель, который не дал себя смутить ?знатокам?) ждут от перевода разного. Что вполне соответствует противоречивости самого этого явления: поэтический перевод. Если хотеть максимально точно передать содержание переводимого стихотворения, нужно переводить прозой. Более того, нужны обширные примечания, потому что многие оттенки даже формального смысла при любом переводе ускользают хотя бы из-за несовпадения объемов понятий в разных языках. То есть переводчик должен быть честным и квалифицированным ученым. Такого рода издания существуют, но они редки и не популярны. Ничего удивительного: читателю поэзии они не интересны, это чтение для специалистов. Впрочем, в западной культуре литературный прозаический перевод поэтических текстов распространен значительно шире, чем у нас.
А у читателя и поэта взгляды, в общем, совпадают. Поэт надеется создать чудо, читатель чуда ждет. Правда, если судить переводчика как поэта, от томов переводной поэзии не очень много останется. Тут уж ничего не поделаешь.
И всё-таки кое-что сохранится, потому что добротные, по-настоящему добротные, стихотворные переводы, даже и не ставшие чудом, несомненно, нужны. Римские копии могли быть и хуже, и лучше. Честность, внимание к оригиналу, ясность мысли, версификаторское мастерство всегда чувствуются. Очень важен, конечно, и исходный материал. Понятно, что чем больше в нем удельный вес рассказа, смыслового высказывания, воспроизводимой образности, риторичности, тем вероятней успех переводчика. Ну, а что и в оригинале-то непонятно как воздействует, что живет на грани языка, с этим справиться труднее. Эмили Дикинсон, столь любимая современными переводчиками, совершенный пример такого практически не переводимого стандартным образом поэта.
На этом можно было бы и закончить. Если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что возле поэтического перевода вертится немало людей, стремящихся самоутвердиться на этом поле любыми средствами. Собственно, такое бывает во всяком деле, но противоречивость предмета и размытость критериев тому очень способствуют. Эти люди, как правило, не умеют и не хотят судить о поэзии, не слишком хорошо понимая, что это такое. Глубокий литературоведческий анализ, требующий серьезной и вдумчивой работы, тоже не их сфера. Но и они чувствуют, что передачи поверхностного содержания недостаточно. Так появляются критерии оценки ?глубины?, так сказать, точности в том, что видно не каждому, только им, знающим. Эти оценки могут запутать и часто запутывают читателя, поэтому о них стоит поговорить.
Строго говоря, любой такой критерий – это способ ?объективизации? личного неприятия (оно может быть и вполне искренним) или, что чаще, средство борьбы за место под солнцем. Есть прием очень простой. В оригинальном стихотворении выхватывается один мотив, порой второстепенный, а то и одно слово, которые объявляются носителями сути. Если слово отсутствует в переводе или мотив слабо прослеживается, значит, перевод ?неточен?. Как будто стихотворный перевод может быть точен.
Но это как-то простовато, на белые нитки смахивает, нужно что-то посолиднее. И возникает представление о стихотворении как о некотором зашифрованном послании, которое переводчик обязан расшифровать. Не расшифровал – значит, не выполнил основную задачу.
Далек от утверждения, что в стихотворении вовсе не может быть, помимо поэзии, каких-то смысловых трудностей для понимания. Есть особенности, связанные с обстоятельствами жизни поэта, с веком, в котором он жил, с его чужой для нас страной. Неродной язык никогда не знаешь в совершенстве, и некоторые аллюзии могут ускользать. Что-то может просто пониматься неверно. Все эти детали могут быть важны, а могут оказаться и не очень важны. Совет знатока, обладающего сведениями о языке, эпохе, личности автора полезен и должен быть выслушан. Как правило, впрочем, специалисты стараются перегрузить нас избыточной информацией, начинают интерпретировать, и тут следует вовремя прекратить к ним прислушиваться. Если ты ощутил поэтическую суть стихотворения, всё остальное должно отступить. Специалиста можно слушать лишь до известного предела. Ведь, как хорошо сказал Иван Бунин, ?не слова нужно переводить, а силу и дух?.
В общем, тут нет особенного спора. Но и добиться на этом пути можно немногого. Поэтому нам говорят другое: всё это чепуха, эта ваша поэзия, а тайный смысл – вот что главное. Перевод обязан тайный смысл раскрыть. Очень смешно и горько это выглядело в советское время, когда людоведы, имевшие в ту пору власть, заставляли убирать из переводных стихотворений Бога и вставлять туда намеки на любовь к трудящимся и туманные пророчества о светлом, как бы социалистическом, будущем.
Теперь обратное. Слава Богу, не столь директивно, потому что власти у ревнителей покамест маловато. Нас пытаются убедить, что едва ли не каждое значительное стихотворение несет в себе идеи религиозные. Особенно такой подход заметен в интерпретациях Эмили Дикинсон. Восторги и мучения великой души, рвущейся через отчаяние к правде, скорбящей и смеющейся, пытаются изобразить как религиозный экстаз, а ее поэзию – как комментарий к Библии. Соответственно и переводят. Ну, и что, что перестала в церковь ходить? Так это протестантизмом была недовольна, а ее к нашему бы батюшке... Нет, я не хочу сказать, что Эмили была атеисткой, но ее отношения с Богом, живые и трудные, никак не помещаются в схемы стандартной церковной религиозности.
Не могу не вспомнить одну замечательную и весьма типичную статью о религиозности Эмили: В. Финкель. Поэзия Эмили Дикинсон и цензура в бывшем Советском Союзе (1969-1982). Слово\Word 2008, №58. Автор довольно справедливо рассуждает о запретах и адаптации, которым у нас подвергали стихи Эмили. Основная мысль статьи: Эмили – религиозный поэт, из-за этого ее мало и искаженно печатали. Автор и тут прав в том смысле, что подозрительно относились к ней, скорей всего, именно потому, что считали религиозным поэтом. У нас ведь и Библия была для служебного пользования, и Паскаля печатали со скрипом и в сокращении. Только была ли религиозным поэтом Эмили? В статье подсчитывается частота употребления религиозных терминов у нее в стихах. Их, в самом деле, немало – Эмили выросла и в большой степени жила в мире библейских образов и представлений. В качестве самой яркой иллюстрации выбирается стихотворение № 626 (по Джонсону), в котором на пространстве восьми строчек восемь раз упоминаются Бог и другие религиозные понятия. О чем же это стихотворение, которое критик, похоже, не понял? А оно говорит о том, что лирическая героиня откроет свою скорбь только Богу, который ведь никому не расскажет, разве что Сыну да Святому Духу, но это надежно, потому что Иеговы (так сказать, фамилия тройственного божественного семейства) не болтуны. Яркий пример религиозной поэзии!
Вовсе не хочу сказать, что религиозной поэзии не существует или она всегда слаба. В конце концов, существует и социальная, и революционная поэзия. Это тоже жанры поэзии, как любовная, философская, или пейзажная. Важно, чтобы это была поэзия, а не зарифмованные прописи. Поэзия, как дух, веет, где хочет, ломая границы жанров. Прописи, понятно, остаются в этих границах.
Вдобавок к религиозности, очень популярно отыскивание и выпячивание у переводимых авторов намеков на всякого рода эзотерические учения, зашифрованных пророчеств и тому подобного. Нельзя сказать, что этого никогда нет. В конце концов, Нострадамус писал стихами. И у настоящих поэтов много чего можно найти. Убежденное масонство Киплинга, к примеру, несомненно. Но настоящей поэзией стихи Киплинга становятся не потому, что они масонские. Не важно, из чего растут цветы. Они прекрасны, потому что цветы.
И уж особо популярная тема, конечно, сексуальная. Только с падением советской власти вырвалась она у нас на простор. То есть начинала было вырываться, как и во всем евро-американском мире, в начале прошлого века, но придушили. Тем безудержней отечественный разгул, у них-то все уже пообвыкли.
Молодому поколению трудно представить, в какой пуританской (только без церкви) фальши мы жили. С трудом угадывали реальность по намекам между строк дозволенных книг. Своим умом доходили до понимания того простого факта, что Пушкин вел бурную жизнь, нарушая святость множества браков. Всё заслонял супружеский подвиг Татьяны, однозначно понимавшийся как идеал. Классики, как всегда, помогали. В каждом приличном доме среди обязательных собраний сочинений стоял, к примеру, Ромен Роллан, от которого мы узнавали о гомосексуализме Микеланджело. Могли бы догадаться по Давиду, но ведь не догадывались же. Нетрадиционная ориентация Чайковского была страшной государственной тайной. В бурю взрослых страстей мы вступали с почти завязанными глазами. А теперь…
Не будем ханжами. Сексуальность – одна из важнейших основ любого творчества. Одна из важнейших, но далеко не единственная, заметим. У любого человека, тем более художника, структура сексуальности сложна и у одного не похожа на другого. Психология, сто с небольшим лет назад начавшая всем этим заниматься, продвинулась далеко. Многое стало понятно, хотя многое и запуталось. Каждый выдающийся художник изучен до обсосанности с этой стороны, хотя далеко не обо всех прекратились споры. Всегда ли стоит копаться в грязном белье, это уже вопрос этики. Но какая уж там этика! Важнейшей задачей литературоведов становится поиск намеков на сексуальные аномалии гениев. А в переводе стихов, говорят нам, всё должно выпирать наружу: тайны должны быть раскрыты и предъявлены читателю.
Ну, и понятно, ?теперь вся сила в гемоглобине?. Нужно в каждом продемонстрировать прежде всего гомосексуальность, а еще лучше бисексуальность. И продемонстрировать конкретно: раньше стихотворение интерпретировалось как обращенное к женщине, теперь из него выпирает мужской род объекта. Куда ни кинь взгляд, с пеной у рта обсуждаются важнейшие проблемы: к нему обращено или к ней, к кому именно, а то и на какие способы и детали удовлетворения страсти намекает текст. Всё это называется литературоведческим анализом, поиском адекватности поэтического перевода. Особенно комично, когда один и тот же автор, восторженно поговорив о религиозности поэта, в следующем абзаце начинает рассуждать о его сексуальных перверсиях.
Между тем, английский, к примеру, язык устроен так, что несложно написать страстное любовное стихотворение, по которому пол объекта установить невозможно. Огромное число любовных стихов так написано. А язык и мышление неразрывны. Да, стихи могут быть так построены, чтобы намеренно скрыть, и скрыть по-английски легко. Но ведь они могут и не скрывать, а просто говорить о любви, ведь любовь категория духовная, не физиологическая, несмотря на нерасторжимое сопряжение с физиологией. Особенно в старой поэзии воспевание любви как вообще любви, без адресата, не редкость. Случается, и это видно из текста, автор даже не думает о поле объекта любви. Но ?из зала кричат – давай подробности!?
Так пошлем же к черту этот зал! Ту часть его, которая кричит. Обратимся к тем, кто слушает и слышит, кто ощущает поэзию. Стихотворение пишется для себя, потому что его нельзя не написать, и для них – вслушивающихся. Перевод не исключение. Для себя, для любимой и для тех, кто слышит, поем мы свою песню. А следопыты пусть ищут.
Вот и всё о поэтическом переводе.
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай Бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости!
А. Пушкин. ?Евгений Онегин?
Стихи как люди. Как не всё в человеке сразу выходит на поверхность, так и в стихотворении. Чем богаче стихотворение, тем глубже в нем не видимое снаружи. В конечном счете, это глубинное и есть личность, богатство личности. Через любовь богатство раскрывается, и проникновению вглубь часто не бывает конца. Есть стихи, которые мы проносим через жизнь, постигая их все полнее и полнее. И, как всякая любовь, этот процесс требует участия двоих. Стихотворение отдает себя нам, но и мы отдаем себя любимому стихотворению. Каждый, для кого стихи не случайность в жизни, поймет, о чем я говорю.
И вот перед Вами стихотворение, написанное на другом языке. Великое стихотворение, возникшее в иной, не привычной с детства, языковой стихии. Стихотворение, захватившее, опьянившее Вас, вызвавшее восторг. Вы чувствуете, что это стихотворение необходимо Вам на родном, русском, языке, но его нет по-русски. Да, какие-то переводы как будто… Но это всё не то, не так, оно должно, обязано появиться на свет как Ваше дитя, Вы должны родить его сами, любовь требует. То, что родится, Вы можете потом смиренно назвать переводом.
Собственно, так должен рождаться поэтический перевод. Но так бывает не часто. Возникла профессия: поэт-переводчик. Выдаются заказы, составляются планы, издаются собрания сочинений великих мировых поэтов. Это та самая ?литературная жизнь?, которая составляет необходимое и громадное приложение к высокой литературе. Как и в любом роде литературы, удачи довольно редки и все же случаются.
В цехе, понятное дело, выработались свои представления и предпочтения. Основными задачами переводческого труда считаются правильная передача содержания и сохранение формы (размера и рифм) оригинала. Порой что-то говорится о духе, но это ведь субстанция неформализуемая и разговоры по большей части остаются разговорами. Под содержанием обычно понимается внешнее, фабульное, содержание, которое в настоящем стихотворении редко бывает первостепенно. А что касается формы, то различие языков делает задачу часто практически неисполнимой. Общеизвестны долгота и краткость гласных, определяющие ритм античной поэзии, но отсутствующие у нас в языке. Многие знают, как неохотно соглашается русский слух на имитации французской или польской силлабики. Каждый переводчик с английского понимает, как невозможно удержать содержание составленной краткими словами английской строки в русской строчке той же длины. Уж помолчим о поэзии восточной.
Всё это обходится некоторыми устоявшимися условными договоренностями да и в самом деле второстепенно. А требовать каждый раз чуда от профессионала было бы и жестоко, и бесполезно. Хотя и стоило бы вспомнить мудрые слова лучшего профессионала в истории русского стихотворного перевода Самуила Яковлевича Маршака: ?Перевод стихов — высокое и трудное искусство. Я выдвинул бы два — на вид парадоксальных, но по существу верных положения: Первое. Перевод стихов невозможен. Второе. Каждый раз это исключение?. Ах, как охаивают старика Маршака! Ах, как он упростил сонеты Шекспира! Верно, упростил. Но почитайте собственные переводы хающих. То-то!
И без чуда от перевода может быть польза. Римские копии греческих статуй V века тоже полезны, раз мы утратили оригиналы: вот так была выставлена вперед правая нога, вот так слегка повернута голова. Остальное попробуем дофантазировать: есть обломки фризов Парфенона, аттические надгробия в немногих музеях, есть настоящие, изувеченные временем, коры Эрехтейона в музее Акрополя. Мы можем, глядя на мертвые копии и сопоставляя их с подлинными обломками, представить, какими эти статуи были. По крайней мере, попытаться представить.
Давайте пока отвлечемся от эмоций и не побоимся задать простой и главный вопрос: что мы ценим в поэтическом переводе, когда признаём его удавшимся, то есть нужным, а то и любимым? Тут возможны разные ответы. Профессионал (я имею в виду, конечно, здесь заурядного профессионала, не мастера высокого уровня) скорей всего назовет главным достоинством перевода точность. И это понятно: любое ремесло нуждается в легко проверяемом критерии качества продукции.
Правда, в результате поэзия из оценок и требований вовсе выпадает и как-то походя заменяется требованием квалификации, профессионализма, которое сводится всё к тому же – передаче содержания и особенностей формы. Очень уважают такого рода ценители рифмы, желательно точные, даже если переводимый автор весьма свободен в своих отношениях с этой дамой. Что рифма лишь один из бесчисленного множества приемов звуковой выразительности, понимают не все. Что при этом порой получаются лишь по внешности стихи, ?профессионала? не смущает. Дотошная внимательность к сохранению деталей подлинника в такой ситуации – это как будто к статуе, не очень похожей на человеческую фигуру и имеющей весьма отдаленное сходство с моделью, начинают тщательно прилеплять родинки в точно тех же местах, где они у модели имеются. Ту же стратегию порой пытаются проводить и в отношении рифмы. Конечно, было бы странно оставлять нерифмованные строчки, скажем, в сонете. Но возьмем, к примеру, Эмили Дикинсон: она использовала рифму свободно, по вдохновению. Рифма то появляется, то исчезает, между этими предельными случаями множество переходов. Естественно такое же отношение к рифме и у переводящего. А ревнители требуют, чтобы рифма была точно в тех же местах, что и в оригинале.
Стилистика стихоподобных ?поэтических переводов? - тема отдельного анализа. Как-нибудь поделюсь своими наблюдениями. Обычно перевод по этим особенностям легко узнается. Конечно, можно весь анализ заменить грубоватым высказыванием Ахматовой: ?Воняет переводом?. Отсутствие этого специфического запаха – огромная редкость, которая, слава Богу, все же встречается. Такая же, собственно, редкость, как поэзия.
А что же думают непрофессионалы? Оставим в стороне поэта, который перевод создал. Просто читатели, которым в жизни нужны стихи. Естественно, их интересует прежде всего русское стихотворение (?перевод?). Они хотят ощутить в нем то, для чего нужна поэзия, кто ощущал – знает. Конечно, хочется через эти ощущения прикоснуться к иной культуре, иной поэтике, таинственному великому имени. Переводчик не должен обмануть и этих ожиданий. Но если состоявшееся стихотворение родилось так, как я об этом говорил вначале, то он их и не обманет. Любовное восхищение подлинником предопределяет бережность и к сути, и к деталям, и к особенностям формы. Конечно, всегда остается неустранимый зазор между оригиналом и переводом. Он может быть шире или уже, это от многого зависит. Настоящий поэтический перевод, оставаясь полноценным русским стихотворением, всегда в той или иной степени несет на себе отблеск оригинала, без которого просто не мог бы возникнуть. Как несут отблеск Шекспира лучшие из маршаковских переводов его сонетов.
Получается, что профессионал и читатель (настоящий читатель, который не дал себя смутить ?знатокам?) ждут от перевода разного. Что вполне соответствует противоречивости самого этого явления: поэтический перевод. Если хотеть максимально точно передать содержание переводимого стихотворения, нужно переводить прозой. Более того, нужны обширные примечания, потому что многие оттенки даже формального смысла при любом переводе ускользают хотя бы из-за несовпадения объемов понятий в разных языках. То есть переводчик должен быть честным и квалифицированным ученым. Такого рода издания существуют, но они редки и не популярны. Ничего удивительного: читателю поэзии они не интересны, это чтение для специалистов. Впрочем, в западной культуре литературный прозаический перевод поэтических текстов распространен значительно шире, чем у нас.
А у читателя и поэта взгляды, в общем, совпадают. Поэт надеется создать чудо, читатель чуда ждет. Правда, если судить переводчика как поэта, от томов переводной поэзии не очень много останется. Тут уж ничего не поделаешь.
И всё-таки кое-что сохранится, потому что добротные, по-настоящему добротные, стихотворные переводы, даже и не ставшие чудом, несомненно, нужны. Римские копии могли быть и хуже, и лучше. Честность, внимание к оригиналу, ясность мысли, версификаторское мастерство всегда чувствуются. Очень важен, конечно, и исходный материал. Понятно, что чем больше в нем удельный вес рассказа, смыслового высказывания, воспроизводимой образности, риторичности, тем вероятней успех переводчика. Ну, а что и в оригинале-то непонятно как воздействует, что живет на грани языка, с этим справиться труднее. Эмили Дикинсон, столь любимая современными переводчиками, совершенный пример такого практически не переводимого стандартным образом поэта.
На этом можно было бы и закончить. Если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что возле поэтического перевода вертится немало людей, стремящихся самоутвердиться на этом поле любыми средствами. Собственно, такое бывает во всяком деле, но противоречивость предмета и размытость критериев тому очень способствуют. Эти люди, как правило, не умеют и не хотят судить о поэзии, не слишком хорошо понимая, что это такое. Глубокий литературоведческий анализ, требующий серьезной и вдумчивой работы, тоже не их сфера. Но и они чувствуют, что передачи поверхностного содержания недостаточно. Так появляются критерии оценки ?глубины?, так сказать, точности в том, что видно не каждому, только им, знающим. Эти оценки могут запутать и часто запутывают читателя, поэтому о них стоит поговорить.
Строго говоря, любой такой критерий – это способ ?объективизации? личного неприятия (оно может быть и вполне искренним) или, что чаще, средство борьбы за место под солнцем. Есть прием очень простой. В оригинальном стихотворении выхватывается один мотив, порой второстепенный, а то и одно слово, которые объявляются носителями сути. Если слово отсутствует в переводе или мотив слабо прослеживается, значит, перевод ?неточен?. Как будто стихотворный перевод может быть точен.
Но это как-то простовато, на белые нитки смахивает, нужно что-то посолиднее. И возникает представление о стихотворении как о некотором зашифрованном послании, которое переводчик обязан расшифровать. Не расшифровал – значит, не выполнил основную задачу.
Далек от утверждения, что в стихотворении вовсе не может быть, помимо поэзии, каких-то смысловых трудностей для понимания. Есть особенности, связанные с обстоятельствами жизни поэта, с веком, в котором он жил, с его чужой для нас страной. Неродной язык никогда не знаешь в совершенстве, и некоторые аллюзии могут ускользать. Что-то может просто пониматься неверно. Все эти детали могут быть важны, а могут оказаться и не очень важны. Совет знатока, обладающего сведениями о языке, эпохе, личности автора полезен и должен быть выслушан. Как правило, впрочем, специалисты стараются перегрузить нас избыточной информацией, начинают интерпретировать, и тут следует вовремя прекратить к ним прислушиваться. Если ты ощутил поэтическую суть стихотворения, всё остальное должно отступить. Специалиста можно слушать лишь до известного предела. Ведь, как хорошо сказал Иван Бунин, ?не слова нужно переводить, а силу и дух?.
В общем, тут нет особенного спора. Но и добиться на этом пути можно немногого. Поэтому нам говорят другое: всё это чепуха, эта ваша поэзия, а тайный смысл – вот что главное. Перевод обязан тайный смысл раскрыть. Очень смешно и горько это выглядело в советское время, когда людоведы, имевшие в ту пору власть, заставляли убирать из переводных стихотворений Бога и вставлять туда намеки на любовь к трудящимся и туманные пророчества о светлом, как бы социалистическом, будущем.
Теперь обратное. Слава Богу, не столь директивно, потому что власти у ревнителей покамест маловато. Нас пытаются убедить, что едва ли не каждое значительное стихотворение несет в себе идеи религиозные. Особенно такой подход заметен в интерпретациях Эмили Дикинсон. Восторги и мучения великой души, рвущейся через отчаяние к правде, скорбящей и смеющейся, пытаются изобразить как религиозный экстаз, а ее поэзию – как комментарий к Библии. Соответственно и переводят. Ну, и что, что перестала в церковь ходить? Так это протестантизмом была недовольна, а ее к нашему бы батюшке... Нет, я не хочу сказать, что Эмили была атеисткой, но ее отношения с Богом, живые и трудные, никак не помещаются в схемы стандартной церковной религиозности.
Не могу не вспомнить одну замечательную и весьма типичную статью о религиозности Эмили: В. Финкель. Поэзия Эмили Дикинсон и цензура в бывшем Советском Союзе (1969-1982). Слово\Word 2008, №58. Автор довольно справедливо рассуждает о запретах и адаптации, которым у нас подвергали стихи Эмили. Основная мысль статьи: Эмили – религиозный поэт, из-за этого ее мало и искаженно печатали. Автор и тут прав в том смысле, что подозрительно относились к ней, скорей всего, именно потому, что считали религиозным поэтом. У нас ведь и Библия была для служебного пользования, и Паскаля печатали со скрипом и в сокращении. Только была ли религиозным поэтом Эмили? В статье подсчитывается частота употребления религиозных терминов у нее в стихах. Их, в самом деле, немало – Эмили выросла и в большой степени жила в мире библейских образов и представлений. В качестве самой яркой иллюстрации выбирается стихотворение № 626 (по Джонсону), в котором на пространстве восьми строчек восемь раз упоминаются Бог и другие религиозные понятия. О чем же это стихотворение, которое критик, похоже, не понял? А оно говорит о том, что лирическая героиня откроет свою скорбь только Богу, который ведь никому не расскажет, разве что Сыну да Святому Духу, но это надежно, потому что Иеговы (так сказать, фамилия тройственного божественного семейства) не болтуны. Яркий пример религиозной поэзии!
Вовсе не хочу сказать, что религиозной поэзии не существует или она всегда слаба. В конце концов, существует и социальная, и революционная поэзия. Это тоже жанры поэзии, как любовная, философская, или пейзажная. Важно, чтобы это была поэзия, а не зарифмованные прописи. Поэзия, как дух, веет, где хочет, ломая границы жанров. Прописи, понятно, остаются в этих границах.
Вдобавок к религиозности, очень популярно отыскивание и выпячивание у переводимых авторов намеков на всякого рода эзотерические учения, зашифрованных пророчеств и тому подобного. Нельзя сказать, что этого никогда нет. В конце концов, Нострадамус писал стихами. И у настоящих поэтов много чего можно найти. Убежденное масонство Киплинга, к примеру, несомненно. Но настоящей поэзией стихи Киплинга становятся не потому, что они масонские. Не важно, из чего растут цветы. Они прекрасны, потому что цветы.
И уж особо популярная тема, конечно, сексуальная. Только с падением советской власти вырвалась она у нас на простор. То есть начинала было вырываться, как и во всем евро-американском мире, в начале прошлого века, но придушили. Тем безудержней отечественный разгул, у них-то все уже пообвыкли.
Молодому поколению трудно представить, в какой пуританской (только без церкви) фальши мы жили. С трудом угадывали реальность по намекам между строк дозволенных книг. Своим умом доходили до понимания того простого факта, что Пушкин вел бурную жизнь, нарушая святость множества браков. Всё заслонял супружеский подвиг Татьяны, однозначно понимавшийся как идеал. Классики, как всегда, помогали. В каждом приличном доме среди обязательных собраний сочинений стоял, к примеру, Ромен Роллан, от которого мы узнавали о гомосексуализме Микеланджело. Могли бы догадаться по Давиду, но ведь не догадывались же. Нетрадиционная ориентация Чайковского была страшной государственной тайной. В бурю взрослых страстей мы вступали с почти завязанными глазами. А теперь…
Не будем ханжами. Сексуальность – одна из важнейших основ любого творчества. Одна из важнейших, но далеко не единственная, заметим. У любого человека, тем более художника, структура сексуальности сложна и у одного не похожа на другого. Психология, сто с небольшим лет назад начавшая всем этим заниматься, продвинулась далеко. Многое стало понятно, хотя многое и запуталось. Каждый выдающийся художник изучен до обсосанности с этой стороны, хотя далеко не обо всех прекратились споры. Всегда ли стоит копаться в грязном белье, это уже вопрос этики. Но какая уж там этика! Важнейшей задачей литературоведов становится поиск намеков на сексуальные аномалии гениев. А в переводе стихов, говорят нам, всё должно выпирать наружу: тайны должны быть раскрыты и предъявлены читателю.
Ну, и понятно, ?теперь вся сила в гемоглобине?. Нужно в каждом продемонстрировать прежде всего гомосексуальность, а еще лучше бисексуальность. И продемонстрировать конкретно: раньше стихотворение интерпретировалось как обращенное к женщине, теперь из него выпирает мужской род объекта. Куда ни кинь взгляд, с пеной у рта обсуждаются важнейшие проблемы: к нему обращено или к ней, к кому именно, а то и на какие способы и детали удовлетворения страсти намекает текст. Всё это называется литературоведческим анализом, поиском адекватности поэтического перевода. Особенно комично, когда один и тот же автор, восторженно поговорив о религиозности поэта, в следующем абзаце начинает рассуждать о его сексуальных перверсиях.
Между тем, английский, к примеру, язык устроен так, что несложно написать страстное любовное стихотворение, по которому пол объекта установить невозможно. Огромное число любовных стихов так написано. А язык и мышление неразрывны. Да, стихи могут быть так построены, чтобы намеренно скрыть, и скрыть по-английски легко. Но ведь они могут и не скрывать, а просто говорить о любви, ведь любовь категория духовная, не физиологическая, несмотря на нерасторжимое сопряжение с физиологией. Особенно в старой поэзии воспевание любви как вообще любви, без адресата, не редкость. Случается, и это видно из текста, автор даже не думает о поле объекта любви. Но ?из зала кричат – давай подробности!?
Так пошлем же к черту этот зал! Ту часть его, которая кричит. Обратимся к тем, кто слушает и слышит, кто ощущает поэзию. Стихотворение пишется для себя, потому что его нельзя не написать, и для них – вслушивающихся. Перевод не исключение. Для себя, для любимой и для тех, кто слышит, поем мы свою песню. А следопыты пусть ищут.
Вот и всё о поэтическом переводе.
Метки: