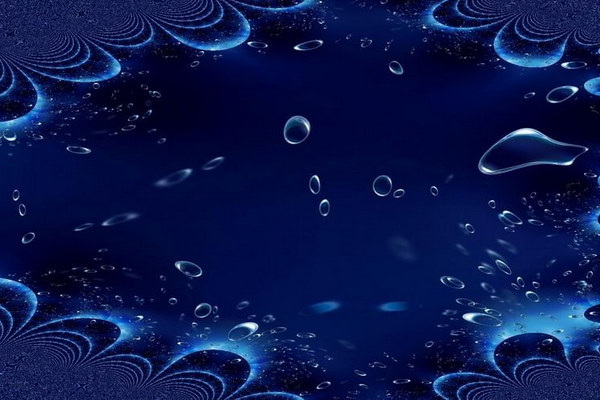Аттилио Бертолуччи. Кабинка
Взвыла скрипка Шпрингера в итальянской ночи
и ты повел нас, незрячих, скованных,
под сводами сомкнувшихся темнолистых дубов.
А рядом лежало море и на сжатых губах
наших был вкус соли. В тот день
мы впервые все вместе доверились тебе.
И когда под ясной луной зазвучала твоя импровизация,
другая эпоха встала передо мной –
изнурительная, горькая, ликующая,
эпоха поколения, что принесло себя в жертву
преступному делу.
33-й – безоблачный год
для молодежи Италии,
хоть мы и жили в ней, словно чужие.
По окончании лицея,
так и не решившись пройти,
чтоб обрести быстрое освобождение,
курсы резервистов, он присоединяется
к одному небедному семейству
и проводит больше месяца на морском побережье,
где водные велосипеды и кабинки для переодевания,
пляжные зонты и тенты,
выстроились вдоль длинного берега,
образующего полуостров.
Все влюбленные пары сами по себе в этом мире,
но, наверное, не одни мы обнимались
снова и снова, как только попадали на бульвар Морин,
освещенный тусклыми редкими фонарями,
словно хотели завернуться
в золотистый звонкий кокон нашей любви,
спастись от глуховатой, торжественной скуки
общественной жизни.
Флаги над элегантными купальнями
хлопают на ветру и обвисают,
а море нарастает, на флагах цвета всех наций:
красный и синий - милой Франции, красный и белый -
любимой Англии… и наш триколор –
бедный родственник, опрятный,
но недоверчивый. И скрипка,
умолкшая было, снова начинает,
потому что эта ночь не должна кончиться:
"Man from the south -with a big cigar in his mouth".
Я проводил тебя до дома –
хоть ты и сильней, но ты отступила,
окровавленная, безмятежная амазонка.
Твоя юность, А., ведь она не могла умереть
под кронами пиний, остаться верным
значит не предать. N., может, и не отдает себе в этом отчета,
но признает: слова, сказанные на следующее утро,
значили много - они, точно титры немого кино,
вобрали в себя эпоху, и так быстро будит от сна
ее голос, тревожно и радостно пройдя сквозь
пестро-зеленую преграду - балконную дверь,
подмешав кровь в падающее наискосок золото солнца.
Ты едва понимаешь, что она говорит:
семья должна знать, семья должна все знать,
семья должна принять ее бесповоротный выбор.
Она сделает это, со всем своим understatement,
со всем своим напором молодой женщины - пора,
хоть против еще и ее желание навсегда
остаться jeune fille. Она пишет имя, место и дату
на принесенной книге - ?Дневник Кэтрин Мэнсфилд?,
перевод на французский, с портретом писательницы
- челка над угрюмым лицом, упрямо стиснутые губы.
Новая Зеландия не так уж далеко от Нового Уэльса,
от Юга, где N. родилась в семье итальянца
и австралийки ирландского происхождения –
А. хочет найти хоть какую-то ниточку, связывающую
двух иммигранток - у обеих короткая стрижка,
смуглая кожа, обеим нелегко интегрироваться в эту
Европу, где нет веранд, выбеленных солнцем невинности.
Книга – отнюдь не все, что он получил от N.
в течение этих нескольких дней – прочитанная до половины,
со свернувшейся в трубку обложкой,
заляпанная ореховым маслом, вытекшим
из плохо закрытого пузырька –
станет свидетельством, что оно было –
это умершее лето … И жужжит
еще и сегодня самолетик,
который тащит по вечернему лиловому небу
перед глазами служанок, сонных детей
и задумчивых влюбленных - словно сделанную
на песке того времени - надпись на рекламном вымпеле,
воздушный змей, что улетает и гибнет
где-то там на остывшем западе. Наступает другая тихая ночь …
Есть еще время, чтобы почувствовать, как нарастает
снаружи и внутри меня, растянувшегося в шезлонге
под виноградными лозами, светло-зеленый всплеск
недозрелого семени. На террасе не зажжен свет -
он не захотел – а в кухне пылкая оркестровка,
там N. помогает матери и прислуге.
Там, внутри, бесконечная, недосягаемая
сладость, что заглушается порой негромкими,
неразборчивыми голосами. Он – двадцатидвухлетний жених
девушки, которой двадцать один, своей одноклассницы,
решение горячее, хоть, возможно, и благоразумное…
Следует смириться с комарами, если хочешь,
чтобы потом лягушки и сверчки, все ускоряясь,
снова и снова свершили, как сумасшедшие,
свой обряд среди впитавшей морской йод ночи.
N. знает, что после маленькой
семейной комедии, прогулки среди зарослей малины,
которая хочет вызвать хоть немного сочувствия
к слегка похожим на горы Аппенинам,
что спускаются к бесстыдному побережью,
после притворных жалоб на усталость ног,
скрещенных под столом из мрамора
(он широко здесь используется,
контрастируя с чистотой дерева и скромностью побелки),
произойдет в назначенном месте любовь.
N. думает: пока моя мать сражается
с подступающим сезоном седых волос и молодых бабушек,
я должна укрыться в объятьях,
спастись от пустоты, что уже появляется
вокруг меня. Нужно дать рассеяться
вызревшим внутри меня зернам.
Юго-западный ветер из Африки
терзает песчаную пустошь берега,
покинутую всеми, кроме N. и А.
Они безмятежны - или так только кажется - здесь,
на террасе с пляжной кабинкой:
ее подставленные ветру и брызгам
длинные ноги, его прислоненная к дверце голова,
слегка касается проржавевшего от соленой горечи дверного ключа.
А. помнит, что вечером они
собирались пойти в кино, выбор небольшой
– здесь всего два кинозала,
(но неожиданно могут попасться фильмы,
которые потом осенью будут показывать в городе –
на премьере толчея, первые вернувшиеся
возбужденные зрители, озабоченные тем,
чтобы загар продержался как можно дольше).
Но не хочет, чтобы этот блеклый, хмурый день
так и закончился без свершенного обряда любви,
и гладит ее голую спину, насколько это позволяет
закрытый черный шерстяной купальник. И почему бы
не воспользоваться этой кабинкой истомленным
и юным - его раздражает этот ключ,
но как он кстати в этих обстоятельствах,
в этом неотложном экстренном случае. Она хочет войти первой,
опережая, оставляя его одного, как ему кажется,
на столетие, в ожидании или на страже. Он впервые
видит ее голой, следы от купальника
над маленькой грудью, на талии, Его впускает,
сладко и туго, пристань, обитель покоя, в то время,
как ветер нарастает и белыми от брызг
делаются пригнувшиеся кусты тамариска.
*Шпрингер – вероятно, Max Springher – джазовый скрипач (прим. переводчика).
с итальянского перевел А.Пустогаров
оригинал
и ты повел нас, незрячих, скованных,
под сводами сомкнувшихся темнолистых дубов.
А рядом лежало море и на сжатых губах
наших был вкус соли. В тот день
мы впервые все вместе доверились тебе.
И когда под ясной луной зазвучала твоя импровизация,
другая эпоха встала передо мной –
изнурительная, горькая, ликующая,
эпоха поколения, что принесло себя в жертву
преступному делу.
33-й – безоблачный год
для молодежи Италии,
хоть мы и жили в ней, словно чужие.
По окончании лицея,
так и не решившись пройти,
чтоб обрести быстрое освобождение,
курсы резервистов, он присоединяется
к одному небедному семейству
и проводит больше месяца на морском побережье,
где водные велосипеды и кабинки для переодевания,
пляжные зонты и тенты,
выстроились вдоль длинного берега,
образующего полуостров.
Все влюбленные пары сами по себе в этом мире,
но, наверное, не одни мы обнимались
снова и снова, как только попадали на бульвар Морин,
освещенный тусклыми редкими фонарями,
словно хотели завернуться
в золотистый звонкий кокон нашей любви,
спастись от глуховатой, торжественной скуки
общественной жизни.
Флаги над элегантными купальнями
хлопают на ветру и обвисают,
а море нарастает, на флагах цвета всех наций:
красный и синий - милой Франции, красный и белый -
любимой Англии… и наш триколор –
бедный родственник, опрятный,
но недоверчивый. И скрипка,
умолкшая было, снова начинает,
потому что эта ночь не должна кончиться:
"Man from the south -with a big cigar in his mouth".
Я проводил тебя до дома –
хоть ты и сильней, но ты отступила,
окровавленная, безмятежная амазонка.
Твоя юность, А., ведь она не могла умереть
под кронами пиний, остаться верным
значит не предать. N., может, и не отдает себе в этом отчета,
но признает: слова, сказанные на следующее утро,
значили много - они, точно титры немого кино,
вобрали в себя эпоху, и так быстро будит от сна
ее голос, тревожно и радостно пройдя сквозь
пестро-зеленую преграду - балконную дверь,
подмешав кровь в падающее наискосок золото солнца.
Ты едва понимаешь, что она говорит:
семья должна знать, семья должна все знать,
семья должна принять ее бесповоротный выбор.
Она сделает это, со всем своим understatement,
со всем своим напором молодой женщины - пора,
хоть против еще и ее желание навсегда
остаться jeune fille. Она пишет имя, место и дату
на принесенной книге - ?Дневник Кэтрин Мэнсфилд?,
перевод на французский, с портретом писательницы
- челка над угрюмым лицом, упрямо стиснутые губы.
Новая Зеландия не так уж далеко от Нового Уэльса,
от Юга, где N. родилась в семье итальянца
и австралийки ирландского происхождения –
А. хочет найти хоть какую-то ниточку, связывающую
двух иммигранток - у обеих короткая стрижка,
смуглая кожа, обеим нелегко интегрироваться в эту
Европу, где нет веранд, выбеленных солнцем невинности.
Книга – отнюдь не все, что он получил от N.
в течение этих нескольких дней – прочитанная до половины,
со свернувшейся в трубку обложкой,
заляпанная ореховым маслом, вытекшим
из плохо закрытого пузырька –
станет свидетельством, что оно было –
это умершее лето … И жужжит
еще и сегодня самолетик,
который тащит по вечернему лиловому небу
перед глазами служанок, сонных детей
и задумчивых влюбленных - словно сделанную
на песке того времени - надпись на рекламном вымпеле,
воздушный змей, что улетает и гибнет
где-то там на остывшем западе. Наступает другая тихая ночь …
Есть еще время, чтобы почувствовать, как нарастает
снаружи и внутри меня, растянувшегося в шезлонге
под виноградными лозами, светло-зеленый всплеск
недозрелого семени. На террасе не зажжен свет -
он не захотел – а в кухне пылкая оркестровка,
там N. помогает матери и прислуге.
Там, внутри, бесконечная, недосягаемая
сладость, что заглушается порой негромкими,
неразборчивыми голосами. Он – двадцатидвухлетний жених
девушки, которой двадцать один, своей одноклассницы,
решение горячее, хоть, возможно, и благоразумное…
Следует смириться с комарами, если хочешь,
чтобы потом лягушки и сверчки, все ускоряясь,
снова и снова свершили, как сумасшедшие,
свой обряд среди впитавшей морской йод ночи.
N. знает, что после маленькой
семейной комедии, прогулки среди зарослей малины,
которая хочет вызвать хоть немного сочувствия
к слегка похожим на горы Аппенинам,
что спускаются к бесстыдному побережью,
после притворных жалоб на усталость ног,
скрещенных под столом из мрамора
(он широко здесь используется,
контрастируя с чистотой дерева и скромностью побелки),
произойдет в назначенном месте любовь.
N. думает: пока моя мать сражается
с подступающим сезоном седых волос и молодых бабушек,
я должна укрыться в объятьях,
спастись от пустоты, что уже появляется
вокруг меня. Нужно дать рассеяться
вызревшим внутри меня зернам.
Юго-западный ветер из Африки
терзает песчаную пустошь берега,
покинутую всеми, кроме N. и А.
Они безмятежны - или так только кажется - здесь,
на террасе с пляжной кабинкой:
ее подставленные ветру и брызгам
длинные ноги, его прислоненная к дверце голова,
слегка касается проржавевшего от соленой горечи дверного ключа.
А. помнит, что вечером они
собирались пойти в кино, выбор небольшой
– здесь всего два кинозала,
(но неожиданно могут попасться фильмы,
которые потом осенью будут показывать в городе –
на премьере толчея, первые вернувшиеся
возбужденные зрители, озабоченные тем,
чтобы загар продержался как можно дольше).
Но не хочет, чтобы этот блеклый, хмурый день
так и закончился без свершенного обряда любви,
и гладит ее голую спину, насколько это позволяет
закрытый черный шерстяной купальник. И почему бы
не воспользоваться этой кабинкой истомленным
и юным - его раздражает этот ключ,
но как он кстати в этих обстоятельствах,
в этом неотложном экстренном случае. Она хочет войти первой,
опережая, оставляя его одного, как ему кажется,
на столетие, в ожидании или на страже. Он впервые
видит ее голой, следы от купальника
над маленькой грудью, на талии, Его впускает,
сладко и туго, пристань, обитель покоя, в то время,
как ветер нарастает и белыми от брызг
делаются пригнувшиеся кусты тамариска.
*Шпрингер – вероятно, Max Springher – джазовый скрипач (прим. переводчика).
с итальянского перевел А.Пустогаров
оригинал
Метки: