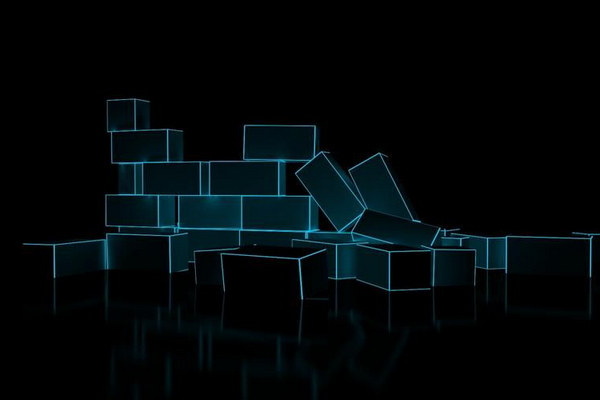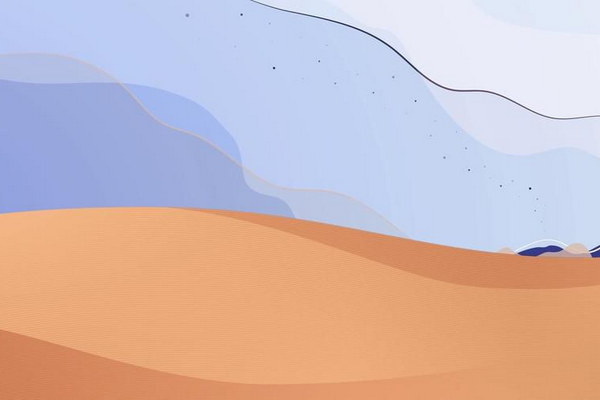Адам Загаевский. Ехать во Львов
(с польского)
Ехать во Львов. С какого перрона ехать
во Львов, если не во сне, на рассвете,
когда роса на чемоданах и собственно рождаются
экспрессы и торпеды. Вдруг выехать во
Львов, посреди ночи, днем, в сентябре
или в марте. Если Львов существует, под
покровом границ, и не только в моём
новом паспорте, если пропорции деревьев,
ясени и тополя, всё ещё дышат громко,
как индейцы, а ручьи лепечут своим
тёмным эсперанто, а ужи, как знак
мягкий в русском языке, исчезают посреди
трав. Упаковаться и выехать, вообще
без прощаний, в полдень, исчезнуть
так, как теряют сознание панни. И лопухи, зеленая
армия лопухов, а под ними, под зонтами
венецианской кофейни, слизняки беседуют
о вечности. Только кафедра возносится,
помнишь, так вертикально, так вертикально,
как воскресенье и салфетки белые и ведро
полное малины, стоящее на полу и моё
стремление, которого ещё не было,
только сады хвощи и янтарь
черешни и Фредро непристойный.
Было всегда слишком много Львова, никто не мог
понять всех районов, услышать
шёпот каждого камня, спаленного
солнцем, церковь ночью молчала совсем
иначе чем кафедра, иезуиты крестили
растения, листок за листком, а они росли,
росли без памяти, а радость скрывалась
везде, в коридорах и кофейных мельницах,
что сами вращались, в голубых
заварниках и в крахмале, который был первым
формалистом, в каплях дождя и в шипах
роз. Под окном желтел замёрзший первоцвет.
Колокола били и дрожал воздух, корнеты
монахинь, как шхуны плыли под
театром, света было так много, что он вынужден
был бесноваться бесконечно,
публика неистовствовала и отказывалась
покинуть зал. Мои тети ещё
не знали, что их когда-нибудь воскрешу,
и жили так доверчиво и так одиноко,
слуги бежали за свежей сметаной,
чистые и выглаженные, в домах немножко
злости и большая надежда. Бжозовский
приехал на лекции, один из моих
дядек писал поэму под названием ?Почему?,
посвящённую Всемогущему, и было слишком много
Львова, он не помещался в посуде,
разрывал стаканы, выливался из
прудов, озер, дымил всеми
каминами, превращался в огонь и бурю,
смеялся молниями, усмирялся,
возвращался домой, читал Новый Завет,
спал на топчане под гуцульским ковром,
было слишком много Львова, а теперь нет
его вовсе, рос стремительно, а ножницы
резали, холодные садовники, как всегда,
в мае, без пощады, без любви,
ах подождите, лишь придёт тёплый
июнь и мягкие папоротники, безграничное
поле лета то есть реальности.
Но ножницы резали, вдоль линии и поперёк
волокна, портные, садовники и цензоры
резали тело и венцы, секаторы неутомимо
работали, как в детской витынанке,
где нужно вырезать лебедя или серну.
Ножнички, ножики и бритвы скоблили,
резали и укорачивали пухлые платья
прелатов и площадей, и каменных домов, деревья
падали беззвучно, как в джунгли,
и кафедра дрожала и прощалось на рассвете
без платков и без слёз, такие сухие
уста, никогда тебя не увижу, столько смерти
ждёт тебя, почему каждый город
должен стать Иерусалимом и каждый
человек Евреем и только теперь в спешке
паковаться, всегда, ежедневно
и ехать безумно, ехать во Львов, ведь
он существует, спокойный и чистый как
персик. Львов есть всюду.
Ехать во Львов. С какого перрона ехать
во Львов, если не во сне, на рассвете,
когда роса на чемоданах и собственно рождаются
экспрессы и торпеды. Вдруг выехать во
Львов, посреди ночи, днем, в сентябре
или в марте. Если Львов существует, под
покровом границ, и не только в моём
новом паспорте, если пропорции деревьев,
ясени и тополя, всё ещё дышат громко,
как индейцы, а ручьи лепечут своим
тёмным эсперанто, а ужи, как знак
мягкий в русском языке, исчезают посреди
трав. Упаковаться и выехать, вообще
без прощаний, в полдень, исчезнуть
так, как теряют сознание панни. И лопухи, зеленая
армия лопухов, а под ними, под зонтами
венецианской кофейни, слизняки беседуют
о вечности. Только кафедра возносится,
помнишь, так вертикально, так вертикально,
как воскресенье и салфетки белые и ведро
полное малины, стоящее на полу и моё
стремление, которого ещё не было,
только сады хвощи и янтарь
черешни и Фредро непристойный.
Было всегда слишком много Львова, никто не мог
понять всех районов, услышать
шёпот каждого камня, спаленного
солнцем, церковь ночью молчала совсем
иначе чем кафедра, иезуиты крестили
растения, листок за листком, а они росли,
росли без памяти, а радость скрывалась
везде, в коридорах и кофейных мельницах,
что сами вращались, в голубых
заварниках и в крахмале, который был первым
формалистом, в каплях дождя и в шипах
роз. Под окном желтел замёрзший первоцвет.
Колокола били и дрожал воздух, корнеты
монахинь, как шхуны плыли под
театром, света было так много, что он вынужден
был бесноваться бесконечно,
публика неистовствовала и отказывалась
покинуть зал. Мои тети ещё
не знали, что их когда-нибудь воскрешу,
и жили так доверчиво и так одиноко,
слуги бежали за свежей сметаной,
чистые и выглаженные, в домах немножко
злости и большая надежда. Бжозовский
приехал на лекции, один из моих
дядек писал поэму под названием ?Почему?,
посвящённую Всемогущему, и было слишком много
Львова, он не помещался в посуде,
разрывал стаканы, выливался из
прудов, озер, дымил всеми
каминами, превращался в огонь и бурю,
смеялся молниями, усмирялся,
возвращался домой, читал Новый Завет,
спал на топчане под гуцульским ковром,
было слишком много Львова, а теперь нет
его вовсе, рос стремительно, а ножницы
резали, холодные садовники, как всегда,
в мае, без пощады, без любви,
ах подождите, лишь придёт тёплый
июнь и мягкие папоротники, безграничное
поле лета то есть реальности.
Но ножницы резали, вдоль линии и поперёк
волокна, портные, садовники и цензоры
резали тело и венцы, секаторы неутомимо
работали, как в детской витынанке,
где нужно вырезать лебедя или серну.
Ножнички, ножики и бритвы скоблили,
резали и укорачивали пухлые платья
прелатов и площадей, и каменных домов, деревья
падали беззвучно, как в джунгли,
и кафедра дрожала и прощалось на рассвете
без платков и без слёз, такие сухие
уста, никогда тебя не увижу, столько смерти
ждёт тебя, почему каждый город
должен стать Иерусалимом и каждый
человек Евреем и только теперь в спешке
паковаться, всегда, ежедневно
и ехать безумно, ехать во Львов, ведь
он существует, спокойный и чистый как
персик. Львов есть всюду.
Метки: